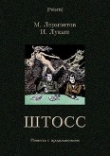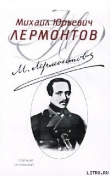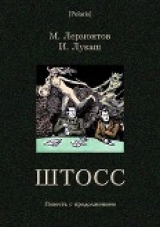
Текст книги "Штосс
(Повесть с продолжением)"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Соавторы: Иван Лукаш
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Он поднял свечи и его взгляд случайно упал на портрет полковника. Серые глаза, как показалось ему, смотрели с грустной благодарностью. Красных букв «середа» внизу портрета не было. Они исчезли. У Лугина сжалось сердце.
– Мне виделись буквы, – сказал он, ставя кенкет на ломберный стол.
– Ну – что же, стало быть, я сошел с ума, вот и все…
Он сел к столу и взял лист бумаги. Он подумал, что следовало бы написать кому-нибудь о своем необычайном двойном существовании и о своих необъяснимых видениях. Но, что писать, когда он сумасшедший и никто его не поймет и никто ему не поверит?
Он отложил белый лист и стал пересчитывать свое серебро и червонцы. На три ставки достанет.
Все было тихо вокруг. Огни трех свечей, горевших ярко и спокойно, внезапно качнулись, легли: в покое повеяло холодом и Лугин услышал знакомый легкий скрип двери, ведущей в пустую гостиную.
За дверью пошуршали туфли; обе половинки стали тихо приотворяться, дверь сама отворилась настежь, и из соседней комнаты, где было темно, как в погребе, показался ночной игрок. Он слегка светился серым светом.
Его мутные глаза смотрели прямо, без цели. Холодом веяло от него. Он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против себя, а другую против Лугина.
В эту минуту Лугин почувствовал легкое дыхание, огненное прикосновение. На мгновение он обернулся. Полупрозрачная, прекрасная, как утренняя звезда, она сияла вблизи него и проступала сквозь нее стена комнаты. Необъяснимая радость охватила Лугина.
Старик слегка вздохнул, обдал Лугина мертвым холодом.
– Не угодно ли, я промечу? – сказал он, срезая колоду.
– Мечите. Темная.
И Лугин положил на карту червонец. Они играли в совершенном молчании. Лугин чувствовал ее дыхание. Карта Лугина была убита. Старик протянул бледную, слегка дрожащую руку и взял золотой.
– Еще талью, – быстро сказал Лугин, зная, что проиграет.
Старик молча поклонился и начал тасовать колоду.
– Позвольте, – внезапно сказал Лугин, прикрывая свою колоду рукой. – Что я хотел сказать… Да, позвольте… Сначала расскажите мне, как вы погубили Горовецкого.
Старик молча вздохнул, продолжая тасовать карты, которые скользили и шелестели в его руках. Он не спускал с Лугина магнетических недвижных глаз.
– Позвольте, – бормотал Лугин. – Все это игра… Это вымысел, вздор… Я понимаю, что вас нет. Отнюдь. Вас не существует вовсе. Я сошел с ума и выдумал вас. Вы мой вымысел, так же как и…
Он уже обернулся к той, чье дыхание касалось его виска, он готов был сказать «как нет и тебя», но различил яснее, чем раньше, ее бледно-сияющее лицо с восточными чертами, прядь волос, едва темнеющую под белым шарфом, окутывавшем ее как чаршаф, и содрогнулся от жалости и тоски. Он понял, что если скажет: «Тебя нет», она исчезнет навсегда.
– Вы изволили что-то сказать? – послышался глухой голос старика. – Может быть, я мешаю вам? Ради одного вашего развлечения я навещаю вас, но ежели вам сие досаждает, тогда извольте, мы уйдем.
Старик беспокойно пошевелился.
– Нет, – вскрикнул Лугин. – Нет, прошу вас, играйте.
И он подвинул червонцы, потемневшие от его рук.
– Извольте, – согласился старик, сдавая карты.
Тогда Лугин понял, что ни одной карты не будет ему дано, что он проиграет, старик все равно уведет от него сияющее видение, и погаснет все навсегда. Может быть, ночь, или две ночи, он будет еще ждать ее, а потом убьет себя от невыносимых страданий разлуки.
– Бита, – вежливо сказал старик. Лугин проигрывал свою жизнь.
– Талию!
Лугин придвинул последнюю ставку. Червонец покатился, упал на паркет с вонзающимся звоном.
За что он взялся, что он может сделать, бедный сумасшедший? Слезы выступили из-под припухших век Лугина. Его спутанные влажные волосы, его изможденное желтое лицо было освещено свечами. Он почувствовал дуновение на своем виске обернулся.
Точно с каждым его проигрышем, с каждым поражением она воплощалась сильнее. Ее немые уста умоляли. На ресницах сияла слеза.
Отдать за нее жизнь, – чего легче, – но если бы перевернуть все, не проиграть, а выиграть ее, победить.
Победить, пусть старик сама мировая тьма, – смерть, – победить и смерть, ради нее.
Седая голова старика, стриженная ежом, отблескивала железными, синими огнями. «Господи, как же мне победить его», – подумал Лугин и внезапно самые простые истории пришли ему на ум, рассказы о солдатах, игравших в карты с чертями.
Он представил себе того служивого, костлявого, с усищами, с недостающим передним зубом, бодро и смело игравшего в свои козыри с чертом. Лугину стало так весело, что он уже не страшился старика.
Он следил за рукой противника, кидающего карты. Оборотни, наваждения, силы тьмы властны над людьми, когда их страшатся. Победить свой страх, уже победа.
– Постойте, – сказал Лугин, кладя горячую руку на холодную руку старика. – Постойте, милостивый государь… А что, если я…
– Что вам угодно-с, – проворчал старик, силясь освободить руку.
– А что, если я вас… Вот я вас…
Лугин лукаво и счастливо рассмеялся:
– Я вас перекрещу…
Старик стал вывертывать руку и опрокинул тресвечник. Свечи покатились полу, мигая синими огнями.
Они схватились во тьме.
– Во имя Отца и Сына и свя… – крикнул Лугин.
Вдруг ворвался ветер, стужа кинулась в спальню, что-то загрохотало и точно пронеслись над Лугиным смутные факелы.
Он открыл глаза. Над ним, со свечой в руке, стоял старый камердинер Никита.
XI
– Барин, родимый, что с вами приключилось, – заботливо бормотал камердинер, подавая Лугину воду.
– Где старик? – Лугин обвел глазами спальню. Кресла были опрокинуты. Ломберный стол завалился в угол. Карты, монеты, мелки разбросаны на полу. Погасший трехсвечник закатился под постель.
– Никакого старика нету, – говорил Никита, помогая Лугину встать. – Померещилось вам… Пойдем, барин, хороший, пойдем…
– О чем ты?
– А вот пойдем… В каморку мою… Как хотите, хоть в цепи куйте меня, а иначе я не мог.
Они вошли в каморку, на кухне. Никита поднял над койкой свечу, и Лугин увидел там чье-то вытянутое тело, прикрытое зимним сюртуком камердинера.
– Как принес, так и лежит, – сказал Никита.
Лугин взял от него свечу и склонился к койке.
Перед ним лежала молодая женщина, вернее, подросток. Ее голова покоилась на нечистой подушке, темные волосы, сбитые вбок, были похожи на подогнутое и мягкое птичье крыло.
Лугин узнал это бледно-сияющее лицо с восточными чертами, эти ресницы. Лихорадочный румянец горел на ее впалых щеках.
С восхищением и ужасом едва дотронулся он до ее холодной полудетской руки. На мизинце было помятое медное колечко с вдавлинкой от потерянного камушка.
Она была в самом бедном ситцевом платье, закиданном снегом, и в потертой ветхой шубейке мещанки, с заячьей опушкой, облезшей во многих местах. На ее ногах были башмаки, явно чужие, неуклюжие, с обледенелыми ушками. Чулки, прорванные у колен, тоже были в снегу. Ее грудь, обмотанная куском нечистой кисеи с погасшими блестками, дышала ровно. Ее худое плечо и рука были в синяках.
Это было его божественное видение, утренняя звезда, она воплотилась. Едва он мог провести рукой вдоль ее полудетского худого тела.
Никита растопил камин, согрел простыни. Они перенесли ее в спальню. Лугин сидел с Никитой у постели, слушая ее дыхание.
– Как вы прогнали меня, – говорил Никита вполголоса, – я малость того: запил. От обиды. А только думал: «Барин без меня пропадет, надобно и домой». И вышел я из подливной, что у Кокушкина моста, а она и лежит, в самом снегу, шаль с нее сорвана. Видать, что избитая, то есть в беспамятстве. Собрался, конечно, народ. А она лежит, руки разметаны. Одни говорят: «Пьяная девка, гулящая, как душу ей выколотили». Смеются. А другие говорят: «Непорядок». А я смотрю на нее и у меня слеза бежит, как избита она. И какая она девка, когда вовсе ребенок. Потом один портной из немцев сказал: «Я ее знаю», – сказал, – «она в цирке, который тут стоял, сквозь обруч с коня прыгала. В обруче натянута бумага, она ее головой разрывала. Цирк ушел, а ее, стало быть, бросили». Тогда я сказал: «Я знаю, куда ее нести» и поднял на руки. Мне никто не препятствовал. Я и понес…
На рассвете она пришла в себя. Медленно, как бы вспоминая, обвела она глазами комнату и ее взгляд остановился на Лугине.
Он понял, что и она узнала его.
– Ваше имя, – тихо сказал Лугин, едва касаясь ее руки.
Она кротко улыбнулась, как-то жалко пошевелились губы. Она была глухонемой.
XII
Некоторые подробности этих необычайных событий могут быть найдены в петербургских журналах того времени. Действительно, в декабрьских выпусках 1841 года «Санкт-петербургских ведомостей», а также в «Северной пчеле», в обзоре столичных происшествий, раза два-три упоминается Столярный переулок и дом титулярного советника Штосса, упоминаемые и в неоконченных записках Лермонтова..
В одной из заметок подробно рассказано, например, о самоубийстве владельца недвижимости в Столярном переулке, господина Штосса. Дворник, принесший к нему дрова, нашел Штосса зарезавшимся бритвой на полу прихожей своей квартиры, куда вернулся Штосс из долговременной отлучки накануне ночью.
В другой заметке, озаглавленной «Двойная жизнь самоубийцы», рассказано о полицейском дознании, установившем, что отставной титулярный советник Штосс представлял собой фигуру весьма таинственную, даже странную. Он выезжал из столицы на целые месяцы, якобы за границу или на теплый воды. На самом же деле хорошо, по-видимому, изучивши таинственное учение о животном магнетизме – «столь модное нынче в Париже», добавляет заметка, – титулярный советник Штосс имел от того приватные заработки, показывая под вымышленными именами различные магнетические опыты в заезжих цирках. При опытах Штосса ему служила некая молодая девица, как рассказывают, венгерка по происхождению. Любопытнее всего, что молодая особа скрылась в ту самую ночь, когда Штосс зарезался.
XIII
Лугин справлялся о глухонемой и в квартале, и в главной полиции.
В полиции сказали, что точно стоял в Петербурге один проезжий цирк, который ушел намедни в Австрию. В том цирке Штосс и показывал свои магнетические опыты; там точно была канатная плясунья ила наездница из венгерок, по имени Габриель, исчезнувшая в ночь самоубийства. Но девицу Габриель, по квартальному дознанию, вытащили утопшей из полыньи на Неве. Ничего другого Лугин в квартале не узнал.
А между тем, в его кабинете, среди подрамников и холстов, пестрых шалей и гипсовых рук, среди хлама мастерской, светилось теперь неземным светом лицо его чудесной гостьи, и свет как бы двигался с нею, когда она проходила по его небогатым покоям.
Но чаще она лежала в углу его кабинета, на постели, которую он ей уступил, или сидела в потертых вольтеровских креслах, закутанная в английский плед. Она была больна.
В черном сюртуке, в шинели нараспашку, не замечая никого и ничего, как радостно одержимый, проносился иногда Лугин по улицам столицы с бедными подарками для своей гостьи. Однажды, в самую стужу, он принес ей два холодных, в инее, апельсина, в другой раз бедную, пожухшую от мороза гроздь винограда, завернутую в тонкую бумагу. Лугин стал точно бы сквозящим, он как бы просиял и нежно и прекрасно светилось теперь его некрасивое лицо.
В 1841 году в Столярном переулке свершилось чудо воплощения, неземное видение света стало земным существом, с худым полудетским телом, – неизвестной глухонемой девушкой, умирающей от чахотки. И если не было такого немыслимого чуда, а одни только случайности столпились вокруг Лугина, все равно, он верил, что чудо свершилось.
Лугин понимал, без страдания и отчаяния, что его гостья умирает; теперь он знал, что уже никогда больше не потеряет найденной любви.
Все, что случилось с ним, было так необычайно, что он забыл свои знакомства и сам, забытый всеми, уединился от всего света в Столярном переулке с глухонемой и старым камердинером.
Она уже не покидала постели, и ее белые атласные туфельки, подарок Лугина, стояли нетронутыми, как бы неживыми, на коврике.
Однажды, в светлый зимний день, Лугин вернулся к себе и услышал из кабинета странное пение. Он вошел туда.
Глухонемая полусидела на постели и пела.
В ее песне, совершенно детской, невнятной, едва ли было две-три ноты, но лились они в такой божественно-светлой гармонии, что Лугин, остановившийся на пороге, подумал, что и у сил небесных, духов бесплотных, тот же чистейший и бедный напев.
Глухонемая увидела его и не перестала петь. Точно она желала ему рассказать что-то, чего он не понимал. Лугин наклонился к ней и она стала целовать ему руки.
Глухонемая не раз желала что-то сказать ему, и тогда ее сияющее лицо слегка-слегка и жалостно искажалось. Не мог понять Лугин этих легких, этих птичьих криков.
А № 27 по Столярному переулку, где умирала глухонемая девушка, может быть, цирковая наездница Габриель, бездомная венгерка, принесенная с улицы старым камердинером, осенился такой любовью, что дыхания и света ее, как думал Лугин, достанет еще на тысячи тысяч человеческих жизней и после него, на веки веков.
Примечания
Иван Созонтович Лукаш (1892–1940) – прозаик, поэт, драматург, критик, художник-иллюстратор. Родился в семье отставного ефрейтора Финляндского полка, участника русско-турецкой войны, работавшего швейцаром в петербургской Академии художеств. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Дебютировал как поэт-эгофутурист (сб. Цветы ядовитые, 1910). В период Гражданской войны воевал в Добровольческой армии, печатался в газ. Юг России, Голос Таврии. В эмиграции с 1920 г., жил в Турции, Болгарии, Чехии, с 1922 г. в Берлине. В конце 1925 г. переехал в Ригу и до весны 1927 г. был соредактором газеты Слово; в том же году перебрался в Париж, где стал сотрудником газ. Возрождение. Широко публиковался в эмигрантской периодике, выпустил ряд сборников рассказов и очерков, несколько исторических романов.
Лаконичная повесть И. С Лукаша «Штосс» не привлекла в свое время никакого внимания присяжных лермонтоведов. В «Лермонтовской энциклопедии» (1981) о ней нет ни слова, возможно, по причине эмиграции и политических взглядов автора. Повесть осталась практически неизвестна и читателям (как, впрочем, и значительная часть наследия Лукаша, высоко ценимого в эмиграции и недооцененного на родине). Единственное зарегистрированное переиздание состоялось на страницах казахстанского журнала Простор (№ 6, 1989).
Повесть, увидевшая свет в декабре 1932 г. на страницах газеты Возрождение, была не первой попыткой Лукаша так или иначе продолжить классиков. За десять лет до этого, в берлинском сборнике рассказов «Черт на гаупвахте», он опубликовал рассказ «Карта Германна», своеобычное продолжение пушкинской «Пиковой дамы». Но, говоря о продолжениях, нужно и оговориться: Лукаш нигде не выступает прямым продолжателем и никогда не подхватывает на полуслове оборванный предшественником текст. Его Германн – лишь призрак, пушкинский сюжет повторен в декорациях рубежа веков. С такой же свободой Лукаш действует и в «Штоссе»: местами цитирует, местами пересказывает лермонтовский отрывок, делает самого Лермонтова героем повествования и знакомцем героя, художника Лугина и, наконец, дает в своей повести не что иное, как анализ лермонтовского фрагмента – и одного из основных мотивов русского романтизма в целом. Вынесенная в подзаголовок его «Штосса» романтическая повесть – не обозначение жанровой принадлежности, а указание на предмет анализа.
Проще всего, должно быть, увидеть в Лугине незадачливого игрока, запутавшегося в дьявольских сетях – и прочесть весь лермонтовский отрывок как историю рокового поединка романтического влюбленного одиночки с судьбой, как рассказ о большой игре. Такова, в конце концов, «Пиковая дама», откуда вышел и лермонтовский «Штосс». Таковы «Призраки» – опубликованное в 1897 г. продолжение «Штосса», написанное неким «князем Индостанским»[1]1
См.: Лермонтов М., князь Индостанский. Призраки: Повесть с продолжением. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017.
[Закрыть].
Лукаш видит в Лугине – автопортрет Лермонтова: от физического, телесного сходства, фатальной некрасивости, недоверия к женщине и неверия в возможность стать объектом любви до единого для обоих «неясного, темного и тяжелого чувства» обделенности и «обиженности естеством». Он решительно отметает представление о Лугине-игроке – автопортрет Лермонтова может быть только изображением устремленного к идеалу художника. Кажущийся на поверхностный взгляд необязательным лермонтовский фон – Италия, маленькие картины, наброски женской головки – выходит на передний план.
Так же решительно Лукаш расправляется с дьявольщиной. Его старичок-картежник – отнюдь не мелкий бес или демон, а чарующая Габриель, наделенная именем архангела – не призрак, морок «князя Индостанского». Штосс у Лукаша – воплощение тенет, тварной косности самой материи; фигура Габриель – олицетворение традиционной для русского романтизма «падшей Софии». Ее освобождение из плена становится делом жизни Лугина; путь к нему, по Лукашу, лежит через религиозное прозрение.
Лукаш вряд ли прошел мимо созвучия Лугин-Лугаш, тем более усиленного «Защитой Лужина» (1929-30) его друга и соавтора В. В. Набокова. С другой стороны, прозрачность, просквоженность Лугина из повести Лукаша сказалась, как нам кажется, в Цинциннате Ц. из набоковского «Приглашения на казнь» (1935–1936).
А. Шерман
* * *
«Штосс» М. Ю. Лермонтова публикуется по изд.: Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений в пяти томах. Том V: Проза и письма (М.-Л.: Academia, 1937).
«Штосс» И. С. Лукаша был впервые напечатан в №№ 2744 (6 декабря), 2748 (ю декабря), 2752 (14 декабря), 2756 (18 декабря), 2758 (20 декабря) и 2761 (23 декабря) газеты «Возрождение» за 1932 г. Публикуется по этому изданию с исправлением очевидных опечаток; орфография и пунктуация приближены к современным нормам.
* * *
На фронтисписе – иллюстрация к «Штоссу» В. Бехтеева. В оформлении обложки использована иллюстрация А. Бенуа к «Пиковой даме» А. Пушкина.