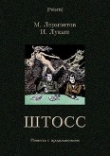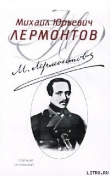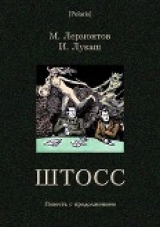
Текст книги "Штосс
(Повесть с продолжением)"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Соавторы: Иван Лукаш
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
И. Лукаш
ШТОСС
Романтическая повесть
I
Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями.
В такое утро через Кокушкин мост шел человек средних лет, одетый со вкусом.
Это был Лугин, уже два месяца как вернувшийся в Петербург из Италии, где он лечился от ипохондрии и где пристрастился я к живописи.
Лугин имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы. Лермонтов впервые и застал его на музыкальном вечере у одного графа, после того как Лугин уже две недели проскучал в сыром Петербурге, жалуясь на сплин. Все люди казались ему желтыми, почти как в галерее испанской школы. Наконец, на вечере у графа он удивил внезапным признанием одну свою приятельницу, которая была там в черном платье с бриллиантовым вензелем на голубом банте, по случаю придворного траура.
– Знаете ли, – сказал ей Лугин с важностью, – что я начинаю сходить с ума.
– Право?
– Кроме шуток. Вам это можно сказать. Вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера и, – как вы думаете, что? Адрес. Вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира нумер 27, – и так шибко, шибко, – точно торопится… Несносно.
В то ноябрьское утро, вымочивши в грязи и снеге свои тонкие сапоги, Лугин и бродил по Столярному переулку, куда привел его странный голос.
Что-то говорило Лугину, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видел. Так он добрался до конца переулка, когда вдруг заметил над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи. Под воротами дворник, в долгополом, полинявшем кафтане, седой, с давно небритой бородой, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.
– Эй, дворник, – закричал Лугин.
Дворник что-то проворчал сквозь зубы.
– Чей это дом?
– Продан, – отвечал грубо дворник.
– Да чей он был?
– Чей? Кифейкина купца.
– Не может быть. Верно, Штосса, – воскликнул невольно Лугин.
– Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса, – отвечал дворник, не поднимая головы.
У Лугина руки опустились.
Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Отыскавши дом, таинственно указанный ему, он испытал чувство падения в пропасть, когда мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.
Из расспросов сумрачного дворника, которому был сунут целковый, Лугин узнал, что новый хозяин Штосс в доме как будто не живет, а живет «черт его знает где», и что квартира № 27 уже несколько лет как стоит пустой.
Последним жильцом там был «полковник из анжинеров», как сказал дворник.
– Отчего же он не жил?
– Да переехал было… А тут, говорят, его послали в Вятку, – так нумер пустой за ним и остался.
Дворник сказал ему и о других жильцах этой квартиры: один умер, другой разорился.
«Странно», – подумал Лугин.
Он пожелал посмотреть квартиру номер 27 и дворник повел его во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они вошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая, пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были, на зеленом грунте, красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамами рококо; вообще, комнаты имели какую-то странную, несовременную наружность.
– Я беру эту квартиру, – сказал Лугин и заметил в эту минуту на стене поясной портрет, изображавший человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами и большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины; на пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью; платье, волосы, рука, перстни – все было очень плохо сделано, зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать.
«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, когда сказал, что беру квартиру», – подумал Лугин.
Он сел в кресло, опустил голову на руки, забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.
– Что же, барин, – проговорил он наконец.
– А?
– Как же? Коли берете, так пожалуйте задаток.
Лугин задаток дал и в тот же день перебрался из гостиницы, где жил до того, на новую квартиру.
До двенадцати часов он, со своим старым камердинером Никитой, расставлял вещи. Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.
Перед тем, чтобы лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько и прочитал внизу, вместо имени живописца, красными буквами: «Середа».
– Какой нынче день? – спросил он Никиту.
– Понедельник, сударь.
– Послезавтра середа, – сказал рассеянно Лугин.
– Точно так-с.
Бог знает почему, Лугин на него рассердился.
– Пошел вон, – закричал он, топнув ногой.
Старый Никита покачал головой и вышел.
II
В числе недоконченных картин, большей частью маленьких, перевезенных Лугиным в Столярный переулок из гостиницы, был этюд женской головы, который появлялся в разных углах холста, хотя и замазанный коричневой краской.
Лермонтов придает этому эскизу особое значение, предполагая, что Лугин, может быть, старался осуществить в нем свой идеал женщины, женщины-ангела.
Любопытно, что всеми своими странностями, так же, как душевным складом и даже внешностью, Лугин был похож на самого Лермонтова.
Во всем его существе вы бы не встретили ни одного из тех условий, который делают человека приятным в обществе. В странном выражении его глаз было много огня и остроумия, но он был неловко и грубо сложен, говорил резко, отрывисто: он был далеко не красив, с больными редкими волосами и неровным цветом лица.
Наружность Лугина в самом деле была так же непривлекательна, как и наружность Лермонтова. Они оба были дурны собою и, вероятно, именно это и создало у них с юности глубокое и застенчивое недоверие к женщине, вместе с наивно-горькой мыслью, что их «любить не могут».
А все же, по-настоящему, жизнь Лугина только в том и заключалась, чтобы отыскать истинную любовь, хотя степень его безобразия исключала, по его мнению, возможность такой любви и он уже стал смотреть на женщин, как на природных своих врагов, подозревая в их случайных ласках побуждения посторонние.
Но он всегда искал ту неведомую и ненаходимую, которая совершеннее и прекраснее всего на свете, совершеннее самого естества, – ту, голову которой он и набрасывал во всех углах холста, скрывая ее потом под коричневой краской. Лугин, как и многие другие стареющие холостяки, одинокие мужчины и женщины, страшился любви и всегда жил мыслью о ней.
Случалось, что женщины его обманывали. Тогда его застенчивое недоверие сменялось злобой оскорбленного человека.
Лугин был истинным художником и обладал прекрасным талантом, но как и у Лермонтова, какое-то неясное, темное и тяжелое чувство дышало во всех его работах.
В этом – тяжелом – сказывался недуг постоянный и тайный, снедавший одинаково и того и другого. Они оба чувствовали себя пасынками, обойденными естеством, и обойденными в самом главном – в бессмысленной телесной красоте и в бесхитростном здоровье.
Они оба не были удовлетворены или были обижены естеством, и это тайной горечью всегда отравляло все их чувства, до исступления.
III
Во вторник, во второй день после переезда в № 27, с Лугиным ничего особенного не случилось: он до вечера продома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его. Голова болела, звенело в ушах.
Когда смерклось, он не велел подавать свечей и сел у окна, которое выходило во двор.
Во дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна. Он долго сидел; вдруг во дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс.
Небывалое беспокойство овладело Лугиным. Он бросился на постель и заплакал: ему представилось все его прошедшее.
А около полуночи того же дня внезапно изменилось само существование Лугина, оно стало совершенно странным и совершенно необычайным.
Около полуночи он начал рисовать при свече голову старика, и когда кончил, его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым. Он поднял глаза на портрет, висевший против – сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся: ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери. – «Кто там?» – вскрикнул он.
За дверьми послышался шорох, как будто шлепали туфли; известка посыпалась с печи на пол. «Кто это?» – повторил он слабым голосом.
В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворилась сама; в той комнате было темно, как в погребе.
Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой, сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было недвижно, губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймой, смотрели прямо, без цели. И вот он сел у стола, против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.
Мысли Лугина смешались, но все же он подумал: «Если это привидение, я ему не поддамся».
– Не угодно ли? Я вам промечу штосс? – сказал старичок.
Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и ответил насмешливым тоном:
– А на что же мы будем играть? Я вас предваряю, что душу свою на карты не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение).
– У меня в банке вот это! – отвечал старик и протянул руку.
– Это? – сказал Лугин, испугавшись. Он кинул глаза налево. – Что это?
Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное.
– Мечите! – сказал Лугин, оправившись. – Идет, темная.
Так началась их странная ночная игра.
Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.
– Еще талью, – сказал с досадою Лугин.
Старик покачал головой.
– Что же это значит?
– В середу, – сказал старичок.
– А, в середу? – вскрикнул в бешенстве Лугин. – Так нет же, не хочу в середу. Завтра или никогда, слышишь ли?
Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.
– Хорошо, – наконец, сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая.
IV
Во вторую полночь опять раздался шорох туфлей, кашель старика и в дверях показалась его мертвая фигура.
За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.
Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем.
Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг опомнился.
– Позвольте… – сказал он, покрывая рукой свою колоду.
Старичок сидел неподвижен.
– Что, бишь, я хотел сказать?… Позвольте… Да!..
Лугин запутался.
Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:
– Хорошо… Я с вами буду играть… Я принимаю вызов… Я не боюсь… Только с условием: я должен знать, с кем играю. Как ваша фамилия?
Старичок улыбнулся.
– Я иначе не играю, – проговорил Лугин; а меж тем, дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.
– Что-с? – проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.
– Штосс? – это… – у Лугина руки опустились. Он испугался.
В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое, огненное прикосновение. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам: он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты; но этого минутного взгляда было бы довольно, чтобы заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное видение: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли; в ее глазах была тоска невыразимая; она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного; никогда смерть не уносила из мира ничего, столь полного пламенной жизни; то не было существо земное, то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства.
Божественным созданием молодой души было это видение, когда душа, в избытке сил, творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.
Тогда Лугин решился играть, пока не выиграет; эта цель сделалась целью его жизни.
Старичок стал метать; карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.
– Завтра, – сказал Лугин.
Старичок вздохнул тяжело, кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.
Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась.
Всякую ночь Лугин проигрывал, но ему не было жаль денег: он был уверен, что, наконец, хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши. Он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свидания, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой.
Всякий раз, когда карта Лугина была убита, видение оборачивалось к нему. Ее глубокие глаза, казалось, говорили: «Смелее, не падай духом, подожди: я буду твоею, во что бы то ни стало, я тебя люблю», – и жестокая, молчаливая печаль покрывала своею тенью ее изменчивые черты.
И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтобы поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо будет на что-нибудь решиться. Он решился…
На – «он решился» – и оборваны все эти записки Лермонтова о Лугине, помеченные 1841 годом.
V
Он решился прорвать тенета наваждения, когда стоял утром у зеркала с намыленной щекой. Он посмотрел на свое желтое лицо с потускневшими беспокойными глазами, которые ему показались глазами чужого существа. В нечистом ватошном халате поверх нижнего белья и в туфлях на босу ногу, он был похож на сидельца сумасшедшего дома.
Нечто необъяснимо-ужасное пересекло его жизнь, захватило его и, если не прорваться ему сквозь наваждение, он неминуемо погибнет.
Ради одного неясного видения, едва светившегося перед ним, каждую ночь все безнадежнее и безвыходнее проигрывает он самого себя, но если бы тысяча жизней и тысяча душ были у него, он так же отдал бы их все за одно чувствование ее полувоплощенного дыхания, за ее полуосуществленные движения, ради того, чтобы сверхъестественное божественное создание стало жить естественным существом, пусть сам он погибнет.
– Смелей, не упадай духом, я тебя люблю, – повторял Лугин сам себе ее воображаемые слова и слеза бежала по его небритой намыленной щеке.
Ради нее он ничего не может решить, выхода нет. Ему стало жаль себя горькой жалостью и захотелось ему услышать голоса людей, может быть, слова утешения.
Запахнувшись в халат, он пошел по комнатам.
– Никита, – позвал он. Гулкий голос показался ему жалующимся и чужим.
Никто не отвечал. Была не смята постель в каморке старого слуги. На столе стоял шандал с нетронутой свечой. Бархатного картуза Никиты с кожаным козырьком и его зимнего сюртука не было на крюке. Лугин вспомнил в каморке, как в припадке непонятного раздражения сам прогнал от себя Никиту. Огорченный старый камердинер, что и раньше случалось при их ссорах, ушел, как видно, в самовольную отлучку.
Лугин вернулся в спальню. Совершенно один в запертой пыльной квартире, он уже потерял чувство времени: месяц ли прошел с того дня, как он поселился в № 27, или несколько дней, выходил он или нет, что он делал, продавал ли вещи, обедал ли, спал ли, сменялась ли ночь дневным светом? Он не знает, и живет он только тогда, когда возникает перед ним двойное ночное видение, – сгорбленный, приседающий старичок в полосатом сером халате – хладное видение тьмы, – и другое, – сноп сияющего света, за которое он отдаст жизнь и душу. Он сходит с ума.
– Я схожу с ума, я сумасшедший, сумасшедший.
И Лугина охватил такой страх, что ему захотелось метаться, исступленно звать на помощь, но он только сжал со всей силой кулаки и посмотрел на себя в зеркало, тонко и сомнительно усмехаясь.
Нарочно театральным движением оправил он волосы тощей и нежной рукой и отошел от зеркала тихо.
Он точно играл с тем, другим, трясущимся от страха сумасшедшим с желтым лицом, выглянувшим на него из зеркальной тьмы.
– Нет-с, нет-с, господин Лугин. – шептал он. – Вы не крикнете, не позовете на помощь… Или вас схватят, свяжут, будут бить… Смирительная рубашка, желтый дом, навеки… О, нет-с!
С той же тонкой, лукаво-безумной улыбкой Лугин вышел из спальни.
Он стал метаться по комнатам, совершенно бесшумно, мягкими кругами, как ходит, например, в клетке черная пума. Он оправил постель, одернул портьеры на окнах, начал одеваться. В его движениях было нечто воровское, словно он боялся, что застигнут его на каком-то преступлении.
В черном сюртуке, который он надел, тщательно выбритый и совершенно бледный, он стал торжественным и страшным.
Он стер с лезвия мыло, несколько раз дохнувши на него для блеска, сложил бритву и сунул черенок в карман.
В эту минуту он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он содрогнулся, поджался. Весь напряженный, он покосился назад.
Человек лет сорока, в бухарском халате, с правильными чертами лица и большими серыми глазами, смотрел на него с того поясного портрета, который его поразил еще в первый день.
VI
Стоя на кожаном кресле, подвинутом к портрету, Лугин рассматривал и эту дурно написанную золотую табакерку необыкновенной величины и множество разных, вероятно, фальшивых перстней на пальцах неизвестного. Он внимательно вглядывался в полное и простое лицо человека и в линию его рта, которая точно дышала ласково и грустно, и в его серые глаза.
Лугин вспомнил, как недавно рисовал голову старика. Между неизвестным и стариком, навещающим его по ночам, не было никакого сходства.
Лугин бесшумно спрыгнул с кресел.
– Старик путает мои мысли… Это не старик, это кто-то другой…
Он подошел к окну и прижался лбом к ледяному стеклу. На дворе, в холодном тумане, ходил дворник, посыпая красным песком дорожку к воротам.
Внезапно Лугин с усмешкой отомкнул форточку в окне. Холодный пар ворвался в спальню. Из всех сил хотелось крикнуть Лугину, но он прикусил губу, чтобы унять волнение, и окликнул дворника тихо и вежливо:
– Эй, эй, послушай!
Дворник в долгополом, полинявшем кафтане поднял голову к окну.
– Зайди, братец, ко мне, на минутку, – позвал его Лугин.
Дворник угрюмо кивнул головой.
Совершенно бесшумно промчался Лугин по комнатам, расставляя кресла, подвигая на место стол, точно скрывая следы преступления, – всего необъяснимо страшного, – что творилось в полутемной квартире.
В прихожей у кухни, он осторожно повернул в замке ключ и отпер входную дверь. Он ждал дворника с затаенным дыханием. Его правая рука была в кармане, где лежала бритва.
На черной лестнице послышались шаги, потом брякнул звонок. Лугин бесшумно и быстро отпахнул дверь. Дворник отшатнулся с невнятным бормотанием:
– Эво, барин.
– Входи, братец, входи, – торопливо сказал Лугин, потирая руки. – Ты мне очень нужен. Пойдем-ка.
– Куда итти-то? – с угрюмой тревогой попятился дворник, прискаливши желтоватые зубы.
– Пойдем, пойдем.
И Лугин потащил его за холодный рукав кафтана. Бледное лицо Лугина пылало. Они бежали по комнатам, задевая кресла. Дворник неуклюже стучал валенками, подбитыми кожей.
В спальне Лугин повернул его лицом к портрету и пронзительно крикнул, сжимая в кармане черенок бритвы:
– Кто такой, кто на портрете?
Дворник посмотрел на портрет, потом со страхом на Лу-гина:
– Известно кто. Полковник из анжинеров. Я вам сказывал.
– Полковник… Тот инженерный полковник, которого послали в Вятку…
– Вятку, не в Вятку, нам неизвестно. А только, как он переехал сюда, так и пропал… Тот самый и есть. Тут и вещи евонные остались и портрет.
– Вот что, – прошептал Лугин. – Хорошо. Тогда ты можешь идти.
Дворник повернулся и уже застучал валенками в соседней комнате.
Лугин остался один.
«Середа», заметил он внезапно красные, припавшие одна к другой буквы внизу портрета.
– Постой, – крикнул Лугин с раздражением. – Какой сегодня день?
– Известно, середа, – послышался голос дворника из кухни.
– Середа, середа…
Внезапное бешенство охватило Лугина. Он бросился за дворником, но в прихожей остановился, в ужасе прижал палец к губам. Дворник уже ушел. Лугин озирался, бормотал. Измученно блистали его глаза.
– Выдал, выдал себя… Придут, схватят…
Он сел на ларь у дверей и заметил тогда, что у него в руке раскрытая бритва. Он сунул бритву в карман.
– Ну что ж, если я сумасшедший, тогда пусть придут… Все равно…
Он бормотал и плакал. Его бледное лицо было вдохновенно, прекрасно.
VII
«Не все ли равно, как погибнуть, – думал Лугин, бродя по комнатам. – К чему, в самом деле, сопротивляться приседающему старичку? Пусть он берет, что хочет, – его душу – только бы привел еще раз с собою сияющее видение».
Все движения Лугина стали покорными, нежными. Он открыл свою дорожную шкатулку. Там еще нашлось три елизаветинских червонца, один надпиленный. Лугин вспомнил, что серебряная мелочь есть и в секретере.
Он собирал все, что у него было, для последней ставки, для последней партии сегодняшней ночью.
Секретер красного дерева со скрипом откинулся на медных позеленевших шарнирах. «А ведь это секретер полковника», – подумал Лугин и начал торопливо отпирать пыльные ящики. В одном лежал заржавленный ключ с обломанной бородкой, в другом кусок сургуча, черный от копоти, и стопка пожелтевших изорванных листков. Лугин нашел еще там пару военных перчаток из пожелтевшей замши и миниатюру, обернутую в посекшийся шелк. Все это было похоже на маленькое кладбище.
На миниатюре был изображен тот же человек, что и на портрете, только в черном мундире военного инженера, с серебряным аксельбантом, какие носили лет десять назад, в 1830 году.
В ящике Лугин нашел и надорванную казенную подорожную в Вятку, на полковника Павла Горовецкого.
Лугин сидел у секретера, разглаживая грубую синюю бумагу подорожной. Он думал, что Горовецкий, как и он, проигрывал старику жизнь ради сияющего видения и, вероятно, погиб, как теперь погибнуть ему.
– Нет, нет, – вскрикнул Лугин.
Он набрал в горсть мелкого серебра, встал и пошел в прихожую.
С ужасной торопливостью обвязал он шею гарусным шарфом и накинул шубу.
VIII
Под воротами сумрачный дворник посмотрел на него в окно.
– Послушай, братец, – смущенно и хитро сказал Лугин. – Ты еще подумаешь, чего доброго, что барин-де спятил…
Лугин притворно рассмеялся:
– Я крикнул на тебя так, – ради шутки… На вот, возьми…
Дворник молча принял деньги и прикрыл окно.
От снега была светло-серебряной улица. Над лошадьми и прохожими курился пар. Полозья со звоном раскатывались в блистающих, как бы отполированных колеях.
Прошло трое солдат в киверах, подернутых инеем, с заиневшими орлами. Им обдавало красные, веселые лица морозным дыханием.
Иногда падали легкие звездинки снега. От снега светлая улица блистала так, точно была уставлена огромно-звонкими зеркалами.
Запах снега и морозная бодрость освежили Лугина. Прохожие оглядывались на него с удивлением.
Молодой ванька, с таким же багряным, веселым лицом, как у солдат, с отмороженными синими пятаками в придачу на щеках, хлопал, согреваясь, сыромятными рукавицами, со всей силы оплетая себя вокруг тела руками.
– В инженерное управление, – сказал Лугин, застегивая у санок потертый бархатный шнур медвежьей полости.
Побежали мимо решетки канала в снегу, барки с дровами и рыбный садок на канале, заваленные снегом, фонари, нагоняющие одна другую извозчичьи лошади. Лоб Лугина ломило от холода. Он провел рукой по заиневшим волосам: он забыл надеть шапку.
Торопливо обмотал Лугин голову гарусным шарфом.
– Вот, случай, – нарочно, с громким смехом, сказал он в управлении швейцару. – На Неве шапку ветром сорвало.
– День тихий, а бывает, ваше благородие, – ответил черноусый солдат с серебряной медалью на шее. – Дозвольте, вашу шубу приму.
В темной канцелярской приемной были еще просители. Приятно и тихо позванивали иногда шпоры.
Военный чиновник с изумленным бледным лицом выслушал Лугина, просил обождать и куда-то скрылся.
Выглянул еще чиновник, лысый, в узком мундире:
– Вы, сударь, наводите справку о полковнике Горовецком Павле?
– Да.
– Обождите, – сказал второй чиновник, тоже скрываясь.
Потом Лугина провели в другое отделение, где было светлее. Генерал в черном мундире с эмалевым белым крестом на шее, сухощавый старик с ввалившимися глазами, протянул Лугину через стол холодную руку.
– Прошу вас садиться, милостивый государь. Вы изволите быть родственником полковника Горовецкого?
– Так точно, ваше превосходительство, ближайшим. Три года я провел в Италии, а по приезде узнал, что Горо-вецкий исчез. Между тем, есть к нему надобности по вопросам владения, наследства…
Лугин смело повторил генералу все то, что вымыслил на извозчике.
– Я должен вас весьма огорчить, господин Лугин.
Только теперь услышал Лугин легкий немецкий акцент генерала.
– Ваш родственник, полковник Павел Горовецкий, хотя мертвые и не судимы, оказался недостойным офицером. По командировке в Вятку ему были выданы на руки некоторые казенные суммы. Он не отчитался в сих суммах, проиграл или, простите, пропил их… Тело вашего родственника было найдено на постоялом дворе под Петербургом: Горовецкий зарезался бритвой.
– Вот как. Бритвой, – повторил Лугин и рассмеялся внезапно.
Инженерный генерал с изумлением посмотрел на него.
– Бритвой, – повторял Лугин, отходя с поклонами, спиной, к дверям кабинета.
Он не заметил, как черноусый солдат накинул на него шубу.
– Пошел! – с бешенством крикнул он извозчику, прыгая в сани.
Так вот чем кончится его невероятная любовь, погоня за видением. Он желал, чтобы бесплотное совершенство стало совершенством во плоти, чтобы воплощенные видения заселили мир, вытеснили из него всю тьму и хаос, чтобы сверхъестественное стало естественным. Он желал сочетания земного с неземным светом. Для одного того он и жил.
Но он проиграет свою ставку, – жизнь, как тот полковник, как толпы его предшественников, которым суждено было когда-нибудь и где-нибудь на земле поселяться в номере 27, в доме Штосса по Столярному переулку.
У всех людей с недоделанной жизнью, с недосозданными образами оказываются всегда их недовоплощенные видения тем же оборотнем, темным ночным старичком, беспощадно уничтожающим все. Такие люди гибнут, как художники, не осилившие трудного темного материала, чтобы просквозить, осветить его, – чтобы преобразить его в сверхъестественную гармонию.
Он полоснет себя бритвой по шее, и все. Лугин содрогнулся от короткого сухого рыдания.
Извозчик с круглой седой бородою, в ледяшках, с бледно-голубыми моргающими, замерзшими глазами, обернулся к нему.
– Пошел, пошел, – сразу оправился Лугин.
– И-и, барин, все пошел, да пошел, а куда, так не сказываешь.
– В Столярный переулок, – крикнул Лугин.
У ворота дома он отпустил извозчика.
«Дом Штосса, дом Штосса, – вспомнил он вдруг. – Чего же я мучаюсь, ведь это дом Штосса».
Штосс, Штосс, Штосс, стучало ему в виски, когда он миновал двор, когда вошел в свой подъезд. Квартира хозяина была площадкой выше, в третьем этаже.
«Штосс, Штосс, – думал Лугин, подымаясь туда. – Если Штосс тот самый старик, я его зарежу и все объяснится. Вот и бритва со мною».
Черный черенок, отогревшийся в кармане, Лугин переложил в карман жилета. Он решительно дернул потертый бархатный шнур звонка. Звонок звякнул глухо. Лугин прислушался. Не подошел никто.
Тогда он посмотрел в замочную скважину: из тьмы в лицо повеяло холодом.
В это мгновение Лугин услышал за собой чье-то порывистое дыхание, обернулся. За ним стоял дворник, поднявшийся на площадку.
– А, это ты? – с притворным равнодушием сказал Лугин.
– Барин, а барин, чего ты тут ищешь?
– Что ты, братец? Или следишь за мной? Я желал повидать хозяина, господина Штосса.
– Да когда нет Штосса в квартере.
– Как нет?
– Хозяин в отъезде, я сказывал. И квартера нм заперта.
– В отъезде… Странно.
Тут он заметил, что в руке у него раскрытая бритва, и смутился ужасно.
– Ну, что ты так смотришь? Не видишь, бритва… Я ему подарок принес… Вот, передай. Так и скажи, от господина Лугина подарок.
С этими словами он отстранил дворника и сбежал на нижнюю площадку. Он запер за собой дверь на два поворота ключа.
IX
Уже наступили ранние зимние сумерки. Лугин чувствовал такую усталость, что, не снимая шубы, засыпанной снегом, сел на ларь в прихожей.
Он ничего не решил, ничего не узнал и он погибнет, как погиб Горовецкий, как все те, кто попадался в эту квартиру. Он – арестант номер 27, он приговорен к смерти.
В сумерки запела во дворе поздняя шарманка. Она сипло играла какую-то итальянскую мелодию, как бы стертую и чем-то напоминающую очень поношенное и знакомоуютное платье. На третьей-четвертой ноте шарманка остановилась, споткнулась и, выдохнувши жалобно, умолкла.
А Лугину все казалось, что в морозных потемках, на стуже, поет, едва призванивая, шарманка ту самую мелодию, которую он слышал в Италии, в безветренный, горячий день, когда солнце матово вспыхивает на гроздях лиловочерного винограда, в недвижной листве.
Этому маленькому полоуродцу, подкорченному на ларе, сумасшедшему художнику, этому человеку, жаждавшему, как и Сын Человеческий, сочетания земного со светом неземным, воплощения бесплотного, преображения тьмы смертной в вечный свет воскресения, сиплая мелодия шарманки слышалась, как райская песня о том, чему не сбыться на земле никогда.
Все недовоплощенное, чего он не умел воплотить, и все недосозданное им, обернулось и для него ночным противником, душегубом с кошачьими вздохами и тихим смешком.
В 1841 году, в ном. 27 неминуемо погибнет еще один побежденный сын человеческий.
Голова Лугина была такой ясной, точно он читал все эти слова в торжественной старинной книге.
X
Уже в совершенной темноте, Лугин встал. Он сбросил шубу на ларь и зажег три свечи под кенкетом.
С тресвечником он прошел в спальню. Еще раз почувствовать огненную теплоту той, увидеть еще ее чудно-прекрасные черты, источник необъяснимого света, – и все равно, как погибнуть, – только бы доле не существовать поодаль от нее.