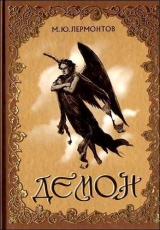
Текст книги "Демон"
Автор книги: Михаил Лермонтов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Сказочная Русь. Иллюстрированная серия
Предисловие
В борьбе с затертостью
Самое печальное, что может произойти с признанным художественным произведением, – его накроет «затертость». То, что мы читаем в школе, расставляется в пространстве нашего эстетического опыта мебелью, вызывает привычку повседневного, лишается свежести.
Лермонтову в этом смысле не везет так же, как и другим классикам, – его талант попадает в золотую клетку обязаловки, и редкий выпускник средней школы может, открыв книгу, почувствовать от этого что-то кроме утомления.
Хуже всего перспективы у «Героя нашего времени»: настолько сильно роман укоренен в школьной программе, с ее сочинениями и ответами у доски.
Несколько оптимистичнее я смотрю на «Демона». Его «проходят» раньше, читают не так яростно и успевают забыть к тому моменту, когда начинается особенно травматичная полоса выпускных экзаменов.
Хорошо, что «Демона» забывают, этим текстом почти не мучают школьников.
Плохо, что «Демона» забывают, ведь это очень здорово написанная поэма.
Бывают люди, знаменитые только тем, что они знамениты. А «Демон» известен потому, что его написал Лермонтов? Или Лермонтов потому для нас Лермонтов, что он написал «Демона»?
Можно попробовать разобраться честно и всерьез, не отсылая к дутым авторитетам и избегая полунамеков и ускользающих формулировок.
Последние сто лет то, что мы сейчас сделаем с поэмой Лермонтова, принято называть остранением. Это когда смотрят на привычное как на незнакомое, освежая восприятие.
Вглубь текста
Что нужно знать, отправляясь в путешествие вглубь текста?
Во-первых, то, что «Демон» – это поэма. Поэма отличается от стихотворения тем, что в ней мы видим рассказанную историю. Ее можно пересказать своими словами. Со стихотворением так не выйдет. Как пересказать «Тучи» («Тучки небесные, вечные странники!») того же Лермонтова или «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» Пушкина? Не получится. Просто будет непонятно, что там происходит. Или придется не пересказывать их, а повторять слово в слово.
Для нас привычно, что истории рассказываются прозой – в повестях и романах. А зачем рассказывать историю в стихах? Стихотворная форма состоит из неестественных условностей: слова нужно ставить в странном порядке, связывать их созвучиями, то есть говорить не как в жизни. Следовать этим условностям – это сложный навык, умение, доступное не всем, как художнику необходимо владение академическим рисунком. Такая форма обеспечивает сопротивление материала. А тому, что сделано с трудом, мы всегда и почти бессознательно придаем бо́льшую, чем обычно, ценность. Статус рассказа в стихах выше, чем у рассказа в прозе: прозой любой сможет.
Пушкин в «Онегине» еще сверх того усложнил себе задачу: обязался следовать необходимости воспроизводить особый порядок рифмовки – онегинскую строфу. В «Демоне» Лермонтов обошелся без таких дополнительных усложнений, но подчеркнул в подзаголовке, что именно рассказывает историю, а не делится впечатлениями и чувствами, как бывает в стихах.
Лермонтов сомневался. В черновиках «Демона» даже есть авторская помета: «Я хотел писать эту поэму в стихах: но нет. – В прозе лучше». Но все же автор остановился на стихотворной форме.
Подзаголовок звучит как «Восточная повесть». «Повесть» – как раз потому, что история. «Восточная» – потому, что во времена Лермонтова у историй ценились экзотические декорации, заимствованные из далеких стран. Здесь перед нами развертывается не какой-то условный Восток, а именно Кавказ, предмет пристального внимания русских писателей: «Аммалат-бек» Бестужева-Марлинского, «Хаджи Мурат» Толстого. Если бы Лермонтов был французским или английским поэтом, его повесть разыгрывалась бы в пейзажах Персии или Египта.
Причем начинается рассказ в условном надмирном пространстве, откуда, скорее всего, видна вся земля, а Демону доступна любая точка в подлунном мире, ведь он вершит свои злые дела в любом месте, не считаясь ни с естественными, ни с административными границами. Но дальше фокус сужается, и рассказчик концентрируется на Кавказе. Зачем? Затем, чтобы было интереснее, чтобы было больше точечных деталей, без них повествование довольно быстро стало бы бестелесным и расплывающимся. Конкретика всегда придает интереса тексту. Известно, что у Фета не бывает деревьев или птиц вообще, это всегда конкретные виды:
Ласточки пропали,
А вчера зарей
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.
Это не просто так. Фет знает поэтический секрет.
Во-вторых, нужно знать, что тексты никогда не существуют в вакууме. Они «разговаривают» друг с другом, всегда отзываются на что-то, что было высказано раньше, передают эстафету в будущее, спорят с предшественниками или продолжают их традицию, закладывают основу для дальнейшего разговора. За Лермонтовым, например, последует Маяковский, который через сто лет после автора «Демона» напишет стихотворение «Тамара и Демон»:
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Здесь Маяковский обращается к воображаемой княжне Тамаре, рассчитывая, что его читатель уже знаком с «Демоном». В этом он отзывается на стихи предшественника. Но отзывается полемически, потому что сравнивает прекрасный женский образ с паровозом. Для любителя технологий Маяковского это сравнение не обидное, но все же для поэтической традиции странное. В год смерти Лермонтова друг Пушкина Пётр Андреевич Вяземский писал:
Двух паровозов, двух вулканов на лету
Я видел сшибку: лоб со лбом они столкнулись,
И страшно крякнули, и страшно пошатнулись —
И смертоносен был напор сил двух громад[1].
Вот более привычный образ паровоза – огнедышащая громадина, вулкан, совсем не хрупкая девушка. С таким и любит спорить Маяковский.
Подобно Маяковскому, Лермонтов тоже рассчитывает на то, что читатель узнает некоторые тексты-предшественники и посмотрит на его повесть на этом фоне. Прежде всего в читательском багаже нужен «Фауст» Гёте, история про то, как к образцовому человеку по имени Фауст приходит демон, чтобы испытать его.
Из «Фауста» в «Демона» переходят элементы пьесы, когда в тексте вдруг появляются обозначения говорящего, как будто это текст, написанный для постановки в театре:
Тамара
О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..
Демон
Ты прекрасна!
Тамара
Но молви, кто ты? отвечай…
У Гёте так же:
Мефистофель
Нет, что ни говори, а плох наш белый свет!
Бедняга человек! Он жалок так в страданье,
Что мучить бедняка и я не в состоянье.
Господь
Ты знаешь Фауста?
Мефистофель
Он доктор?
Господь
Он мой раб[2].
Но это просто сигнал литературного родства. Главное в другом: в том, что и Демон существует не сам по себе, а на фоне Мефистофеля (и тем самым обретает в сознании читателя дополнительный объем), и Тамара – на фоне Фауста, и весь сюжет Лермонтова диалогизирует с сюжетом Гёте. В конце главного произведения главного немецкого поэта Фауст делает то, чего от него хочет Мефистофель, тот собирается забрать душу человека, – но являются ангелы и отбивают у него заглавного героя. Финалы «Фауста» и «Демона» рифмуются, но то, что предшествует финалу, выглядит у русского поэта совсем иначе. Мефистофель и Фауст изображены как близкие приятели, весело проводящие время вместе. А Демон для Тамары – хищный соблазнитель.
В-третьих, нужно знать, что текст «Демона» гораздо больше, чем то, что мы обычно читаем в книге (даже в этой самой книге). Мы привыкли воспринимать классический текст как застывший материал, воспроизводимый из издания в издание в неизменном виде. На деле же все тексты рождаются и растут, претерпевают по мере роста множественные изменения, трансформируются и живут. У нас не всегда есть возможность проследить, как проходит этот рост, для этого автор должен сохранить для нас свои черновики. Чаще они теряются. Но от «Демона» такие предварительные материалы остались. Лермонтов думал над поэмой долго и несколько раз предпринимал попытки свои размышления записать. Каждая такая попытка называется редакцией, то есть самостоятельной версией поэмы, и обычно мы читаем только последнюю.
Два сюжета
Итак, «Демон» – это поэма. Поэма – это история. В историях всегда бывает сюжет.
У «Демона» два сюжета. Один – «горизонтальный», привычный со школы и прочитываемый каждым, кто берет в руки книгу, протянутый от начала к концу текста. Другой – «вертикальный», от одной редакции к другой. Вертикальный сюжет развивается на наших глазах, на видео этот эффект называют time-lapse. Одни элементы истории появляются, другие исчезают, какие-то присутствуют в ней всегда, то есть остаются самыми сильными, устойчивыми, наиболее важными.
Так, первоначально Демон (этот образ – константа повествования) соблазняет не восточную княжну, а монахиню. Соблазнение бесом обитателя монастыря – традиционный сюжет, хорошо знакомый читателю средневековой литературы. В древнерусской книжности такого много, например в «Киево-Печерском патерике».
В ходе дальнейшей эволюции поэмы девушка остается монахиней (сила литературной традиции!), но получает углубленную историю, превратившись в монастырскую жительницу после потери возлюбленного по вине Демона. То есть «монахиня» перестало быть для нее единственным определением, а на первый план выдвинулось другое – княжна. Мотив тоже узнаваемый, в «Повести о Петре и Февронии Муромских» жена князя Павла страдает от внимания змея (одно из демонических воплощений в литературе).
Вот привычная нам картинка знакомства с главным героем:
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой.
А вот как Лермонтов знакомит нас с Демоном за десять лет до этого, в четвертой редакции:
По голубому небу пролетал
Однажды Демон. С злобою немой
Он в беспредельность грустный взор кидал,
И вспоминанья перед ним толпой
Теснились.
Почти то же самое, но не совсем. Поздний Демон – уставший от всего пенсионер («и зло наскучило ему»), а ранний еще дышит злобой и далек от выгорания в совершении своих демонических дел. Но с этим Демоном в ранней редакции соседствует голубое небо. Это странно. Во-первых, определение банальное. Оно еще в фольклорных песнях такое. Во-вторых, небо – естественная среда обитания не демонов, а ангелов. Поэтому, совершенствуя текст, Лермонтов показывает нам Демона на фоне земли, на которой тот и резвится.
А вот образ воспоминаний как толпы Лермонтову представляется уместным, он сохраняется до самого финального варианта. Это что-то вроде толпы докучливых людей-просителей, собравшихся вместе в тесной приемной у высокого чиновника или богатого человека.
Что еще потерялось по ходу развития вертикального сюжета? Вплоть до третьей редакции Лермонтов повторяет определение Демона, которое звучит как «беглец Эдема», но затем от него отказывается:
В полночь, между высоких скал,
Однажды над волнами моря
Один, без радости, без горя,
Беглец Эдема пролетал.
(Первая редакция.)
В полночь, между холодных скал,
Однажды над волнами моря
Один, без радости, без горя,
Беглец Эдема пролетал.
(Вторая редакция.)
Тут только скалы из высоких стали холодными. Так мир, в котором перемещается Демон, становится менее уютным.
А в третьей редакции изменения заметнее:
Однажды, вечером, меж скал
И над седой равниной моря,
Без дум, без радости, без горя,
Беглец Эдема пролетал
И грешным взором созерцал
Земли пустынные равнины,
И зрит: белеет под горой
Стена обители святой
И башен странные вершины.
«Беглец Эдема» – сейчас так уже не говорят, потому что имеется в виду «беглец из Эдема», то есть из рая. Но старое употребление глагола «бежать» и его производных допускало отсутствие предлога, как у Пушкина: «и тленья убежит».
Отсюда же и прилагательное «центробежный», то есть «бегущий [от] центра».
И еще одну деталь может заметить современный читатель в этом фрагменте из раннего варианта «Демона», строчку «над седой равниной моря», которая отзовется в «Песне о Буревестнике» Горького:
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
Лермонтов понадобился Горькому потому, что у обоих речь идет о могучих бушующих силах, новый текст подкрепляется мощной традицией, опирается на нее. Но Горький берет не привычного «Демона», а раннюю редакцию, как раз чтобы избежать той самой затертости, с которой мы начали.
Как в «Слове о полку Игореве» есть выделяемое при чтении место, которое порой выносят в отдельное произведение, «плач Ярославны», так и в «Демоне» есть его клятва, чеканный стих которой производит особенное лирическое впечатление, затертость которому не грозит, несмотря на необходимость заучивать на уроках литературы:
Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой…
Сходный по лирическому напряжению и перекликающийся с клятвой тематически текст – это надпись над вратами ада из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь третья):
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья[3].
Последняя строка широко известна в другом переводе: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».
Эти тексты перекликаются, так как в них обоих речь идет от первого лица, и лица адского: у Лермонтова говорит Демон, а у Данте вещает сам ад. Но есть и пересечения в деталях: «вечной правды торжеством» – «Был правдою мой зодчий вдохновлен»; «ангелов бесстрастных» – «вечные созданья»; «первою слезой» – «первою любовью». Наконец, Демон у Лермонтова клянется адом – тем самым, которому дано слово у Данте. А так как это стихи, важно, что и первые строки рифмуются между собой:
Клянусь я первым днем творенья…
Я увожу к отверженным селеньям…
Загадки поэмы
Иногда поэму Лермонтова называют загадочной. Почему? Что в «Демоне» непонятно?
Главная неясность (намеренная) в том, был ли у Демона злой умысел погубить Тамару. Обманывает ли герой, произнося свою клятву? Если да, то Ангел в финале предотвращает преступление против невинного создания. Но если нет, то получается, что намерения Демона были чисты, а Ангел творит несправедливость.
Если следить за развитием замысла от редакции к редакции, то этот вопрос только усложняется. В ранних версиях автор исходит из логики противостояния Ангела и Демона. Эта логика очень простая, прозрачная. Ее легко просчитать, предсказать. Ангел – добро, Демон – зло. И никаких клятв коварное зло не произносит.
Но затем происходит усложнение. Ангел из схемы выводится вовсе. Демон остается один на один со своей скукой и сражается с ней, то есть с собой.
В финальном варианте хорошо читается, что Демон давно мертв (про человека мы бы сказали «мертв в душе», но есть ли у Демона душа, доподлинно неизвестно). Его существование блеклое и безрадостное. Он вспоминает про прошлое вместе с ангелами, может быть, не столько потому, что тогда жил добром, сколько потому, что ему были доступны эмоции:
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил…
Мифологические представления рисуют жителей загробных миров такими высушенными и лишенными настоящих ощущений. Чтобы снова ощутить жизнь, этим мертвецам нужно напиться теплой крови.
В литературе этот мотив тоже есть. В «Острове пингвинов» Анатоля Франса пребывающий в загробном мире Вергилий говорит: «Я никогда особенно не верил тому, что сам рассказывал обо всем этом в “Энеиде”. Воспитанный философами и физиками, я предчувствовал, каково истинное положение дел. Жизнь в преисподней чрезвычайно ограниченна; здесь не испытывают ни радости, ни страдания; существуют как бы не существуя. Мертвые обладают здесь только тем бытием, каким их наделяют живые. И все же я предпочел остаться здесь».
В книгах отечественного фантаста Сергея Лукьяненко о дозорах воплощена концепция реальности как системы слоев (они называются слоями Сумрака), по которым могут путешествовать сильные волшебники (Иные). На шестом слое находится загробный мир, который изображен схожим образом:
– Разве тебе не нравится рай, который ждет Иных после смерти?
Вместо ответа я нагнулся, сорвал травинку. Сунул ее в рот, прикусил. Травяной сок был горьким… вот только немножко недостаточно горьким. Я прищурился и посмотрел на солнце. Солнце сияло в небе, но его свет не ослеплял. Хлопнул в ладоши – звук был самую малость приглушен. Я вдохнул полной грудью – воздух был свеж… и все же в нем чего-то не хватало. Оставалась легкая затхлость, будто в покинутой квартире Саушкина…
– Здесь все чуть-чуть ненастоящее, – сказал я. – Не хватает жизни.
Эту приглушенную «ненастоящесть» испытывает и Демон. Именно с ней он борется в поздних версиях поэмы, а не с враждебными ангелами.
Кому должен сочувствовать читатель: Тамаре или Демону? От этого зависит, счастливым мы считаем финал поэмы или печальным. С одной стороны, хочется, чтобы героиня осталась на стороне добра, с другой – судьба, которую ей обещал Демон, тоже по-своему привлекательна.
На этот вопрос у автора нет ответа. Само по себе балансирование, подобно канатоходцу, на тонкой опоре – это важный шаг в литературной эволюции, которая обогащает читательский опыт, двигаясь от черно-белых оценок к серой зоне неоднозначных выводов. Этот путь начат Мильтоном в его поэме «Потерянный рай», в ней тоже есть свой Демон – Сатана, который должен быть плохим, но только вот читатель почему-то смотрит на него с сочувствием.
Но даже если читатель примет трактовку, что Демон повинен в преступлении, то пусть помнит: в литературе описаны не реальные поступки, а некоторая «картинка», суммирующая предшествующие литературные традиции и полемику с ними. Демон – не преступник, погубивший живых людей, а поэтический образ, нарисованный таким под давлением традиции.
Борис Орехов
Демон
I
I
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый…
И много, много… и всего
Припомнить не имел он силы!
II
Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.
III
И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, – и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь Божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.
IV
И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины[4],
Звонко бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И всё, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.
V
Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил…
Трудов и слез он много стоил
Рабам послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой[5],
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.
VI
Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом;
Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна́[6], и льются вины —
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют – и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.
VII
Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.
VIII
В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б – и вздохнул…
IX
И Демон видел… На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался – и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог…
Забыть? – забвенья не дал Бог:
Да он и не взял бы забвенья!..
X
Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи[7], – кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман…
Прибавил шагу караван.
XI
И вот часовня на дороге…
Тут с давних лет почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под ночною тьмою,
Уста невесты целовал.
Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше – выстрел! – что такое?..
Привстав на звонких[8] стременах,
Надвинув на брови папах[9],
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк – и как орел
Он кинулся… и выстрел снова!
И дикий крик, и стон глухой
Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!
XII
Затихло всё; теснясь толпой,
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не придут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под Божьей тенью отдохнет…
XIII
Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый!
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке[10] его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес, как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!
XIV
В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал…
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..
XV
На беззаботную семью
Как гром слетела Божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы…
Что жизни мелочные сны,
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!
На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!
Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, —
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать…»
XVI
Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг…
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл – ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, всё еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик – о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!..
II
I
«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест…
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну, сжалься надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня Спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.
На свете нет уж мне веселья…
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня…»
II
И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Всё беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он… но – куда?..
III
В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был – и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной,
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.
IV
На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,








