
Текст книги "Принц вечности"
Автор книги: Михаил Ахманов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Амад отхлебнул горячей жидкости, блаженно сощурился и допил чашу мелкими глотками. Затем, взяв долгий протяжный аккорд, заговорил размеренно и плавно, временами подчеркивая свои слова звоном лютни. Дженнак отметил, что его одиссарский великолепен.
– Итак, о госпожа изумрудных глаз и алых уст, жил на свете молодой Фарах, охотник и воин не из последних. Но не было у него ни отца, ни матери, ни богатого родича, ни драгоценного добра, а был лишь старый шатер из газельих шкур, гибкий лук со стрелами и боевой топор с длинной рукоятью, которым удобно рубить с седла. И хоть не раз ходил Фарах в набеги со своим вождем, доставались ему только ссадины и синяки, а не достойная доблести его добыча, – так что в свои двадцать пять лет был он беден и все имущество свое увез бы разом, подвесив к стремени. А коль был он беден, то не мог взять себе женщину, ибо у сородичей моих, бихара, за красивую и работящую жену полагается платить, и выкуп сей тем больше, чем лучше девушка. Иные отцы отдали бы Фараху своих дочерей и без выкупа, но тех женщин он не хотел, ибо глаза их были тусклыми, кожа – сухой, груди – отвислыми, а бедра подобны искривленным пальмовым стволам. А девушки, чьи лица радовали взгляд, оставались ему недоступными, ибо каждая стоила трех боевых коней, или десяти простых, или пятнадцати верблюдов. Так что Фарах, не имея скота и других ценностей, жил один; жил подобно луку без тетивы или топору без рукояти.
Однажды поехал он охотиться и проездил целый день в сухой степи и пустыне, не подстрелив ни птицы, ни зверя, не увидев ни ящерицы, ни змеи; и решил было Фарах, что день сей для него неудачен и лучше ему возвратиться в свой старый шатер да лечь спать голодным. Но у дальнего источника, куда люди ходили нечасто и где росли пять пальм и двадцать пучков травы, заметил Фарах голубиную стаю. Было в ней поровну голубей и голубиц, но все голуби вились вокруг одной из голубок, белой с аметистовой грудкой; и Фараху она тоже показалась прекрасней прочих. Долго глядел он на нее, не трогая свой лук и не вытягивая из колчана стрелу, и думал: вот если бы птица эта обернулась девушкой! Взял бы я ее к себе в шатер и не платил бы за нее никому; дарила бы она меня любовью, и познал бы я радость в ее объятиях, и вошел бы в ее лоно, и зачал бы дитя. Все было бы у нас с ней как у прочих, ибо не годится мужчине жить одному и смотреть не в женские глаза, а на свой пустой очаг да на холодное ложе, не орошенное потом любви.
Тут голуби улетели, а Фарах, размышляя над несчастной своей судьбой, поворотил коня к стойбищу. На окраине же его стоял богатый шатер, принадлежавший Сириду, магу и колдуну, слуге светозарного Митраэля, и Фарах, сам не зная по какой причине, спрыгнул у этого шатра наземь и вошел в него. Сирид, один из уважаемых людей бихара, расположился в тот вечер у очага, пил кобылье молоко и ел мясо жеребенка; вокруг него хлопотали три женщины, его жены, приятные на вид, и одной было тридцать весен, другой – двадцать, а третьей еще не исполнилось и пятнадцати. Что же до самого Сирида, то находился он в том возрасте, когда жеребец еще может защитить своих кобыл, но отбивать чужих не имеет уже ни желания, ни охоты. По нраву своему был Сирид не добрым и не злым, а бесстрастным; ведь тот, кто служит богу и толкует его волю, должен всегда сохранять спокойствие.
Сел Фарах напротив Сирида, осушил предложенную ему чашу и рассказал о голубице с аметистовой грудкой, увиденной им у дальнего источника. Сирид выслушал его не прерывая, а потом, шевельнув бровью, произнес:
«Что же ты не подстрелил ту голубку или не поймал сетью? Подстрелил бы, так не было б у тебя забот об ужине, а поймал бы, так любовался бы ею ночи и дни и веселил бы свое сердце».
«Зачем мне голубка? – сказал Фарах. – На ужин могу я добыть дикую козу, а любоваться хотелось бы мне не птичьим оперением, а женскими глазами, подобными звездам, что пойманы шатром ресниц. Вот если бы та голубка стала девушкой! Если бы мог ты, отец мой, приготовить зелье, обращающее птицу человеком! Взял бы я ее себе и не платил за нее никому… И была б она мне милей всех прочих женщин!»
Долго размышлял Сирид над его словами, а потом велел женам своим покинуть шатер и сказал:
«Ведаю я нужное волшебство, что придает любому зверю, или птице, или ползучей змее человеческий облик, и поделился бы я этим знанием с тобой, не взяв ничего, ни коня, ни горбатого верблюда, ни шкур, ни связки стрел с медными наконечниками. Но обличье – не главное в человеке, а главное – его бессмертная душа. Превратишь ты свою голубку в девушку, но разум и сердце останутся у нее птичьи; а много ль проку от такой жены?»
«Ну так надели ее душой, если то возможно!» – воскликнул Фарах, и голос его выдавал, что мечется он от светлой надежды к мраку печалей и горестей.
«Есть у меня подходящая душа, да только одна, – ответил Сирид. – И не могу я отдать тебе ее даром, ибо вещь это редкостная и ценная – ценнее табунов молодых кобылиц, дороже блестящих камней из Хинга. Да и можно ли получить что-то в нашем мире без оплаты? Разве лишь стрелу между ребер…»
Тут охватило Фараха уныние, ибо понял он мудрость слов Сирида. За бесполезное платы не берут, а за все остальное нужно платить; и чем больше желаешь, тем больше платишь. Но у Фараха не имелось ничего, и не мог он купить душу для своей голубки.
Однако спросил:
«Если бы было у меня богатство, табуны лошадей и верблюдов, медное оружие и камни из Хинга, что бы ты потребовал, отец мой, за свои чары?»
И ответил Сирид так:
«Всем этим платят за обычные вещи и за простое колдовство, а душу можно купить лишь ценой другой души. Сделаю я то, о чем ты просишь, но придется тебе вернуть долг. Станет голубка девушкой, и станет женщиной твоей, и родит тебе потомство; тогда приду я, и отдашь ты мне душу одного из своих отпрысков, дочери или сына, кого выберешь сам. А не захочешь отдавать, расстанешься с собственной душой».
Подумал Фарах и согласился. А согласился оттого, что не познавший отцовства стремится к женщине лишь за любовью и ласками и считает ее сосудом наслаждений и вином, утоляющим страсть; она же – не сосуд и не вино, и сравнить ее лучше с кобылицей, рождающей каждый год по жеребенку, или с плодоносящей пальмой. И дороги плоды ее для родительского сердца.
Но Фарах о том еще не знал и согласился с ценой колдуна. И получил он от него факел из благовонного дерева – волшебный факел, в коем хранилась человеческая душа, дремлющая под пеленой заклятий, не помнившая прошлого своего, не знавшая, кем суждено ей стать и какую судьбу уготовил ей светозарный Митраэль.
На другое утро снова поехал Фарах к дальнему источнику у пяти пальм, и прихватил он с собой ловчую сеть, магический факел и камни, в коих таится огонь. Долго ждал он, прячась в траве, когда прилетят голуби, а когда те явились, изловчился Фарах и накинул сеть на белую голубицу с аметистовой грудкой. Потом, как велел ему маг, высек он пламя, запалил факел и держал его над бьющейся в сети птицей, пока клубы дыма, стелившегося понизу, а не уходившего вверх, не скрыли ее – а с дымом тем свершалось превращение, и душа, освободившись от заклятий, проникала в плоть, кровь и кости новосотворенного существа.
И все случилось так, как желал Фарах: дым рассеялся, и поднялась с травы прекрасная девушка, и посмотрела она на Фараха с желанием и любовью, и увидел он, что глаза красавицы мерцают точно звезды, пойманные шатром ресниц, а губы свежи, как маки, что цветут в пустынных краях в первый месяц весны. Месяц тот на языке бихара зовется «асм», и Фарах назвал свою возлюбленную Асмой, а потом заключил ее в объятия, и случилось меж ними все, чему положено случаться между женщиной и мужчиной.
Прошел срок – не слишком большой, но и не малый – и сделалось ясно, что принесла Асма Фараху не только любовь, но и удачу. Стрелы его не знали промаха, конь не оступался, и копыта его не вязли в песке, топор исправно разил врагов, а голос Фараха звучал все тверже в совете женатых мужчин. Но кроме удачи и уважения сородичей, одарила Асма его сыном Илдигом, и оказался малыш их на диво красив и разумен – из тех ребятишек, которых не надо учить, где у копья древко, а где – острие. Но был он у Асмы и Фараха один, один-единственный плод их любви, и казался он им драгоценной зеницей ока, кровью, исторгнутой из жил, цветком, возросшим из их сердец. Любил его Фарах больше, чем любят отцы своих сыновей, ибо помнил: душа сына его – плата за счастье, коим он удостоен…
Чолла слушала, как зачарованная, и слушал Дженнак, позабыв о бодрящем напитке, что остывал в его чаше, стенки которой уже не грели пальцев. Он слушал и размышлял о душе, не в первый раз стараясь уловить сущность этого туманного определения, эфемерной субстанции, что делала, по словам Амада, человека человеком. Сам он этих убеждений сказителя не разделял, ибо боги Эйпонны ничего не говорили о душе, но утверждали, что человеку достаточно лишь тела, разума и свободы. Все эти три составляющие не отличались тем мистическим оттенком, которое певец-бихара вкладывал в понятие души, и казались Дженнаку более ясными, четкими и разумными. Прежде, внимая историям Амада, он полагал, что душа для племени пустынь является тем же, чем сетанна для одиссарцев, но со временем понял, что это не так. Люди могли обладать или не обладать сетанной, дающей право на уважение и власть, а душа, как утверждал Амад, имелась даже у самого поганого человека, только выглядела она темной, словно небо ненастной ночью. У тех же, кто не творил особых бесчинств, цвет душ был серый, а души людей достойных были светлы и подобны перламутру или чистому снегу горных вершин. Черные души после смерти забирал к себе Ахраэль, белые, разумеется, отправлялись к Митраэлю, а серым полагалось искупать свои грехи в раскаленной пустыне, еще более смертоносной, чем та, в которой жили бихара.
Подобная символика цветов была для Дженнака непривычной и бессмысленной, ибо, хоть оттенки черного и серого принадлежали Коатлю, а белого и серебристого – Мейтассе, эйпоннские божества не внушали смертным страха, не требовали кровавых жертв и не спорили из-за душ людских подобно Митраэлю с Ахраэлем. Да и к чему было придумывать эти души, которых не видел никто и запах которых не смог бы учуять самый бдительный койот из тасситских степей? В конце концов Дженнаку стало казаться, что бихара великие путаники в делах религии, вообразившие пар над сухими камнями; и потому Амад, разочарованный в вере предков, отправился в свои богоискательские странствия.
Но если вера кочевников и была нелепой, к сказаниям сие не относилось. Временами они поражали своей жестокостью и откровенностью, своим трагическим настроем, ибо человек в них разрывался между велениями любви и долга, между коварством, гордостью и честью, между красотой задуманного и ужасом исполненного; но именно это насыщало их жизнью, а не тенью, не призраком ее, как утверждал с присущей ему скромностью Амад. В той же истории о Фарахе Дженнак усматривал сходство с собственной судьбой, ибо утверждалось в ней, что все в мире имеет свою цену – в полном соответствии с написанным в Чилам Баль. Ведь сказано в Книге Повседневного, что за плащ из шерсти платят серебром, за полные житницы – потом, за любовь – любовью, за мудрость – страданием, за жизнь – смертью!
И разве сам он не заплатил? И разве всякий кинну не должен был платить за свое долголетие?
Их насчитывалось ничтожно мало – сколько именно, Дженнак не знал, так как рождение кинну в благородных эйпоннских Очагах старались не афишировать. Избранников богов узнавали по видениям и вещим снам, посещавшим в детстве многих светлорожденных; затем способность эта угасала, как изошедший дымом прогоревший костер. Но кинну, случалось, сохраняли ее – или пророческий дар, или другой необычный талант вроде невероятной памяти, стремительного, как летящий дротик, разума, умения считать и читать с невероятной быстротой. Жизнь кинну, как утверждал аххаль Унгир-Брен, была дорогой утрат, ибо все, кого они любили, обычные люди или светлорожденные, расставались с ними, уходя во тьму Чак Мооль. Кинну предстояло узреть смерть детей своих, внуков и правнуков; и, обретая нового друга или возлюбленную, он мог уже предвидеть срок очередной потери. Это горькое знание, накапливаясь с годами, через пару столетий отравляло сердце кинну, туманило разум и обращало его к деяниям мести; божественный избранник становился тираном, коему люди казались чем-то наподобие мотыльков, порхающих в солнечном луче. Такой человек мог залить кровью все земли и берега, и никто не сумел бы справиться с ним – ведь кинну рождались среди властителей, обретали власть подобно прочим братьям своим и могли протянуть руку к перьям сагамора. Тень их была длинна, могущество – неоспоримо; силу их составляли опыт, накопленный веками, и дар предвидения, а время являлось их грозным союзником. Ведь кинну, в конце концов, мог дождаться, когда умрут все его враги, а новых уничтожить, пока не вступили они в возраст зрелости и не сделались опасны.
И потому во всех Великих Очагах уничтожали божественных избранников, и обычай этот являлся не жестокостью, но делом благоразумия и заботы о грядущем. Кинну властвовал над временем, но и оно повелевало им, наносило ответный удар, мстило за свой долгий проигрыш и одерживало победу, превращая человека в демона. Что мог он противопоставить этому? Только терпение и мудрость, горькую мудрость, не позволявшую ожесточиться сердцу… Но за мудрость зрелых лет платят страданиями в юности, ибо подобна она клинку меча, нагретому в огне и закаленному прикосновеньем льда… Вот единственный способ для кинну остаться в живых – платить! И Дженнак платил – платил, как Фарах, отдавший за душу возлюбленной еще не рожденного сына.
Лютня смолкла, и смолк голос сказителя, но отзвуки их будто бы еще струились среди стен хогана, обитых светлой сосной, заставляя трепетать пламя. На свечах оплывало пятнадцатое кольцо, и Дженнак, прислушавшись, различил отдаленный посвист флейт, зачинавших мелодию божественного гимна. Вскоре к флейтам присоединились голоса жрецов, и над стенами Серили поплыло Ночное Песнопение – словно эхо, откликнувшееся на рассказ Амада.
Чолла молча сняла серебряный обруч с жемчужинами, встала, приблизилась к сказителю и вложила в его руки драгоценный дар. На смугло-бледных щеках Амада полыхнул румянец; он поклонился, приняв позу молитвы, словно благодарил богов за ниспосланную милость. Потом он ушел; удалился, прижимая к груди свою лютню вместе с серебряным венцом, еще хранившим запах волос Чоллы. Глаза Амада сияли, на губах расцветала улыбка, шаг был нетверд, и Дженнак, наблюдая все эти признаки, подумал, что певцу удалось-таки найти страну блаженства. Царила же в ней прекрасная богиня, с которой не мог сравняться даже сам светозарный Митраэль.
Он повернулся к Чолле и произнес:
– Наверно, не стоит спрашивать, развлек ли тебя мой сказитель?
Она покачала головой и опустилась с ним рядом – на пятки, по одиссарскому обычаю, не так, как сидели арсоланцы. Плечо Чоллы коснулось плеча Дженнака, в глазах с огромными изумрудными зрачками застыла печаль, и он, внезапно ощутив укол жалости, обнял ее, вдыхая горьковато-нежный аромат жасмина.
Ей тоже пришлось заплатить, мелькнула мысль. За власть над Иберой – союзом с Утом, рыжеволосым дикарем; за честолюбие и гордость – своими сыновьями, рожденными от человека с багряной кровью… Их век будет дольше, чем у обычных людей, но все-таки Чолла проводит их на погребальный костер, а до того наглядится, как они увядают, как лица их покрываются морщинами, а волосы – инеем седины… Увидит это, оставаясь столь же молодой и прекрасной, как сейчас!
Он погладил ее по щеке, коснулся губами полураскрытых ждущих губ и прошептал:
– Ты писала, что ложе твое пусто и пусто сердце… Почему? Разве не можешь ты найти достойного среди иберийской знати? Или просить отца, мудрого Че Чантара, чтобы подыскал он тебе мужчину среди Великих Очагов? Светлорожденного, который согласился бы делить с тобой шелка любви и власть над Иберой?
Чолла замерла в его объятиях, потом прижалась тесней, прошептала:
– Сказано в Книге Повседневного: старому другу постели ковер из перьев и налей чашу вина, новому же хватит тростниковой циновки и просяного пива… А я – не циновка и не напиток для простонародья, мой вождь! Я жила с Утом, я сделала его владыкой над землями, я стала владычицей сама, я достигла своей цели, и больше не собираюсь делить ложе с ибером! А что до светлорожденного супруга, то где искать его? В Одиссаре нет подходящих мне по возрасту, и нет таких в Тайонеле… Очаг твой в союзе с Арсоланой, но сохранится ли этот союз, если избранник мой будет из Коатля либо Мейтассы, из Дома Ах-Ширата или К°'ко'наты?
– Есть еще Сеннам, – тихо промолвил Дженнак.
– Есть еще ты, – в тон ему ответила Чолла, и плечи ее напряглись под шелковистой тканью. – Есть еще ты, – прошептала она, обжигая дыханием шею Дженнака. – Ты можешь остаться здесь, со мной… или забрать меня в Лендах…
Дженнак безмолвствовал, и она, прижимаясь щекой к его щеке, зашептала снова:
– Не можешь забыть свою женщину?.. Ту, первую, погибшую от стрелы?.. Я знаю, что не похожа на нее, но подумай, мой вождь, сколько ты будешь искать такую же? Всю жизнь? Во имя Шестерых! Наша жизнь длинна, но и ей приходит конец… Ты готов встретить его в одиночестве? Без женщины, что оплачет тебя, вспомнив прожитые вместе годы? Без сыновей, что положат тело твое на погребальный костер? Без дочерей, что укроют его накидкой из перьев кецаля и белого хасса? Без внуков, что продолжат твои труды на земле?
Она говорила еще что-то, а Дженнак, сжимая в объятьях податливое гибкое тело, думал, что ничего этого не случится. Быть может, какая-нибудь женщина, случайная подруга, оплачет его, но сыновьям и дочерям такая роскошь недоступна. Не они, а он – он сам! – проводит их всех в Чак Мооль, укроет накидкой из перьев, поднесет факел к погребальному костру и будет стоять рядом с гудящим пламенем, творя молитву грозному Коатлю…
Горечь наполнила его сердце, горечь и гнев на судьбу, подбросившую непрошенный дар, словно серую палочку в игре фасит; и готов был он оттолкнуть Чоллу, подняться и уйти в отведенный ему покой, сесть там перед зеркалом и на недолгие мгновенья одеть личину другого человека – Ирассы, мечтавшего о чудесах Срединных Земель, влюбленного сказителя Амада, молчаливого Хирилуса, слуги из лондахского дворца, или Ах-Кутума, мертвого атлийца, бредущего сейчас в Великую Пустоту. Казалось Дженнаку, что участь любого из них счастливей его собственной, ибо ноша их легче, а потери не столь мучительны; и думал он, что вместе с чужим обликом, вызванным магией тустла, снизойдут к нему забвение и покой.
Но в этот миг душевной слабости услышал он голос, звучавший как бы издалека, сквозь завесу минувших лет; услышал женский шепот, но не был он шепотом Чоллы и слова были иными, освежающими, как дождь, павший в раскаленную землю.
Возьми меня в Фирату, мой господин! Ты – владыка над людьми, и никто не подымет голос против твоего желания… Возьми меня с собой! Подумай, кто шепнет тебе слова любви? Кто будет стеречь твой сон? Кто исцелит твои раны? Кто убережет от предательства?
Вианна… Сквозь тьму Чак Мооль он видел ее: волосы, черные и блестящие, как драгоценная шкурка, шея – стройнее пальмы, груди – прекрасней чаш из овальных розовых раковин, глаза, подобные темным агатам: лицо ее было солнцем, живот – луной, лоно – любовью…
Вианна, чакчан!
Чолла вскрикнула; он сжал ее так, что хрустнули ребра.
– Прости… прости, моя госпожа, да будут милостивы к тебе боги! Ты права во всем, но я не могу остаться. Всякая птица вьет жилище на свой манер, и в гнезде дрозда соколу крылья не расправить…
Глаза Чоллы потухли, но она не отстранилась, не разомкнула рук Джечнака. Он снова услышал шепот, но теперь голос Чоллы не пугал грядущим одиночеством, а был подобен ветерку, пролетавшему медвяными лугами любви.
– Пусть так, мой вождь, пусть так… Но вспомни, ты первый из моих мужчин, первый, кого я держала в объятьях… и оттого могу я требовать дара, не столь преходящего и зыбкого, как сказки твоего певца… хотя и они прекрасны… – Высокий и звонкий голос Чоар, владычицы Иберы, вдруг сделался ниже и стал неотличим от голоса Вианны, стал таким, каким помнил его Дженнак. И Чолла-Вианна шепнула ему: – Подари мне дитя, мой вождь… подари дитя со светлой кровью, чтобы было кому поддержать меня, скрасить дни мои, проводить в Чак Мооль… оплакать меня – здесь, на краю света, вдали от родичей моих, от братьев и сестер… Подари мне дитя, мой господин… Сегодня благоприятная ночь, и я знаю, что посев прорастет и урожай будет добрым…
Вот так же молила его Вианна – возьми меня в Фирату, возьми… Вианна, которой он не мог теперь подарить ничего… Вианна, так и не родившая ему дитя… Вианна, ночная пчелка, чакчан…
Дженнак поднялся, не выпуская Чоллу из рук; тело ее казалось податливым и горячим и пахнувшим не жасмином, а медовыми травами с одиссарских лугов. И глаза ее будто бы стали иными – не изумрудными, как у всех светлорожденньгх, а темными и блестящими, как два агата. Ее легкое одеяние распахнулось, и груди – прекрасней чаш из розовых раковин – засияли перед ним; лицо ее было солнцем, живот – луной, а лоно – речным берегом, устланным лепестками роз.
Шагнув к арке, что вела в ее опочивальню, Дженнак подумал: не отвергай зова женщины! Не отвергай! Ибо, как сказано в Чилам Баль, он – сама жизнь…






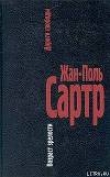
![Книга Пятая скрижаль Кинара [=Принц вечности] автора Михаил Ахманов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pyataya-skrizhal-kinara-princ-vechnosti-65726.jpg)
