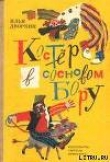Текст книги "Костер рябины красной"
Автор книги: Михаил Лаптев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Чем ближе была выписка из больницы, чем лучше становилось общее самочувствие, к Фаине все ближе подходили дни, предшествующие выбору нелегкой доли, который, однако, сам по себе не сулил большой беды. Теперь, когда она начала понемногу ходить по палате и даже иногда выходить в коридор, когда помогала санитаркам кормить тяжелобольных и прибирать помещение, на память приходили предвоенные годы…
Вплоть до начала войны с белофиннами многие не осознавали надвигающейся опасности, а может быть, старались не замечать ее в круговерти повседневной жизни, работы, любви, больших и малых забот.
На исходе тридцать восьмого года умерла мать. На похороны съехались все дети. Грустным делом по провожанию Феклы в последний путь занималась Вера. Герасим Иванович полностью доверился ее хлопотам и заботам. Тем более, что сын его, Венка, уехал учиться в Казань, в университет, и не смог приехать на похороны мачехи…
Марфа, старшая сестра, заметно постарела, располнела, только глаза остались прежними – молодые, горячие. Посмотришь в них, и ничего в жизни не жаль. Марфа как могла помогала Вере. Фельку они совсем освободили от тягостного дела. Она больше сидела с Сенькой, слушала его рассказы про экскаватор, расценки, про мастера…
На кладбище был разметен снег, могила чернела посреди рыжей глины, выброшенной из ямы. Сестры голосили. Сенька кусал губы. Герасим Иванович тер платком сухие глаза и глубоко вздыхал. А Фаине хотелось упасть на крышку гроба, надорвать грудь бабьим воплем, растрепать волосы, до крови расцарапать себе лицо. Но одновременно она ясно понимала, что не сделает этого. Почему не сделает? Она и сама не могла объяснить почему.
Потом все сидели в старом деревенском доме за сдвинутыми столами. Выпили по стопочке горькой, закусили пирогом с рыбой, хлебали огненные щи, приготовленные все той же расторопной Верой. Потом была сладкая рисовая каша, какие-то крендельки и пампушки, кисель… А Фельке все виделась одинокая среди голых бесцветных деревьев тонкая рябинка. Листья ее давно облетели, а рдяные гроздья пламенели, точно костер.
…После встречи Нового года в прокатном цехе было решено ставить новый рольганг. По заводу вывесили призыв: «Комсомольцы, даешь рольганг!» Фаина Шаргунова обратилась с просьбой в партячейку, чтобы послали ее. Работы оказалось очень много. Разбирали старый рольганг, строители отбойными молотками и ломами крушили бетонные основания. Сварщики, слесари, наладчики не уходили из пролета по двенадцати-четырнадцати часов. Не отставал от остальных и ударный комсомольский сводный отряд, в который зачислили Фаину.
…На границе лета и осени Вере удалось вытащить младшую сестру в лес, за опятами.
Стояли тихие солнечные дни раннего бабьего лета. По временам лицо задевала тонкая паутина. У редких берез еле заметно начали рыжеть верхушки, а перестоявшая трава еще оставалась зеленой. Вера знала замечательные грибные места за полустанком Старатель. Опят там было великое множество, росли трудно, и сестры быстро набрали по большой корзине. Однако Вере грибы не очень нравились, ей хотелось опят поменьше и покрепче, а эти были уже чуть переросшие…
Еще немного, и последние опята упадут, березы пожелтеют и начнут терять листья, а на прогретых солнцем некрутых склонах гор запахнет после первых осенних дождей деревенским предбанником, обитым распаренным веником.
Фаине уже не хотелось уходить из леса. Они с Верой присели у небольшого родничка, поели хлеба с помидорами, вареных яиц и холодного мяса с крупной солью, выпили ломящей зубы водицы… Потом опять долго бродили по высоким желтеющим папоротникам, по заболоченному мокрому малиннику, топтали серые заросли ломкой крапивы. Когда шли по опушке к дому, им изредка попадались красноголовые подосиновики.
По просеке вышли на извилистую лесную дорогу и пошли по ней вниз, к полустанку. По дороге Вера снова начала разговор о жизни. Фаина поначалу отмалчивалась, а потом разговорилась, и они всплакнули о незадачливой ее доле. Оказывалось, что у Яши не хватало решительности приехать и забрать Фаину с собой, он не шел дальше уговоров и просьб в письмах. Василий Георгиевич был явно «не нашего поля ягода», Фаина не желала «рубить дерево не по себе». А другие просто не привлекали ее.
– Я, может, одного из тысячи полюблю. А и полюблю, так не каждому вид покажу… Вот, знаешь, Вера, где-то я читала. Там говорится, что человек без самоличного труда каждый день, ну, труда по призванию, понимаешь, без труда, который нравится, не может быть, не может чувствовать себя вполне свободным, ни от кого не зависящим человеком.
– Больно мудрено ты говоришь. Может быть, и правильно, но я бы так не смогла. Я ведь тоже не сижу без дела. И не так чтобы уж очень ненавистное дело было. Все ведь для своих делаешь, стирка там, готовить надо, ребятня, пеленки, заботы, одному то, другому другое… А как без этого жить – не представляю. Ты вот опять скажешь, крыльев у тебя нет. Стало быть, не выросли. А ты вот хоть и с крыльями, а смотри – упустишь своего Яшку. Больно уж время-то крутое ныне. Люди поговаривают, что грибов этот год – прямо пропасть. К войне это, говорят…
– Ну, это так, болтовня, при чем тут грибы? А война и без грибов должна быть. Будет война обязательно, да не скоро. Попробуй-ка к нам сунься. Вон японцы лезли у Хасана. Получили по зубам. У Халхин-Гола полезли – тоже дали им отпор наши соколы. Теперь неповадно будет. А с Германией у нас мир на двадцать лет. Фашисты тоже не без головы – лезть на нас. Это им не Испания… А насчет Яши я тебе так скажу. Хороший он парень, и судьбу мне занозил, но, знаешь, нет в нем такого порыва, что ли, отчаянности, рискованности… Все у него по полочкам разложено. Вроде и свой парень, да, видать, много белого хлеба у мамочки ел. Боится на черный перейти…
– Зря ты обижаешь парня. Не знаю, какой принц достанется…
И все же перед Новым годом Фаина решила съездить, посмотреть, как там поживает в Казахстане Яша, как он там работает, где и с кем живет, кто у него друзья-подруги? Она написала Яше, и тот немедленно прислал телеграмму, что ждет, что любит, что будет встречать.
Но встреча, которую оба так ждали, не состоялась. Поздней осенью началась война с белофиннами.
Из газет, из писем фронтовиков в лексикон уральцев проникли необычные, тревожащие слова «снайперы-кукушки», «линия Маннергейма».
* * *
Льва Исаевича Гринберга, парторга ЦК партии на заводе, высокого и грузного, начавшего бурно седеть, Фаина до встречи знала плохо. И вот она у него в кабинете, вместе с другими, кто был вызван на тот день. Он медленно ходил из угла в угол по не очень обширному кабинету. Вокруг маленького стола сидели начальники цехов, профсоюзные руководители, секретари парторганизаций цехов. За длинным столом на разномастных стульях в два ряда разместились мастера и рабочие-активисты.
Гринберг хмурил брови, крупное лицо с глазами навыкате было серым от усталости. Зеленая суконная гимнастерка с отложным воротником, широкий ремень, галифе, ярко начищенные сапоги. Депутатский значок алел над клапаном левого кармана.
– Товарищ Шаргунова, объясните, пожалуйста, нам, почему вы решили проситься на работу к доменной печи? По-моему, никто из сидящих здесь не припомнит, чтобы женщина стояла у горна, – Гринберг повел рукой в сторону сидящих за маленьким столом. – И потом, разве вы плохо работаете в механическом цехе?
– Это не прихоть, товарищ Гринберг, – тихо ответила Фаина. – Я решила пойти туда, где сейчас труднее всего. Прошу поставить меня на вторую домну. Там сейчас прорыв. Мужики оттуда бегут…
– А что ты умеешь делать? – грубовато и насмешливо спросил начальник доменного цеха Севастьянов.
– Подождите, товарищ Севастьянов, – Гринберг нетерпеливо махнул рукой. – Вас еще спросим. Василий Евстафьевич, вы что-то хотели сказать?
– Нечего мне особенно говорить. Девка сама не знает, что ей надо. Замуж бы ее отдать…
Прошелестел смех, кто-то тихонько присвистнул.
– Может быть, обойдемся без неуместных шуток. – Гринберг сжал губы, потрогал волосы.
– Мы ее двум профессиям обучили. Дело свое она знает. Да куда ей к домне! Женщина она все-таки…
– Нет, Василий Евстафьевич, неправильно вы говорите, – Фаина опять встала за столом. – «Женщина, женщина»! Да при чем тут это? Токарем или строгалем любой мальчишка или девчонка робить сможет. А партия призвала нас осваивать мужские профессии. Мужские! Вот и поставьте меня к домне, научите, покажите, что надо. Не бойтесь, работать стану не хуже других…
– Вы садитесь. Кто еще хочет высказаться?
Поднялся Семен Иванович Рачков, председатель профкома.
– Мы ее, товарищ Гринберг, уговаривали в мартен идти – не желает. Ведь в мартене чуть полегше. Вот я и говорю. А она ни в какую! Нет – и как отрезала. Ставьте, говорит, к домне… А у мартена женщины уже работали. Вон Зикеева в Магнитке…
– Да-а. Ну что ж, закроем прения. Идите, товарищ Шаргунова, работайте пока на старом месте. Окончательное решение вам сообщат.
– Я буду настаивать, товарищ Гринберг, имейте в виду. Я в «Правду» напишу!
– Мы вам не отказываем. Ждите. Все пока, товарищ Шаргунова.
В механическом цехе на нее коршуном налетел Андрей Петрович.
– Ты что это, девка, вовсе ошелапутела? Эх, ремня бы тебе… Все-то ей мало, все-то ей чего-то не хватает. Да мы тебе три станка, ежли тебе трудностей захотелось, в ряд поставим. Успевай бегай от одного к другому… Эка она как, на до-омну-у! Да ты знаешь ли, что это такое?
– Да не кричите вы все на меня! – не на шутку рассердилась Фаина. – Сказала, что на домну пойду, значит – пойду. И никто мне в этом не указ, понятно?
Андрей Петрович опустил голову, плечи ссутулились, голос осекся.
– Я тебе, Фелька, заместо отца хотел сказать… Замуж тебе бы надо, и то давно пора, а ты в невестки к железной свекровке норовишь попасть… Да от той работы и женой никогда не станешь. Съест она тебя заживо, со свету сведет…
– Прости меня, Андрей Петрович, дура я, погорячилась. Человека ты из меня сделал. Спасибо тебе и поклон земной… Только, видать, судьба моя такая. Ты уж не казнись. Не могу я по-иному.
Андрей Петрович тяжело вздохнул и поплелся к своему станку.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
…Незаметно наступил и покатился вперед сороковой год. К началу весны стало известно, что война с Финляндией скоро закончится. Но близкая победа почему-то мало кого радовала.
Становилось очевидным, что надвигаются большие и грозные события.
В далекий уральский город доходили смутным слухи о напряженной обстановке в пограничных городах.
На заводах и в учреждениях проходили, занятия по противовоздушной и противохимической обороне, люди учились пользоваться противогазом, затемнять окна. Появились плакаты о бдительности. «Болтун – находка для шпиона!» – было написано на одном из них. Все стали как-то серьезнее, собраннее.
* * *
А Фаина все ждала разрешения на перевод в доменный цех. Работала она, как и прежде, за двоих. Была членом заводского комитета комсомола, активно работала в профсоюзе, писала в газету. Одним словом – дел было немало, но все казалось, что самое главное и большое – где-то еще впереди. Надвигался праздник – Международный женский день.
В марте на Урале нередко еще свирепствуют морозные ветры, выпадают обильные снега. Но по утрам уже веселее посматривает солнце, под скатами крыш начинают появляться первые сосульки, громче чирикают пережившие зиму воробьи… В клубе металлургов готовили большую праздничную программу: хоровые песни, спектакль, вернее, отрывки из разных спектаклей, из «Бесприданницы», из «Любови Яровой», скетчи, частушки, отдельные цирковые номера. Перед этим запланировано было награждение женщин-стахановок.
И вот этот день наступил. К вечеру клуб был переполнен. Кругом гремела музыка, помещения залиты светом. Перед награждением с коротким докладом выступил сменивший Гринберга новый парторг ЦК на заводе Юрий Сергеевич Казанцев. Это был молодой еще человек в полувоенной форме. Большую голову на короткой шее венчал энергичный, входящий в моду ежик.
Фаине преподнесли флакон дорогих духов, томик Мопассана и отрез на шелковое платье. Взволнованная, она положила подарки на край стола президиума и подошла к трибуне. В зале зашумели, задвигались, долго не смолкали аплодисменты.
Когда стихло, Фаина сказала:
– Вы все, конечно, читали, что в Магнитогорске товарищ Зикеева освоила профессию сталевара, почти год работала на мартене. Мне про нее Галима написала, а Галиму я знаю, росла вместе с ней в деревне. Она пишет, что такой человек, как Зикеева, не подкачает. Но она замужем и сейчас ждет ребенка, поэтому на мартене работать не может. Я хотела вызвать ее на соревнование, но… Одним словом, в ответ на призыв нашей партии, – Фаина повысила голос, и он зазвенел, – в ответ на теплое признание моих… ну, успехов, что ли, я обязуюсь здесь освоить профессию горнового и прошу перевести в доменный цех.
В зале наступила тишина. Слышно стало, как где-то за стеной, в дальней комнате, настраивают скрипку. Потом кто-то захлопал, закричал… Зал загремел такими аплодисментами, что начала раскачиваться люстра.
Фаина все стояла на трибуне, побледнев от волнения и собственной решимости. Ведь разрешения-то идти на домну она не получила! Но отступать теперь некуда. Она повернулась к столу президиума и, обращаясь к Казанцеву, сказала:
– Товарищ секретарь, прошу разрешить мне работать на домне. Все равно я от своего не отступлюсь.
– Раз сама себе разрешила, думаю, что мы против не будем, – громко ответил Казанцев.
Остальное Фаина помнила смутно. Машинально делала все, что нужно было делать по ходу вечера, но лихорадочно, боясь сорваться, допустить ошибку, показаться хоть в чем-то смешной…
В перерыве подошел Василий Георгиевич, выразил восхищение, пожал руку. Смотрел как-то странно, не как всегда, а профессионально, что ли, по-врачебному, изучающе. Это одновременно понравилось Фаине и насторожило ее. «Наверное, за взбалмошную меня считает», – мелькнула мысль. Мелькнула и пропала. Не умела она плохо думать о людях.
* * *
…Полгода читала книги по доменному делу. Сейчас на память может рассказать о том, как с колошника загружается в объемистое тело домны слоями руда и кокс, другие необходимые для плавки компоненты, как адское пламя день и ночь бурлит в горне, превращая тяжелые камни руды в расплавленный жидкий чугун. Зримо представляла, как постепенно оседают в домне слои руды и кокса, как по гигантским трубам воздуховода с гулом проносятся тысячи кубометров горячего воздуха, как течет вода сверху вниз по охлаждающей тело домны рубашке, как всплывает на чугуне, подобно накипи в кастрюле с варящимся супом, слой легкого пузырящегося шлака… Сотни раз видела, как ночами озаряется доменный двор во время выпуска шлака, как это зарево становится почти белым – это после слива шлака пробивается летка, и на волю вырывается тугая струя готового чугуна, устремляясь по канаве к литейному двору, в большие ковши на колесах… А на колошник домны тем временем не переставая подаются по канатной трассе в вагонетках очередные порции руды и кокса.
Видела себя у горна, куда ее еще ни разу не подпускали, видела себя в широкополой шляпе, в куртке и штанах из толстого серого сукна, в грубых, двойного плетения лаптях… Впрочем, кажется, горновому полагаются толстые валенки… А в руке у нее небольшое синее стеклышко, потому что нестерпимо больно заглядывать в крохотное окошечко над самым бурлящим металлом, глазам гораздо больнее, чем когда смотришь на солнце. А в другой руке – конечно же! – длинная тяжелая пика для пробивания глиняной запекшейся пробки, непрочной перегородки между кипящим металлом и людьми, ждущими этот металл.
Широко размахивается и бьет тяжеленной пикой в звенящую глину, сыплются вниз ошметки, пыль… Она бьет еще раз, еще и еще. И вот – зарево! Радостные, восторженные лица бригады, снопы огненных искр, почти ощутимая тяжесть чугунной струи, прогибающей дно канавы…
Фаине весело. Самой себе она кажется молодой и сильной, как та женщина на цветном плакате, посвященном первым женщинам-сталеварам, с веселыми и задорными словами: «Раньше щи варила, а теперь вот сталь варю!»
А кто же не знает, что сталь не бывает без чугуна, а чугун никогда еще не выплавляла ни одна женщина в мире.
* * *
…Кто работал до войны на домне, тому известно, сколько приходилось делать руками. Даже летку после выпуска чугуна приходилось заделывать глиной вручную. Первые пушки, «стреляющие» глиной специального замеса, были несовершенны и маломощны. Тяжелая кувалда, пришедшая сюда прямо из кузниц петровских времен, полуласково именуемая балдой, теперь очень редко бывает в руках доменщиков. А перед войной без нее нельзя было обойтись ни одной смене. Горновой и подручные должны были, кроме того, виртуозно обращаться с ломом и уже знакомой Фаине совковой лопатой.
– Эх, не бабьего это ума дело! – досадливо крякнув, сказал прямо в лицо Фаине пожилой горновой, когда вышла она в первую свою смену к домне. Но Фаина ответила ему:
– Ты рассуди-ко, Лукоян Кузьмич, не дай бог, грянет война. Мужики на фронт уйдут, на передовую, все вот эти ребята – в армию… Скажи мне, кто тогда здесь за вас управляться будет? Неужто погасишь домну?
Федосеев махнул рукой и отошел. Издалека пробасил:
– Что ты меня агитируешь, не маленький ведь… – Помедлив для солидности, сменил гнев на милость. – Бери свою спецовку, вон в ящике. На первых порах смотри, привыкай, делай, что скажут. Да и припоминай все, что к чему.
– Ты мне работу давай, Лукоян Кузьмич, я не на показ сюда пришла, – обиженно попросила она.
– А чего ее давать – вон она, – огрызнулся Федосеев. – Иди с Кольшей песок готовь. Да лопату не забудь. Умеешь держать лопату-то?
– Как-нибудь не уроню, не безрукая.

Подняла лопату и пошла в угол к корытам, где заготовлены песок и глина, известь, цемент и еще многое другое, без чего здесь никак нельзя. За спиной кто-то что-то сказал, остальные засмеялись. Сама знала, что без этого не обойдется, поэтому не обиделась, не рассердилась. Не то еще придется услышать.
В первую смену на печи перестаралась. Боялась – засмеют, прогонят, заставят делать такое, чего никто не делает. Зато детской забавой показалась прежняя работа, хотя бы и на двух станках. От усталости дрожали колени, ломило плечи, виски давил постоянный гул воздуходувки, першило в горле…
Понимала, что скоро обвыкнется, все будет хорошо, надо только найти определенный ритм, не суетиться, не делать лишних движений, держать себя с достоинством, по-рабочему. Ей и в голову не приходило отказаться, пока не поздно, попроситься на прежнюю работу, где она уже прикипела ко всякой мелочи и могла действовать с закрытыми глазами.
Дома заставила себя тщательно умыться, поесть и почти без сил свалилась на постель. Спала крепко. Цветных снов не было…
У доменной печи она никогда не оставалась без дела. Во время коротких перекуров между выпусками чугуна и обычной работой по двору она наводила порядок: стаскивала в одно место лопаты, а то брала метлу и подметала по обеим сторонам канавы, предварительно разбрызгав там ведра два-три воды, чтобы не очень пылить. Когда выдавали чугун, старалась держаться поближе к летке, а если это не удавалось, то стояла неподалеку от канавы, закрывая лицо рукавицей от нестерпимого жара, завороженно смотрела на огненный ручей, стекающий вниз, в толстостенный ковш на колесах.
Потом началась обычная работа: надо было приводить в порядок все хозяйство к следующему выпуску, следить, чтобы все было на месте. А как обрадовалась, как запело сердце, когда месяца через четыре после начала работы Федосеев при всех сказал:
– Ты, Кольша, не мельтеши тут. Поучись у Фаины, как надо. Если хочешь быть доменщиком, шагай реже. Понял?
Поняла, что Кольша обиделся, потому что засопел носом, избегал встречаться с ней взглядом…
…Сейчас, лежа в палате, Фаина вспомнила, как Кольша недавно приходил в больницу, приносил гостинцы, как робко сидел на краешке стула в маленьком белом халатике, как восхищенно и вместе с тем жалостливо смотрел на нее… А посмотреть со стороны, совсем мужчиной стал.
Усмехнулась про себя, закрыла глаза.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Затяжной, ненастной была весна одна тысяча девятьсот сорок первого года. Почти весь май шел холодный дождь, нередко вперемешку со снегом, на улицах было неуютно и слякотно, небо тяжело и хмуро висело над городом, ближние горы были завешены изморосью.
Фаина каждое утро слушала радио, но как-то не верилось, что где-то, совсем недалеко, в соседних областях стоит сухая и жаркая погода, хорошо подходят хлеба, на юге зреет богатый урожай овощей и фруктов. Она шла утрами мимо тяжелых, набухших сыростью деревьев. Ветер стряхивал с них холодные крупные капли, гнал по небу сплошные серые тучи.
Несмотря на неприветливую погоду, люди в городе были веселые. Усталые, но довольные тем, что стройка повсеместно двигалась, что каждый день приносил что-нибудь новое…
* * *
Как и прежде, Фаина старалась работать лучше, постепенно осваиваясь на новом месте. К ней уже привыкли настолько, что в крутую минуту обращались как с равной. Только тягостно было привыкать к несколько вольному обращению с русским языком. Но она смирилась, как мирятся с необходимым злом вроде горького лекарства, и обязательной «балды». Часто ругала себя за то, что втихомолку завидовала тем, кто работает на больших, новых печах. Само собой разумеющимся считалось, что со временем большая домна будет оснащена новой техникой.
Встречалась изредка на слетах с прославленными доменщиками и горновыми, недавно сменившими отвес и мастерок строителя на места у леток. Ей нравились эти сильные, немногословные, твердо знающие себе цену люди.
…К концу мая погода стала лучше. Буйно пошла в рост зелень, подсохла грязь, в загустевшей листве деревьев защебетала птичья живность. Однажды в воскресенье забежал Семен, брат. Был он навеселе, одет в военное. Их отправляли на лето в лагерь, на переподготовку. Семена зачислили в артиллерийскую часть. Он обнял сестру, поцеловал, шлепнул по крепкой спине.
– Эх, не был бы я твоим братом, не дал бы я тебе в старых девках бегать… Фельша, ты, Фельша, разнесчастная твоя доля!
– Много ты понимаешь! – покраснев и скрывая обиду, ответила она. – Помолчал бы лучше, жених! Давно ли я тебя крапивой драла. Я и сейчас могу, не посмотрю, что старшой.
– Это ты можешь, это уж точно. А где же все-таки женишок твой заблудился, а? Аль скрываешь его от добрых людей.
– Хватит об этом. Ты вот мне скажи, что у вас там говорят: скоро будет война?
– Откуда мне знать? А и знал бы, да не сказал. Военная тайна. Во как! А ты смотри, как бы с мужиками-то сама мужиком не стала, – он засмеялся. – Гляди, и усы отрастут.
Выпили вина, потом пили чай, смеялись, вспоминали детство, заботливую, чуткую к порывам детской души мать. Потом ходили по городу, и Семен с уважением посматривал на сестру. Множество разных людей здоровались с ней, иные останавливались, поглядывали на него: кто же, мол, это идет с Шаргуновой? Другие что-то спрашивали, интересовались своими делами. А она одним еле кивала головой, другим с восторгом трясла руки, охотно говорила или деловито и коротко отвечала на вопросы.
Семен понял, что его младшая сестра отдалилась от той задиристой и беспокойной девчушки, которую он знал и к которой относился с некоторым снисхождением. Она теперь взрослый, самостоятельный человек, но, по его понятиям, совершенно одинока и неприкаянна. И все это тревожило его, а под хмельком вызывало острую жалость…
Ночью они распрощались.
* * *
Бывает, когда идешь в темноте и ждешь какой-то неожиданности, готовый ко всему, и все же вздрагиваешь, когда эта неожиданность приключается. Так случилось и в тот памятный день на всей советской земле.
Хотя люди сознавали, что смертельная схватка неизбежна, все же всех потрясло, до глубины души короткое слово – война. В нем было что-то от горя гореванного, от пожара и глада, от мора и погибели…
Война! Фаина не успевала следить за мелькавшими событиями, подвигами, именами уже геройски погибших, именами, которые потом станут известны миру и потомству…
Сгорел, врезавшись на самолете в немецкую автоколонну, так и не сбив пылающий факел с машины, Николай Гастелло. В ночном московском небе тараном разнес вдребезги вражеский бомбардировщик, а затем в одном из боев погиб Виктор Талалихин. На ближних подступах к Москве взорвали себя гранатами пехотинцы генерала Панфилова, бросившиеся под танки гитлеровцев, рвавшихся к столице. Гибли первые десятки и сотни тысяч наших людей, женщины становились вдовами, а дети – сиротами.
Именно в те дни раздобыла себе Фаина красноармейскую шинель и дала себе клятву – не снимать ее вплоть до самой победы. Потому что не сомневалась в победе. Только не знала в ту пору, что шинель сгорит от горячего чугуна.
В сердце, в мозгу Фаины Шаргуновой жил, не давал покоя голос, который с непонятным вздохом облегчения сказал ей в конце июня сорок первого:
– Ну, Фаина, пора. Твой час! Принимай печь.
Кто именно сказал ей эти слова? Но разве имело какое-нибудь значение теперь, кто сказал? Разве это был не сам голос времени? И она вздохнула с облегчением, поняв, что пришел ее час, и надо быть достойной этого часа.
* * *
Теперь точно уже не вспомнить, как она попала на эту бабью, что ли, вечеринку. Подвыпив, пели «Рябинушку».
Но нельзя рябине
К дубу перебраться.
Видно, сиротине
Век одной качаться…
Ольга обняла Фаину и заплакала. Вот уже третий месяц Ольга не получала писем от мужа-фронтовика.
– Хорошо тебе, Фелька, одна ты! – кричала она почти в голос. – А мой-то не пи-ише-ет. Эх!.. Поди, там с другой связался.
– Что ты, Ольга, опомнись, – одернула ее подружка Лида. – По краю смерти ходит твой Федор… Жив ли еще?
– Эх, вот она – жизня! – кричала Ольга. – Кому война, кому забавушка одна…
Ольга была та самая Оля – красивые коровьи глаза. Она тоже давно жила в городе. Теперь уже отцветала, располнела, но мужчины липли к ней, как мухи к сладкой отраве. Фаине известно было, что с мужем Ольга жила не очень-то дружно, однако росли у них двое детей. Работала Ольга нормировщицей в конторе, как и ее подружка Лида. Были они всегда вместе, вместе и теперь гуляли.
Ольга подлила вина Фаине и себе, проливая на клеенку красную липкую жидкость.
– Давай выпьем с тобой, Фаина, за горькую нашу бабью долю. Хорошо, что пришла, не побрезговала нами…
– Чего городишь-то? Какая такая горькая доля? Гордиться тебе надо. Федор твой Родину защищает, воюет, а ты – «горькая доля».
Ольга вдруг обиделась. Слезы у нее высохли, лицо зло перекосилось.
– Конечно, чего тебе печалиться? Одна, небось, не пропадешь… Эх! До чего же ты знаменитая стала, Фелька. Где нам-то до тебя! Твой портрет вон все газеты рисуют, как раскрасавицу какую… А мы – люди простые, незаметные, некрасивые… Грешные мы, видать, вот оно что. Эх! А ты у нас вроде святой! Монашка!.. Ха-ха-ха! Днем монашишь…
– Перестань, Ольга, – Лида подошла к ним и увела от Фаины подругу к себе, на другой конец стола. Ольга выпила рюмку, ткнулась лицом в ладошки и беззвучно заплакала.
Фаина посидела еще немного, поблагодарила за угощение и ушла.
Да, Ольга сказала правду. После того как Фаина начала работать старшим горновым, ее портрет обошел многие центральные газеты. Корреспонденты писали по-разному: одни выпячивали сам факт – дескать, заменила мужчину, ушедшего на фронт. Другие насыщали свои произведения восторженными восклицаниями: героическая женщина, дочь своего времени и т. п.
А Лукьян Кузьмич, между прочим, ушел вовсе не на фронт. Его перевели на другую домну, где дела шли из рук вон плохо. Бежали люди с той домны куда глаза глядят.
К работе Шаргунова относилась истово, к доменной печи обращалась с почтением, как к живому существу. Приходя утром на полусуточную изнуряющую смену, мысленно произносила:
– Здравствуй, железная свекровушка. Не подведи, милая…
На третий день войны в городской газете Магнитогорска было опубликовано письмо Зикеевой, муж которой ушел на фронт. Той самой Зикеевой, о которой так много писала ей Галима. Галима, научившая Фельку в раннем детстве любить рдяные ягоды рябины, любить их всю жизнь. Вскоре письмо Зикеевой перепечатали многие газеты. Она писала:
«В этот час тяжелых испытаний для страны снова встаю на вахту к мартеновской печи. Пусть сталь, которую я варю, могучей лавиной обрушится на голову зарвавшихся фашистских разбойников. Я призываю женщин Магнитки и всех женщин Советского Союза идти на производство. Нам надо заменить наших мужей и товарищей, идущих в ряды доблестной Красной Армии».