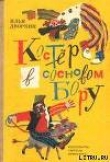Текст книги "Костер рябины красной"
Автор книги: Михаил Лаптев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Костер рябины красной
Матерям и сестрам нашим, безвестным и беззаветным героиням тыла
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Федосеев рывком отворил дверь и быстро вошел в маленькую приемную начальника доменного цеха. Свирепо глянул на взметнувшуюся было секретаршу. Та, наткнувшись на этот взгляд, как-то даже опешила и ничего не сказала. Федосеев, как был в прожженной суконной робе, в войлочной, с обвисшими полями шляпе, в подшитых катанках с обрезанными голенищами, в брезентовых рукавицах, густо заляпанных жидкой светло-рыжей глиной, прошел в кабинет.
Севастьянов удивленно посмотрел на вошедшего. Брови начальника цеха медленно сдвинулись к переносице.
– Ты что, Лукьян Кузьмич, позвонить не мог или кого помоложе прислать?
– Некогда трезвонить, Арсений Иванович. До беды рукой подать. Когда порядок будет?
– Какая беда? О чем ты? Говори толком.
– Сколько раз тебе говорить, погубите людей и печь нарушите!
– Ты что, не выспался, что ли?
– У Фаины четвертую плавку запустили, а печь не продута. Фаина – баба, к тому же, на печи недавно. Думает, авось пронесет. Знаю я этот «авось». С домной шутки плохи.
– А ты сядь да расскажи толком, что к чему. Водичка вон в графине, выпей, передохни. Может, чего покрепче?..
Федосеев досадливо отмахнулся, сел на краешек стула. Рукавицы сунул под мышку.
Сразу стал слышнее заводской гул за стенами кабинета. С надсадой дышали доменные печи. Доносились тяжелые удары с листопрокатного, суматошно вскрикивал паровозик, отвозящий в отвалы шлак.
Успокоившись немного, Федосеев посмотрел в отечное лицо Севастьянова, отметил увеличившуюся седину на висках, ощутил чуть заметный запашок перегоревшего спирта… Скованность и напряжение во всем теле, как перед дракой, не проходили.
Севастьянов отвел глаза. Ему было жалко старика Федосеева. Почти за два года до войны Лукьяна Кузьмича проводили на пенсию. А теперь вот уже второй военный год он опять стоит на своем месте. Месте старшего горнового второй печи. Севастьянов не мог спокойно видеть черные провалы глаз, обнажившиеся височные кости Федосеева, какую-то неприятную зелень на покрытых серым пухом впалых щеках. Видимо, Федосеев плохо питался или что-то у него с желудком.
Но нельзя было сейчас давать себе воли размягчаться, а тем более, потакать старческим «страхам». И Севастьянов доверительно придвинулся к Федосееву, тихо сказал:
– Никто не знает и не докажет, полезна ли продувка печи после каждой плавки. Не разрушает ли она весь ход печи, не старит ли ее? А время сейчас такое, что медлить с выплавкой металла ни секунды нельзя. Война идет, Лукьян Кузьмич. Сам понимаешь… Да с нас головы снимут, если мы чугун не дадим.
– Ты что, за мальчишку меня считаешь! – Федосеев с размаху шлепнул рукавицами по краю толстого стекла, лежащего на столе, и замысловато выругался. Во все стороны полетели брызги от рукавиц. Несколько желтых пятнышек попало на лицо Севастьянова.
– Сейчас же давай приказ – после плавки продуть первую печь. Слышишь! Не то я сам ее остановлю, – бушевал старый доменщик. – Я не посмотрю, кто там, что скажет…
Севастьянов, побагровев, поднялся, брезгливо стирая с лица капельки жидкой глины.
– Что за хулиганство! Распоясался, как у себя дома…
– Да ведь и ты не у себя дома, хоть и начальник, – не переставал горячиться старик. – Вишь, у него одного забота о фронте. А другие как будто груши околачивают…
Дверь кабинета с треском распахнулась, ручка стукнула о стену. Держась за косяк, в дверях стоял нескладный, худой и высокий подросток.
– Там… там… – заикаясь, он глотал воздух, – на первой печи Фаину… чугуном сожгло!..
Федосеев сразу бросился к парню, схватил его за отвороты суконной робы.
– Да как же вы?.. Кольша-а! Ий-эх!.. – оттолкнув парня, Федосеев выбежал из кабинета.
Севастьянов пошарил зачем-то рукой по столу, потом рванул с вешалки кожаное пальто и, не попадая руками в рукава, побежал следом.
* * *
Заботы, большие и малые, каждый день сваливались на Фаину. Теперь она отвечала не только за себя. Надо было думать о всей смене, о всех, кто стоял рядом. А дела шли далеко не безупречно. Вызывала тревогу печь. Ее давно не ремонтировали. Часто не находилось времени для продувки. Дескать, в военное время можно поменьше заботиться об оборудовании, главное – поскорее и побольше выдать металла. К тому же часто не хватало ковшей для чугуна. Приходилось «перехватывать» летку, оставлять чугун в горне, пока не подвезут новый ковш.
Летку перекрывали вручную, «пушка», приспособленная для запечатывания летки, была маломощна. После «выстрела» приходилось идти врукопашную. В огнедышащее жерло лопатами бросали глину, железным стержнем уплотняли ее.
В ту роковую смену опять не хватило ковша. Пришлось «перехватывать» летку с кипящим в горне чугуном. Поначалу все как будто обошлось. После трамбовки обвалившихся кусков глины люди утирали пот, пили воду. Подручный – широкоплечий, но нескладный паренек Кольша – присел отдохнуть. Подошли рабочие с литейной канавы, закурили.
Пожалуй, никто не помнит, сколько прошло времени до того, когда пространство под фурмами зловеще засветилось.
– Летка!.. – крикнула Фаина и, схватив тяжелый стержень для трамбовки, бросилась к печи.
С шипением, разбрасывая фонтаны слепящих искр, вырвалась на свободу раскаленная добела струя.
– Глину! Скорее глину!.. – приготовившись к трамбовке, закричала Фаина. – Сухую, сухую давайте! – Только и успела крикнуть.
Но было поздно. Растерявшийся Кольша уже с маху шлепнул в горящий зев полный совок мокрой глины. Загремел взрыв. Упругий белый сноп брызг сбил Фаину с ног. Огненная тугая струя чугуна побежала по канаве, потом с треском и грохотом ринулась вниз, на железнодорожные пути.
Фаина вскочила на ноги. Вся одежда на ней горела.
– Летку!.. Летку перехватывайте!
Сорвав с себя суконную куртку, Кольша хлопал ею по Фаине, пытаясь сбить огонь. Фаина закричала от боли и побежала к большому железному баку с рыжей, отработанной водой. Неловко, боком повалилась в воду. Огонь зашипел и погас. Остро запахло паленой тканью.
Когда Фаину подняли из воды, она потеряла сознание.
Сбежались люди, помогли закрыть летку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В сказочно-белый марлевый шатер над желтоватой медицинской клеенкой попала Фаина из перевязочной. С нее сняли все, даже клочки одежды, прикипевшие к живому телу вместе с брызгами жидкого чугуна. Руки и ноги Фаины подвесили на широкие ленты к раме шатра.
К вечеру собрался консилиум, пришли лучшие врачи города. Был здесь и Василий Георгиевич. Увидев Фаину в сплошных пятнах ожогов, он ощутил физическую и душевную боль. Вместе с тем он почувствовал, как все его существо как бы отгораживается от той, которая лежала сейчас под проволочным каркасом, обтянутым марлей, освещенная, как музейная редкость, десятками электрических лампочек. Трудно было поверить, что то, что лежало сейчас перед ним, было крепкой, стройной женщиной, с гибким станом, с упругой походкой, с неистребимой энергией и радостью жизни в голубых, со стальным отливом глазах.
– Обожжено больше трети поверхности тела. Вы же знаете, уважаемые коллеги, что не так страшен сам ожог, как опасна ожоговая болезнь, интоксикация, самоотравление организма ядами отмирающих на живом теле тканей. Где-то это очень близко к трупному заражению, к самозаражению. Не исключен летальный исход…
Речь главного хирурга города Михаила Васильевича Дорогавцева была пересыпана латинскими словами.
В кабинете, куда перешли врачи из палаты, стояла непривычная строгая тишина, за окном – ночь.
– Нам предстоит сложная задача. Но эту женщину мы обязаны спасти, – продолжил старый хирург. До войны Михаил Васильевич ушел на пенсию, а теперь снова сутками не уходил из больницы. – Будем ждать кризиса. Если пациентка перенесет его… А надо, чтобы перенесла.
Он погасил в пепельнице выкуренную лишь до половины папиросу и сказал:
– Желающих приглашаю еще раз осмотреть больную.
Впереди пошел он сам, невысокий, сильно сутулящийся, седой. На полшага сзади уверенно шагал статный, молодцеватый Василий Георгиевич. Он невольно укорачивал шаги, словно боялся обогнать Дорогавцева.
Все снова пришли к белому шатру, Михаил Васильевич стал расспрашивать плачущих санитарок и сестер, как ведет себя больная под белым каркасом.
И вдруг все замерли от неожиданности. Затуманенным болью взглядом на врачей смотрела Фаина. Глаза ее медленно двигались от одного к другому. Некое подобие улыбки тронуло губы.
– Как вас много!.. Из-за меня одной? Как же остальные… без врачей будут?
– Тебе не надо ни о чем беспокоиться, милая, – проникновенно ответил ей Дорогавцев. – Мы не отдадим тебя…
– Хлопот я вам… наделала.
Фаина застонала, скрипнула зубами, закрыла глаза. Лицо исказилось гримасой боли. Беспамятство снова одолело ее.
– Невероятно, – прошептал Дорогавцев. – Потрясающее самообладание! Идемте, друзья. Очень, очень жаль, если ее не станет, – сказал он уже за дверями палаты. – Сейчас позаботьтесь о самом квалифицированном, круглосуточном дежурстве. И никаких родственников! Только мы. Сами.
Постепенно из кабинета Дорогавцева ушли все. Остался лишь Василий Георгиевич.
– Форменное безобразие – ставить на такую работу женщин. Варварство… – как бы самому себе сказал Михаил Васильевич.
– Так ведь она сама. Понимаете, сама настояла, чтобы ее допустили к домне, – возразил Василий Георгиевич.
– Не повторяйте прописей, – отмахнулся старый врач. – Я хочу понять, как и что конкретно руководило этой женщиной. Откуда эта… непреклонность, что ли? Откуда все это выросло? Из чего?
* * *
Фаина почти не осознавала, что делали с ней. В короткие проблески сознания она превозмогала мучительную боль шутками. Эти шутки заставляли людей украдкой вытирать слезы. Она рассказывала им о себе, о своей матери, о подружке Галиме, о рябине, из которой делала бусы и браслеты, о брате Семене, который где-то воевал, о Федосееве и о неблагодарной Домне Ивановне, железной свекровушке, так безжалостно изувечившей ее…
Но с каждым часом, с каждым днем ее рассказы становились короче и сбивчивее. Неузнаваемо распухло лицо, губы покрылись струпьями и еле шевелились. На четвертый день она могла только беззвучно шевелить губами. Недоумевала, почему это все плачут вокруг?..
Кризис, которого с горячим нетерпением ждали врачи, долго не наступал. Прошла неделя, а положение не менялось. Моменты, когда к Фаине возвращалось сознание, становились все реже и короче. Временами Фаина бредила, беззвучно кричала, звала кого-то, бессильно пыталась изменить положение уставшего лежать на спине тела, обрывала лямки, державшие на весу руки и ноги. Казалось, неумолимо надвигался роковой исход.
…Фаине мнилось, что они с Галимой жарким летом сидят на холме под рябиной и Галима надевает ей на руки и ноги тысячу браслетов, сделанных из ягод рябины. Ряды браслетов доходят до локтей и плеч, поднимаются выше, тугими удавками охватывают грудь и шею. Фаина понимает, что вовсе это никакая не рябина, а капли раскаленного шлака, кипящего чугуна. Она пытается сбросить, отряхнуть с себя эти тысячи браслетов и поясов, бус и удавок, но они уже впились, раскаленные, в живое тело, от которого поднимается удушливый зеленый дымок…
Потом ей казалось, что она расшибает пикой спекшуюся от страшного жара глину, а глина не поддается. Она бьет все сильнее и сильнее. Неожиданно вся доменная печь обнажается. Фаина со страхом видит, как отлетают огромные листы обшивки, рушится толстая огнеупорная кладка, а высоченный пылающий конус руды и кокса медленно оседает, засыпая ее с головой, испепеляя, хоронит под собой.
То вдруг она видит забежавшего на часок брата перед самой отправкой на фронт. Он в гимнастерке, в хлопчатобумажных бриджах. Он показывает Фаине черный пластмассовый патрон, где скручен в трубочку кусочек тонкой бумаги.
– Паспорт смерти, – говорит Семен, – это все, что от меня осталось, когда я сгорел в танке…
И Фаина не удивлялась, что он стоит рядом, живой и одновременно сгоревший. Разве с ней не случилось то же?..
Фаину кормили через тонкую резиновую трубочку, пропущенную в нос. Одну за другой сменяли марлевые салфетки, пропитанные растворами то марганцовки, то риванола, то жидкой мазью Вишневского, пахнущей серой и сапожным дегтем. Время от времени в вену меньше обожженной руки вливали через капельницу кровь. Но язвы ожогов становились шире и угрожающе углублялись. Даже привыкшие ко всему сестры содрогались, когда нужно было делать очередную обработку. Лицо Фаины делалось бледнее, ее движения – более редкими и вялыми, голоса давно уже не стало слышно.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
На улицах города весна все смелее и шире шла в наступление. Дни были ветреные, солнечные. Длинные сосульки на крышах росли от ветра как-то вкривь и вкось. Взлохмаченные воробьи с криком дрались, скандалили на тротуарах и крышах…
Фаина жила в это время как бы в двух мирах. Один был жестокий, реальный – с болью, пытками перевязок. Другой мир был добр, зелен и тепел, как детство, звонок, как юность, уверен, как зрелость. И эти миры вращались, сменяя друг друга.
Фаина, когда только-только появилась на свет, конечно, не могла слышать голос повитухи, бабки Бражки. Но об этом ей много рассказывала мать. А вот теперь Фаина явственно слышала этот немного ворчливый и вместе с тем ласковый голос.
– В мае родилась, – приговаривала бабка Бражка, заворачивая крохотное тельце в теплую пеленку и укладывая под материнский бок, – весь век маяться будешь. Ну да ничо! Наша бабья доля такая. Когда ни родись, все равно, кроме маяты, доброго мало. Живи давай…
На третий день девочку окрестили и нарекли Фелицатой, что означает Счастливая. Но это знал только староверский поп, однако он ничего не сказал об этом, Фелицата – и все тут.
Потом образ бабки Бражки исчезал и вместо него возникали то плачущая мать, то больной отец.
…Через два месяца после рождения Фельки началась война. Отца забрали. Первое время мать сильно горевала, но жить было можно. В хозяйстве две коровы, хорошая лошадь, в амбаре еще не перевелись зерно и мука. Не знает этого Фаина, ни той лошади, ни коров не видела. Но вот сейчас все это так отчетливо встает перед глазами! Правда, об этом не раз вспоминала потом плачущая мать.
Через год вернулся с войны отец. Был он страшно худой, бледный, первое время разговаривал с трудом. Пуля пробила ему легкие. По ночам кашлял кровью и тихо матерился, чего раньше с ним никогда не бывало. Ругал богатеев и даже самого царя-батюшку.
Мать с ног сбилась, ухаживая за ним. Продавала на базаре кофты, холсты, доставала в городе лекарства, которые прописал доктор. Видно, с того и оклемался солдат.
Первое время по хозяйству поправлял что надо. А потом уговорили его купцы, братья Мокроносовы, дали денег и послали в Ирбит, на ярмарку. Чуяло материно сердце, не кончится добром эта поездка. Упрашивала отца вернуть деньги, отказаться от поездки. Куда там! Ходил ее Вася по горнице веселый. Смеялся над ее страхами, обнимал, успокаивал. Говорил, если выгорит дело, Мокроносовы в пай взять обещали. И станет тогда Фекла купчихой, в шелках будет ходить.
И уехал.
Да, не просто мужику в купцы пробраться. Не зря чуяло материно сердце беду. Навязался отцу в дороге попутчик. Все сказки рассказывал да вином угощал. Говорил, тоже в окопах вшей кормил. Оттого и доверился ему отец. Приехали в Ирбит, устроились в номерах. Хвать шкатулку, а она пустая. И попутчика след простыл.
Мокроносовы, конечно, все в счет поставили. Ни копейки не захотели скостить. Хоть всего малую часть заплатил им Василий, а лошади на дворе не стало, кошевой новой – тоже. И сам попал в кабалу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Порой Фаине трудно было отличить реальность от забытья. И вот в эти минуты, когда все виделось ей как бы в опрокинутом зеркале, а сознание отказывалось отделять бред от действительности, когда казалось, что приходит конец жизни и мучениям, и это перестало быть страшным, – наступало притупление, желание забыться навсегда.
В один из таких моментов наибольшего ослабления воли Фаина вдруг услышала близкое жужжанье шмеля. Она огляделась и вдруг увидела его совсем близко от своего лица. Увидела его оранжево-коричневого, со всеми бархатистыми полосками, с мохнатыми усиками и лапками. Шмель назойливо гудел, медленно кружил над лицом и порой задевал мохнатыми лапками нос. Фаина знала, что шмель может больно ужалить, и боялась, чтобы не ужалил. Она напряженно следила глазами за его полетом.
Потом шмель поднимался, увеличивался в размерах, становился неотчетливым, бесцветным. И наконец исчезал. И тогда Фаина видела ослепительный блеск электрических лампочек, белизну марли, обтягивающую каркас над ее кроватью.
Фаина понимала, что шмель не мог залететь под марлю, да и вообще откуда бы взялся шмель в это время года. И все же она старалась обороняться от него. Но даже от легкого движения ее пронзала боль, сознание мутилось. И снова возникали видения давно прошедшего детства.
…Мокроносовы после революции поутихли, исправно платили налоги, даже с должником Васькой Шаргуновым разговаривали, как с равным, заискивали, просили кое-что спрятать…
Однажды под утро казаки заняли Николо-Павловку. Лавка не закрывалась целые сутки. Мокроносовы принимали за товар охотнее всего царские деньги: были уверены, что скоро вернется старое.
К вечеру красноармейцы вновь вышибли беляков из теплых домов и заставили братьев Мокроносовых открыть лавку. За прилавок в качестве; приказчика поставили Шаргунова, а рядом молоденького бойца с винтовкой, чтобы никто не мешал торговать.
Ночью навалились белые со свежим подкреплением и вырубили почти всех, кто попал под шашку. Целые сутки белочехи и казаки шарили по дворам и хлевам. Выволакивали на снег полураздетых раненых красноармейцев и тут же шашками приканчивали их на глазах у онемевших жителей…
В эту несчастную зиму заставили Мокроносовы отца с приказчиком ехать с обозом в город. Отец уговорил земляка свернуть с тракта в лес. Он знал, где скрывались красные. Колчаковский разъезд разгадал замысел беглецов. Началась погоня. Товарища Шаргунова ранили. Несколько верст по заснеженному лесу отец тащил его на плечах. Но тот так и умер в полуразрушенной землянке углежогов, где пришлось укрыться от преследователей.
Лишь через неделю отец глубокой ночью приполз домой. Весь горел в огне. Похудел до неузнаваемости, оброс, ничего не мог есть. Вскоре начал кашлять кровью – открылась старая фронтовая рана…
Прогнали колчаковцев, исчезли Мокроносовы, установилась рабоче-крестьянская власть. Но радость в семье Шаргуновых была омрачена. Отец – не работник, за ним надо было ходить, как за малым ребенком. Мать совсем сбилась с ног.
Летом девятнадцатого года отец умер.
– Ослобонил он тебя, Фекла, – успокаивали мать соседки. – Какая от него, беспомощного, польза?
– Ничо, не старо время, – толковал одноногий сельсоветский сторож, – советска власть о детях заботиться будет. Декрет, бают, такой вышел. Сам Ленин его подписал…
Хорошо, что хоть тетка Лукерья взяла Фельку к себе. Боюсь, говорила, одна в избе оставаться.
Только шесть годиков исполнилось Фельке, а помнит она ту весну. Пришла она с широкими холодными зорями, тонкий сказочный месяц сиял на темно-синем небе. Но все длиннее становились голодные дни. И мать не один раз горевала, что вряд ли хватит картошки до нови.
Все чаще стали ходить по Николо-Павловке нищие. Одни высохшие, с блеклыми глазами, другие – опухшие от водянки, стонущие и слезливые. Страшно было Фельке смотреть на них. Вдвойне страшно, когда Лукерья, пряча глаза, быстро говорила им: «Бог подаст! У самой, вишь, голодные рты…»
Фелька поэтому старалась чаще бывать дома. У матери голоднее, зато все равны. И нищим мать всегда что-нибудь даст. То старенькое, залатанное девчачье платье, то чашку колючего тощего овса. А когда давать стало нечего, пожалуется на свою вдовью долю.
Все чаще и чаще стала плакать мать. И Фелька, помнится, рядом с ней ревела. Обнимутся, бывало, и плачут.
– Ну, развели опять половодье, – ломающимся баском осуждал их Сенька, старший брат Фельки. – И когда это у вас вёдро настанет? Прямо заживо себя хороните…
Он чувствовал себя старшим, главным в семье, но не знал, как взяться за дело. Все по дому делали мать, Верка и заневестившаяся Марфа.
Фелька стала задумываться, как сделать, чтобы мать больше не плакала.
Однажды в погожее июньское утро Фелька тихонько поднялась с дерюжки, натянула припасенное с вечера длинное Веркино платье, обтрепанное понизу, умылась и вышла в сенки. Вытащила из-под лавки старенькую корзинку, с которой бегала в лес за грибами, повесила ее на локоть, перекрестилась и закрыла за собой дверь.
Через час поднялись родные, а Фельки нет. Не на шутку встревожились, а потом подумали, что Фелька наверняка убежала к Лукерье подкормиться. На этом и успокоились.
А перед обедом привела Фельку домой тетка Азиза со своей дочерью Галимой. Галима чуть постарше Фельки. Тетка Азиза жила в Шайтанском ауле, на другом конце села. Там жили татары. В самом конце улицы стояла небольшая деревянная мечеть.
Увидев Азизу с девчонками, мать сразу догадалась, в чем дело. Ноги у нее задрожали, слова выговорить не могла. А тетка Азиза сказала:
– Твой девка к нам заходил. Христа-радки просил. Я смотрел, Феклин девка…