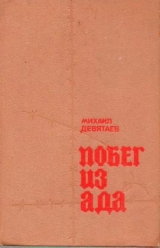
Текст книги "Побег из ада"
Автор книги: Михаил Девятаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Процедура приема началась. Шуберт вызывал номера по карточкам. Каждый из нас должен был подходить к нему. Блокфюрер задавал вопрос: за что попал? И каждому отвешивал звонкую пощечину, а рапортфюрер стоял рядом и ухмылялся.
На ужин нам дали по 200 граммов желтоватой теплой воды, именовавшейся «кофе», и больше ничего. Проглотив горьковатую жидкость, мы заскучали, сидя за длинными столами. А скучать в лагере не полагается, надо всегда быть бодрым. Штубельтесте (старший комнаты) – однорукий уголовник Франц – выскочил из своей кабины с бодрящей резиновой палкой и, вскочив на стол, начал бить по головам всех подряд, выкрикивая ругательства. Не понимая, в чем дело, мы бросились кто куда. В дверях образовалась давка. Выбегающих из помещения настигли палки помощников Франца. На этот раз я удачно избежал побоев, нырнув под стол. Но многим досталось основательно. Потерявших сознание волокли за ноги в уборную и там окатывали ледяной водой из шланга.
Отбой ко сну измученные узники встретили со вздохом облегчения. На трехэтажных деревянных койках с матрацами, набитыми древесной стружкой, устраивались по четыре-пять человек. Свора распорядителей «шляфзала» (спального помещения) во главе с тем же безруким Францем палками и резиновыми шлангами наводила «порядок». С полчаса еще слышались удары, крики, проклятия, стоны…
Подняли нас в половине четвертого. Почти раздетых, обутых в тесные деревянные колодки, построили в колонну и начали гонять по двору взад-вперед, как скотину. Заставляли плясать на корточках, бежать, по команде падать на живот, одновременно вскакивать и снова бежать. По булыжникам грохотали деревянные колодки, словно тысячи лошадей вскачь проносились по деревянному настилу. Это была сумасшедшая пляска скелетов, над которыми свистели палки, резиновые шланги, кожаные бичи. Гитлеровцы называли это издевательство «шпортом». Длилось оно два-три часа, в зависимости от настроения блокфюрера. После «шпорта», как правило, отправляли в морг несколько трупов, с десяток обморочных тащили в уборную приводить в чувство… Остальным, не дав ни минуты передышки, приказывали раздеваться и приступить к «водным процедурам»; тщательно мыться ледяной водой до пояса (ни больше ни меньше!). На дверях умывальной комнаты стоял блокфюрер и осматривал каждого выходящего. Если находил, что заключенный помылся согласно правилам, давал оплеуху и пропускал его, а тех, у кого на два-три сантиметра выше пояса тело было сухим, ставил в шеренгу в коридоре под охрану своих помощников. Всех задержанных снова загоняли в умывальную, приказывали раздеться догола и начинали их домывать: один изверг направлял мощную струю воды из шланга на несчастного, а другой чесал его колючей терновой метлой так, что кожу сдирал с человека. Многие не выдерживали такого «мытья» и тут же умирали.
Так изо дня в день, с подъема до отбоя, по строго установленному распорядку, заключенного на каждом шагу преследовали палка и нагайка, изощренные методы изматывания его последних сил. Все делалось для того, чтобы ему некогда было думать и размышлять.
Казалось, о какой организованной борьбе с врагом может идти речь в этих ужасных условиях? На первый взгляд могла показаться нелепой мысль о том, что люди 47 национальностей – избитые, истерзанные, непонимающие друг друга – могут объединиться и оказывать активное сопротивление своим поработителям. Но как я был удивлен и обрадован, когда узнал, что в лагере существует, действует и представляет собой большую силу подпольная коммунистическая организация.
Боевое интернациональное содружество
Из-за чрезмерной тесноты часть заключенных, в том числе и я, были переведены из четырнадцатого в тринадцатый барак, находившийся в том же дворе изолятора. В одной его половине размешались штрафники, те самые, которых я видел в первый день марширующими по плацу, а в другой – смертники. У смертников не было лагерных номеров (их не регистрировали в лагере, как будто они сюда и не поступали), а были красные круги на рукавах и красные ленты на груди. Над этими обреченными людьми эсэсовцы измывались еще больше. Часто я поражался, как они всё это выдерживают, откуда берутся силы не только не падать духом, по еще и нас подбадривать, воодушевлять на борьбу с фашизмом.
Я познакомился, а затем и подружился с двумя смертниками: полковником Николаем Степановичем Бушмановым и политруком Андреем Дмитриевичем Рыбальченко. Это были мужественные советские люди. Доведенные фашистами до полного изнеможения, приговоренные к смертной казни, они никогда не падали духом, внушали людям веру в нашу победу, организовывали массы заключенных на активную борьбу с врагом в условиях концлагеря.
Много мук и лишений перенесли они в фашистском плену, но и немало причинили вреда гитлеровской Германии. Еще в 1942 году в одном из лагерей военнопленных под Берлином они создали подпольную организацию, которая срывала многие мероприятия немцев, направленные против нашей Родины.
С 1943 года Бушманов и Рыбальченко вели активную работу в берлинском подполье, выпуская и распространяя листовки, призывающие военнопленных и увезенных на работу в Германию иностранных рабочих к активному сопротивлению и саботажу на военных предприятиях – портить станки и оборудование, уничтожать материалы и готовые изделия, выпускать бракованную продукцию.
В июле 1943 года по доносу провокатора гестапо арестовало руководителей и членов Берлинского центра подполья, в том числе Н. С. Бушманова и А. Д. Рыбальченко. Всех заключили в берлинские тюрьмы – Моабит, тегельскую и др. Четыре месяца гестаповцы подвергали их пыткам и издевательствам, требуя выдачи соучастников. Но подпольщики не бросили даже тени подозрения на товарищей, продолжавших вести борьбу. Ничего не добившись, гестапо приговорило Бушманова и Рыбальченко вместе с другими их товарищами «за подрыв военной экономической мощи Германской Империи – к смертной казни…»
И вот они в смертном изоляторе концлагеря «Заксенхаузен» ждут своего конца. Каждый день утром, в обед и вечером всех смертников выстраивают, и рапортфюрер Зорге с блокфюрером Шубертом вызывают по списку на казнь. Я видел, с каким достоинством держались Бушманов и Рыбальченко в эти тревожные для них минуты, с какой лютой ненавистью смотрели они на Шуберта и Зорге. Каждый из них правую руку держал в кармане. Я знал, что в эти минуты они до боли в пальцах сжимают ручки ножей, готовясь броситься на извергов, как только те зачитают фамилию, одного из них. Так они договорились: умереть в борьбе, если придется. Так и жили они в ожидании смерти час за часом. Нам казалось, что они совершенно не задумываются над своим положением. Вернее, им некогда было думать о себе, так как они были постоянно заняты, совсем другими заботами.
С первых же дней пребывания в смертном изоляторе Николай Степанович и Андрей Дмитриевич решили продолжать подпольную борьбу против фашизма, пока не оборвется жизнь. Им удалось установить связи с немецкими, французскими, датскими, польскими, чехословацкими коммунистами, а через них и с лагерным интернациональным подпольным комитетом и в тесном взаимодействии с ними наносить врагу чувствительные удары по самым уязвимым местам. Они умело использовали благоприятные условия, в которых оказались, сами того не ожидая. Карантин был своеобразным пропускным пунктом в лагере, через него проходили вновь прибывающие партии заключенных и только через три недели распределялись по рабочим командам и уходили в общий лагерь.
Полковник Бушманов и политрук Рыбальченко беседовали с людьми, изучали их и отбирали наиболее грамотных, стойких и преданных Родине товарищей для подпольной работы. Инструктировали их, а затем через немецких коммунистов организовывали их отправку на работу в ту или другую команду, где больше всего требовалось организовать сопротивление и срыв производства военных материалов. Прибыв на место, эти товарищи создавали подпольные группы, развертывали политическую работу среди заключенных, направляли их усилия на подрыв вражеской экономики. Все они поддерживали с Бушмановым и Рыбальченко постоянную связь. Я сам видел, как десятки людей приходили к ним из общего лагеря и подолгу беседовали о том, как лучше организовать подпольную борьбу.
Через иностранных коммунистов Николай Степанович и Андрей Дмитриевич организовали материальную помощь выбившимся из сил советским патриотам и иностранным антифашистам. Такую помощь от них получал и я. Я был крайне истощен, а одет хуже оборванца: лохмотья едва прикрывали тело, вместо рубашки и пиджака – дырявая, промасленная жилетка, на ногах – деревянные колодки. В таком одеянии меня по холоду гоняли на разные работы. Бушманов и Рыбальченко достали у своих иностранных друзей по подполью и передали мне теплую одежду. Сами голодные и истощенные, они часто давали мне кусочки хлеба, картошку, обманывая меня, что сыты. Через тех же иностранных товарищей они организовали сбор продуктов из посылок для наиболее слабых советских и иностранных борцов против фашизма.
Помню такой случай. Бушманов и Рыбальченко сидели за бараком в окружении группы заключенных, среди которых был и я. Они рассказывали нам о положении на фронтах согласно последней сводки Совинформбюро, принятой подпольным лагерным радиоприемником. Вдруг к ним подошли два человека: один, коренастый, широколицый, со светлыми волосами, был датчанином, другой – чернявый, круглолицый, – как я впоследствии узнал, советский лейтенант, член подпольной организации Яков Львович Крымский, который хорошо знал немецкий язык. Датчанин передал Андрею Дмитриевичу огромную коробку, наполненную продуктами, и что-то сказал ему по-немецки. Яков Львович перевел его слова:
– Это вам, дорогие Андре и Николай, от нас, датских и норвежских коммунистов…
Андрей Дмитриевич поблагодарил датчанина и тут же, в его присутствии, раздал нашим товарищам всё, что было в коробке, не оставив себе ничего. Этот его поступок взволновал меня до глубины души. Не решаясь есть полученные хлеб и сыр, я спросил у него:
– Почему же вы с Николаем Степановичем себе ничего не оставили?
– А зачем нам? Мы не сегодня-завтра попадем в крематорий. А вам надо сохранить силы для борьбы, – ответил Андрей Дмитриевич.
Николай Степанович добавил в шутку:
– О нас не беспокойтесь, если сами не дойдем до крематория, донесут…
Часто я интересовался, как они себя чувствуют, зная, что приговорены к смерти и что в любую минуту их могут казнить.
– Да, я приговорен к смерти, – говорил Бушманов, – скверно, конечно, на душе. Но я никогда не буду вымаливать себе жизнь у палачей.
– А у меня на сердце спокойно, будто этот приговор не меня касается, – заявлял Рыбальченко. – Ведь когда знаешь, за что умираешь, смерть не так уж страшна.
Часто у меня было очень подавленное настроение. Тогда я шел побеседовать к полковнику и политруку.
– Миша, не падай духом! – ободряли они меня. – Советские люди везде есть и пропасть не дадут.
Горячее участие и бодрое слово друзей в этих страшных условиях придавали мне силы и энергии. Я настолько стал им верить, что однажды рассказал свою тайну: я вовсе не Никитенко, а Девятаев – летчик-истребитель советской авиации.
– Это хорошо, – сказал Рыбальченко и спросил у меня: – А сумел бы улететь на немецком самолете?
Я не был уверен, что смогу управлять иностранной машиной.
– Если захочешь, сумеешь. Для большевиков нет невозможного. Самое главное, – захотеть и стремиться к этому. Ты должен при первой же возможности захватить немецкий самолет и улететь на Родину!
– А где я его захвачу? – безнадежно махнул я рукой.
– На аэродроме, конечно, – усмехнулся Бушманов. – Устроим, если надеешься на себя, – пояснил Рыбальченко. – Жаль, что нас из этой клетки никуда не выпускают, а то бы вместе попробовали… Можно направить тебя на какой-нибудь аэродром, в рабочую команду. Только не проболтайся, что ты летчик!.. Никому ни слова!
Вначале я смотрел на это, как на пустой разговор, которому не стоит придавать особого значения. Как это они могут направить меня на аэродром, будучи смертниками! Но когда они снова и снова поднимали этот вопрос и начали вполне серьезно давать советы, как поступить в том или другом случае при захвате самолета, пришлось задуматься. Луч надежды озарил мою жизнь. Поклялся им, что если такая возможность представится, не остановлюсь ни перед чем, организую группу товарищей, как они советуют, захвачу самолет и улечу на Родину. Мысль, поданная новыми друзьями, крепко засела мне в голову. Только бы попасть на аэродром.
– Когда же? – всё чаще я спрашивал у друзей.
– Скоро, Миша, – отвечал Рыбальченко. – Номер твой уже передал немецким товарищам из канцелярии. Как только будет наряд в какую-нибудь аэродромную команду, тебя включат.
– А если не будет?
– Тогда на завод «Хейнкель» пошлем, там есть летно-испытательное поле… Но мне сказали, что на аэродромы из лагеря часто берут заключенных.
Время тянулось медленно. Я начал было уже терять надежду, как вдруг однажды подходит ко мне А. Д. Рыбальченко и приглашает за барак:
– Ну, что? – посмотрел я ему в глаза.
– Готовься, Миша. Все сделано. Скоро поедешь… И действительно, на другой или третий день меня вызвали на этап.
Прощаясь с Николаем Степановичем Бушмановым и Андреем Дмитриевичем Рыбальченко, я горячо благодарил их за всё хорошее, что они сделали для меня, за верную дружбу и был уверен, что мы уже никогда больше не встретимся. Ведь их положение было безнадежным – никаких шансов на спасение! И неизвестно, что случится со мной. Тяжело было сознавать, что палачи в любую минуту могут учинить над ними жестокую расправу.
С болью в сердце расставался я и со своими старыми друзьями, Иваном Пацулой и Аркадием Цоуном, которые делили со мной горе и радость на протяжении всего тяжелого пути от лодзинского лагеря до «Заксенхаузена». Теперь я остался один среди чужих, незнакомых людей, увозимых вместе со мной в неизвестном направлении. Что ждет меня там?..
В ушах всё еще звучали слова друзей: «Не падай духом! Советские люди везде есть и пропасть не дадут». Это правильные слова, я понимал их значение теперь, как никогда. В «Заксенхаузене» особенно ярко проявились духовные и моральные силы советского человека, воспитанного родной Коммунистической партией. Они, советские люди, и, в первую очередь коммунисты, были главной движущей силой в подпольной борьбе многонациональных масс узников фашизма против общего врага. Не случайно все иностранцы восхищались мужеством и бесстрашием наших людей, представителей той страны, на которую они возлагали все надежды на свое освобождение от фашистского рабства.
– Как не восхищаться русскими, как не преклоняться перед ними, когда их не могут сломить никакие лишения, никакая сила, даже смерть! – часто слышал я от заключенных разных национальностей.
Как-то перед вечерней проверкой на плацу была установлена передвижная виселица. Возле нее собралась группа эсэсовцев. Кого будут вешать, никто не знал. Когда сорок тысяч заключенных выстроили перед этим страшным сооружением смерти, к нам в изолятор явились рапортфюрер Зорге, блокфюрер Шуберт и солдат с автоматом. Они остановились перед оцепеневшими смертниками.
– Белов Василий! – гаркнул Зорге.
Спокойно и гордо из строя вышел молодой невысокий парень, – русоволосый, с большими умными глазами. Ему надели наручники.
– Шнель марш-марш! – скомандовал ему рапортфюрер.
– Обожди, мне не к спеху, – Белов бросил на него уничтожающий взгляд, полный презрения и лютой ненависти. – Дай проститься с товарищами…
Гитлеровцы расступились. Белов окинул нас теплым дружеским взглядом и произнес:
– Прощайте, товарищи! Передайте привет Родине!..
Палачи схватили его за плечи и вытолкнули за ворота изолятора. И он пошел твердым строевым шагом, высоко подняв голову. И вдруг запел:
…Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная —
Священная война!..
…Трижды обрывалась веревка, и каждый раз, когда его поднимали и снова надевали на шею петлю, он кричал на весь лагерь:
– Да здравствует Советская Родина! Смерть фашизму!
Сорокатысячная толпа узников взволновалась, загудела, как потревоженный улей, на разных языках по адресу палачей посыпались проклятья… Ярость массы нарастала с каждой секундой. Гитлеровцы растерялись. Тогда комендант лагеря подскочил к палачу, оттолкнул его в сторону, не дав надеть петлю в четвертый раз, и выстрелил из пистолета в голову Белова, уже лежавшего без сознания.
Это был простой советский человек, военнопленный, уроженец г. Саранска. Повесили его за попытку бежать из концлагеря. Так умирали советские люди. И смертью своей они мобилизовывали заключенных на беспощадную борьбу с фашизмом. Гитлеровцы были бессильны помешать этому.
Многое узнал я и пережил в «Заксенхаузене», многому и научился. И теперь, куда бы я ни попал, в каких бы условиях ни оказался, знал, что мне делать.
В двухосный товарный вагон набили нас семьдесят человек. В страшной тесноте невозможно было ни прилечь, ни повернуться. Поезд тронулся. У меня была мысль: только бы попасть на аэродром!
У заветной цели
Остров, покрытый лесом и болотами, был отрезан от суши широким проливом Балтийского моря. Серое осеннее небо сливалось с бескрайней водяной пустыней, которой, казалось, нет ни конца, ни края. Шел мокрый снег, дул промозглый морской ветер. Нас привели в лагерь, состоявший из шести бараков, обнесенный многорядным забором из колючей проволоки. Здесь содержалось три тысячи заключенных, которых немцы использовали на разных тяжелых работах.
В разговорах со «старожилами» лагеря я получил самые неутешительные сведения об условиях жизни и обращении с заключенными. Лучшего, конечно, я и не ждал. Но была и хорошая новость: на острове есть военный аэродром! Из лагеря туда ежедневно гоняют на разные работы команду из заключенных в 45 человек. Каждое утро эсэсовцы насильно подбирают людей в эту команду, потому что все избегают ее. Труд там каторжный, целый день на ветру, дующем с моря, да еще на голодный желудок. Из этого я заключил, что попасть туда будет не так уж трудно, и тут же всплыло перед глазами худое, измученное лицо политрука А. Д. Рыбальченко, вспомнился его приглушенный, твердый голос: «Ты должен улететь на Родину! Сумеешь, если захочешь. Для большевиков нет невозможного…». Друзья сделали всё, чтобы я мог улететь, я нахожусь у желанной цели и должен выполнить данную им клятву. Живы ли они?
На другой день меня, точно по заказу, взяли в аэродромную команду. На аэродроме мы разгружали цемент, подвозили песок, засыпали воронки после бомбежки, бетонировали взлетные дорожки. Руки и ноги коченели от холода, свирепый ветер с моря, будто заключив союз с фашистами, изматывал наши силы, выдувая из наших тел последнее тепло. Чтобы хоть немного защититься от холода, мы надевали на себя под лохмотья бумажные мешки из-под цемента. За это нас лупили палками, грозили суровым наказанием. Но теперь я не роптал на свою судьбу, потому что видел перед собой цель, достижение которой окупит все страдания.
Стал присматриваться к окружающим, прислушиваться к их разговорам и убедился, что народ здесь замечательный, готовый горы свернуть. У всех на уме было одно: как вырваться из фашистского ада? Значит, можно было начинать подготовку к захвату вражеского самолета. Надо подобрать группу наиболее надежных, особо отважных, готовых на любой риск товарищей. А риск очень большой, поплатиться можно не чем-нибудь, а самым дорогим для человека – жизнью! Ведь захватывать самолет и улетать придется среди бела дня и буквально на глазах у врага. Это не в родном полку, где, бывало, в трудных условиях фронтовой обстановки каждый из нас чувствовал помощь, поддержку командира, друзей и товарищей-однополчан. Я невольно вспомнил своего командира эскадрильи, чуткого и отзывчивого товарища – Владимира Ивановича Боброва. Он всегда ободрял в тяжелую минуту, радовался успехам подчиненного. О, как бы дороги были его советы в эти минуты! Что он делает теперь? Где сражаются мои однополчане? Может быть, это они на днях кружили над аэродромом, где мы изнываем от каторги?!
Как ни скрывали от нас фашисты правду о положении на фронтах, мы знали, что Советская Армия ведет победоносные бои уже на вражеской территории. Это придавало нам силы. Мне хотелось знать обо всем, что делается на родной земле, где проходит линия фронта. Это было необходимо для перелета. Ведь у меня не было никаких оперативных карт и даже простой географической. Но я верил, что и без карты, без компаса само сердце приведет меня туда, куда оно неудержимо стремится с той минуты, как я оказался в плену у врага.
Следы сокрушительных ударов по врагу мы видели и здесь, на аэродроме, где нас заставляли работать.
– Снова летят красные звезды! – кричали мы, увидев свои боевые корабли.
– На славу поработали наши летчики! – обычно говорили заключенные после каждого налета. – Только сожалели, что ни одна бомба не попала в крепостные стены лагеря.
В первых числах января 1945 года советская бомбардировочная авиация во время ночного налета разбомбила два ангара, вывела из строя взлетно-рулежные дорожки и сожгла 11 или 12 самолетов врага. Это очень обрадовало всех нас, заключенных, вселило уверенность в скорое освобождение.
Фашисты поспешно создали из нас специальную рабочую бригаду для быстрейшего устранения последствий этого налета. Но налеты повторялись все чаще, так, что мы не успевали засыпать и заливать бетоном бомбовые воронки. Правда, нам некуда было спешить с этим делом, и мы не спешили… Чем больше было обломков немецких самолетов, тягачей, развалин ангаров, тем легче становилось у нас на сердце.
Однажды во время выгрузки цемента из вагонов я увидел, как один военнопленный засыпал песком буксы вагонов. Заметив, что я за ним наблюдаю, он скрылся, но мне удалось запомнить его веснушчатое лицо и шрам на носу. Я понял, что этот человек способен на любой риск, что его необходимо привлечь к осуществлению моего плана побега. Два дня я искал его, а он скрывался, видя, что я его преследую. Наконец, он чуть не зарезал меня, приняв за фашистского сыщика. Только через некоторое время он убедился, что я свой человек, и мы стали с ним друзьями.
Это был Володя Соколов. В лагере его звали просто «курносый». В плен Володя попал в начале Отечественной войны, прошел через многие тюрьмы и лагеря, был удивительно находчив и изворотлив. Владея немецким языком, он даже вошел в доверие к немцам и был назначен помощником «капо» (бригадира), что давало ему возможность облегчать участь товарищей.
До случая с песком я серьезно остерегался с ним разговаривать, брезгливо сторонился, думая, что он фашистский прислужник, но глубоко ошибся. На самом деле «курносый» был пламенным советским патриотом, питавшим жгучую ненависть к фашистам. Один эсэсовец до смерти замучил военнопленного. Узнав об этом, «курносый» изменился в лице и, скрипнув зубами, сказал:
– Этому извергу дорого обойдется кровь наших людей! Я ему, гаду, устрою…
Видел я, как «курносый» отдал свою порцию супа обессилевшему поляку. Всё это заставило изменить о нем свое мнение. Мы поговорили с ним по душам и поняли друг друга. Он под строгим секретом рассказал мне, что группа товарищей готовит побег. Совершить его они думают в момент налета советской авиации, когда охранникам будет не до нас. По его словам, возглавлял эту подготовку какой-то Иван Корж. Меня это очень заинтересовало. Выходило, что имеется готовая сколоченная группа для побега, остается только действовать.
Но кто такой Корж? Надежный ли это человек? Обо всём этом я решил разузнать самым тщательным образом. После некоторого раздумья я сказал Володе Соколову, что есть возможность совершить побег на самолете.
– А летчик есть? – сразу просиял он.
– Есть среди нас летчик, – ответил я, – только об этом никому ни слова, а то, если узнают гитлеровцы, ему и всем нам несдобровать…
– Будь спокоен! – решительно заявил он. Вскоре нас послали в рощу заготавливать дрова. Ко мне подошли пятеро заключенных. Один из них, очень худой, невысокого роста, с живыми горящими глазами, отозвал меня в сторонку и просто спросил:
– Укажи мне, кто здесь летчик? Я – Иван Корж. Хочу с ним поговорить.
Я решил сначала присмотреться к нему, убедиться, что не подведет, а потом уж обсуждать с ним план побега. Но весь вид Ивана Коржа был таким располагающим, этот человек вызывал такое доверие к себе, что уж при следующей встрече я признался:
– Летчик – я.
– Так бы и говорил, – улыбнулся Корж. – Это здорово! Свой летчик! Дело!..
Корж, как выяснилось, была вымышленная фамилия советского пограничника Ивана Кривоногова. Военную службу он начал в Шепетовке, где прошли годы боевой молодости писателя-коммуниста Николая Островского. В этом городе молодой патриот прочитал книгу «Как закалялась сталь», а из рассказов местных жителей узнал о боевых подвигах ее автора. Образ Павки Корчагина стал вдохновляющим примером для воина-пограничника.
Кривоногов был одним из тех, кто принял на себя внезапный, вероломный удар фашистских полчищ. Командиру взвода Кривоногову было тогда 24 года. Вместе со своими подчиненными он занимал дот на берегу пограничной реки Сан в районе Перемышля. О мужестве, с каким Кривоногов и его бойцы отражали атаки врага, говорит тот факт, что гарнизон дота продержался под ураганным артиллерийским огнем и бесчисленными атаками фашистов до третьего июля, когда фронт уже был далеко позади него.
Пограничники во главе с Кривоноговым беспощадно уничтожали оккупантов, посягнувших на нашу землю. Но дот был разбит, завалены обломками казематы входы сообщения. Из пятнадцати бойцов гарнизона в живых осталось четверо, но они упорно продолжали сопротивляться. И только тяжелораненые попали в руки врага.
Заточенный в лагерь, Кривоногов и там не смирился с ненавистным врагом и продолжал бороться против него всеми доступными средствами. За убийство провокатора гестапо в лагере военнопленных фашисты приговорили Кривоногова к смертной казни. К счастью, он был спасен французскими коммунистами-подпольщиками, находившимися в концлагере. И тогда же объявил друзьям, что он не Корж, а Иван Кривоногов. В этом лагере он подружился с Володей Соколовым. Долгое время два неразлучных друга работали на откопке неразорвавшихся бомб после воздушных налетов советской и союзной авиации, всегда находясь с глазу на глаз со смертью.
Мой план побега на самолете друзьям понравился, но не сразу они приняли его. Я видел и чувствовал, что мой вид не внушал им доверия. То один, то другой спрашивал у меня:
– А ты действительно летчик?.. Настоящий?.. Смотри, если врешь, лучше сразу признайся, а то хуже будет.
С каждым днем я просвещал их в авиационных делах, распределял обязанности при захвате самолета и перед взлетом. На Володю возложил ответственность за хвостовое оперение и проинструктировал его, что он должен делать. Кроме того, стал готовить его к исполнению обязанностей штурмана. Иван Кривоногов должен был быстро расчехлить моторы, убрать колодки из-под колес шасси и т. д. Наконец они отказались от своего плана – бежать вплавь через пролив, хотя он был уже тщательно разработан.
– Конечно, на самолете вернее! – согласились они. – Только давай присматриваться, на каком лучше лететь, ведь их тут вон сколько, и все разные!
Начали готовиться. Друзья видели, что я сильно истощен и что надо побыстрее восстанавливать мои силы. Подкармливая меня, они шутили:
– Разве ему с такой «мощностью» справиться с самолетом?
Я начал внимательно присматриваться к немецким машинам, используя малейшую возможность для ознакомления с ними. Особенно тянуло меня в кабину самолета. Хотелось забраться в нее и сидеть до тех пор, пока не запомню хотя бы в общих чертах ее арматуру. А кто мне позволит такую роскошь? Ведь мы и шагу не ступали без конвоира! Пришлось пускаться на всякие хитрости. Стал изучать детали разбитых самолетов, хотя без риска быть застреленным их невозможно было взять. Часто нам поручали убирать обломки самолетов. Во время этой работы я выдирал с приборной доски разные таблички, прятал их в карманы, в котелок, а вернувшись в барак, старался разобраться, что к чему, изучал назначение приборов. Володя Соколов был у меня за переводчика – все надписи переводил с немецкого на русский язык. Так по крупицам накапливались знания об устройстве приборной доски немецких самолетов, преимущественно бомбардировщиков, которых здесь было больше всего.
На какой бы работе я ни находился, мой взгляд всегда был устремлен на самолеты. Меня всё интересовало: оборона аэродрома, время смены и количество постов, слабые и усиленные места охраны, количество экипажа в том или другом самолете, время заправки машин топливом и смазкой, прогрев моторов, буквально каждая мелочь, от которой зависит успех полета.
Изучив распорядок дня немцев на аэродроме, мы решили, что самое лучшее время для захвата самолета – обеденный перерыв. Именно в это время у фашистов ослабевает бдительность, и они оставляют свои рабочие места. Мы заметили, что, если немец забил наполовину гвоздь, а в это время ударил звонок на обед, он бросает работу и уходит. Пообедает, а потом добьет этот гвоздь до конца. Такая пунктуальность давала нам лишний шанс на успех.
В один из январских дней нас заставили разгребать снег у самолетов, маскировать их. Мне прямо-таки повезло: я очищал крыло самолёта от снега и вблизи наблюдал, как экипаж привычными движениями расчехлял моторы, подключал аккумуляторную тележку к бортовой сети, как открывались дверцы кабины. А когда заревели моторы, мне захотелось посмотреть хоть одним глазом на действия летчика, который запускал для подогрева моторы. Приподнявшись на крыло, я увидел, как он обращается с арматурой кабины, что делает во время запуска самолета. А летчик, видимо, желая похвастаться своим мастерством, то включал, то выключал моторы, один раз даже ногой выключил и включил. Его взгляд, направленный на меня, как бы говорил: смотри, русский болван, как мы запросто всё делаем? Для меня всё было ясно. Мысленно я уже представлял себя на месте фрица в кабине, как вдруг конвоир огрел меня палкой по спине. Я кубарем скатился вниз, хотя удара как будто и не почувствовал – так счастлив я был от того, что теперь знал, как запустить моторы. Если бы он и десять раз меня ударил, всё равно я не пожалел бы о случившемся.
1 февраля 1945 года произошло событие, которое чуть не стало для нас роковым. Один заключенный в бараке развязно заявил:
– Мне всё равно, кому служить, были бы денежки, вино да всё прочее…
У меня кровь закипела от слов этого мерзавца. Не сдержался, изо всей силы ударил его в подбородок так, что челюсть своротил набок. На крик в барак ворвались эсэсовцы, избили меня и приговорили к экзекуции «на десять дней жизни». Это означало, что в течение десяти дней меня будут убивать, больше этого срока я не проживу. Ежедневно меня стали избивать до потери сознания. Били чем попало от подъема до отбоя. Заставляли десять-двадцать раз брать матрац, наполненный стружками, переносить его на другую койку и быстро заправлять. Если не успел за минуту – нещадно били и заставляли снова и снова повторить эту процедуру. Потом нагружали на меня маскировочные материалы и заставляли нести на аэродром. Я и так еле передвигался в деревянных колодках, скользя по снегу и падая, а тут еще тяжелый груз на плечах. Но как-то едва мы отошли от ворот лагеря, я почувствовал облегчение. Это Петр Кутергин, человек богатырского телосложения, поспешил мне на помощь. Он уроженец Сибири, и сам под стать сибиряку-кедру. Даже суровые условия фашистского плена его не сломили. Такой силач нам очень нужен, подумал я. Ведь придется расправляться с конвоем, чтобы захватить самолет.







