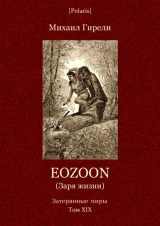
Текст книги "Eozoon (Заря жизни)"
Автор книги: Михаил Гирели
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
«Мне отмщение и аз воздам»
Дальнейшие события разыгрались гораздо решительнее и быстрее, чем того хотел в глубине души сам Ян ван ден Вайден.
Мамонтов за всю свою богатую приключениями жизнь достаточно хорошо и правильно оценивал события. Тотчас же после разговора с ван ден Вайденом он сообразил, что неожиданно появившийся враг, вернее, даже не его, Мамонтова, а его, главы экспедиции, посягнувшей на тайны Малинтангских лесов, очень серьезен и, наверное, ни перед чем не остановится для того, чтобы помешать эти тайны обнаружить. В эти мрачные тайны тропических лесов каким-то непонятным образом был замешан маленький чиновник голландского духовного ведомства, рыхлый, толстый и невзрачный.
Мамонтов решил прежде всего держать как можно дальше в стороне от всего происходящего всех остальных членов экспедиции для того, чтобы не волновать их и не мешать правильному ходу их подготовительных работ. Ведь все они были лишь учеными, хозяевами уютных кабинетов, мягких войлочных туфель и вышитых халатов, и ничего общего с экзотикой, а тем более уголовной, не имели и, узнай они, какие тайны сопутствуют им в их и без того не легком пути, – работа их остановится, как останавливается маятник дорогих часов, повешенных на стене сырого подвала. Покой их необходимо беречь.
Второе решение, к которому пришел Мамонтов, заключалось в том, чтобы тотчас же начать поиски несчастного Вредена, и ради него самого, и в виду острой необходимости наладить как можно скорее связь с Марти и Батавией.
Поделившись с одобрившим его решение ван ден Вайденом, Мамонтов предложил голландцу разойтись по домам до наступления утра. Ван ден Вайден и на это согласился, и оба тронулись в обратный путь.
Увлекшись разговором, они не заметили, как дошли уже до тропинки, где им надлежало расстаться. Палатка ван ден Вайдена помещалась в нескольких стах шагов отсюда направо, а Мамонтова – налево.
Мамонтов взял руку ван ден Вайдена и крепко пожал ее.
– Спасибо, милый друг, за доброе мнение обо мне. Высшим счастьем было бы для меня оправдать его в ваших глазах. Давайте расстанемся сегодня для того, чтобы завтра с новыми силами приняться за дело. Уверяю вас, что господин представитель Бога на земле и дьявола на небе – не уйдет от нас. Он стал на моей дороге? Что же! Тем хуже для него. Он, господин пастор Берман, видимо, не знает, с кем он имеет дело, – больше ничего. Иначе он не стал бы мне ставить палки в колеса. Я – ученый. Это верно и не подлежит сомнению, но… не одна только школа науки пройдена была мной в жизни! Это часто забывают те, кто имеет со мной дело. Если господин пастор Берман полагает, что я всю жизнь провел у себя в кабинете за пыльной книгой, прокуренной трубкой и чашкой всегда холодного кофе – он имеет плохое обо мне представление.
Жизнь – вот действительный мой университет. И может быть, даже науке-то меня настоящей научила не книга, а именно жизнь. Какая ошибка многих, если не всех ученых, что в первой половине своей жизни они были уже учеными, а не шарманщиками, маклерами, бродягами или клубными шулерами! Ах, уверяю вас, если б они знали жизнь лучше, если б они ближе соприкасались с ней, – от этого наука только выиграла бы. Опыт науки не должен производиться в лабораторных условиях, ибо наука и жизнь – это одно. Жизненный опыт – лучший лабораторный метод исследования.
Господин пастор Берман удивился бы и, пожалуй, не поверил бы, если б узнал, что знаменитый ученый, профессор Мамонтов, всего каких-нибудь пять лет назад предводительствовал конным отрядом красных разведчиков, и в Беловежской пуще, окруженный поляками, проваливаясь по колено в мшистых болотах непроходимого леса, спасаясь от холода, заползал в распоротое, еще горячее и дымное брюхо своей лошади, и, упорно не желая расстаться с той шуткой, что называется жизнью, жадно глотал горячую кровь. Я видел больше в своей жизни, чем это мог видеть господин пастор Берман в самом необузданном сне. И… я привык принимать вызов, когда его мне кидают.
Доброй ночи, господин ван ден Вайден! Еще раз спасибо вам за содействие и дружбу. Отдохните как следует и помните: если кто-нибудь достоин сожаления во всем этом деле, то это пастор Берман. Только его одного и приходится пожалеть в настоящую минуту.
Мамонтов крепко пожал руку собеседника и пошел к своей палатке.
Ван ден Вайден молча поглядел некоторое время ему вслед, потом, поворачиваясь в свою сторону, улыбнулся и покачал головой, подумав про себя:
«Действительно, я тоже начинаю опасаться за судьбу бедного пастора!..»
Вскоре он достиг уже своей палатки, и, как бы нехотя, вошел внутрь…
Но Мамонтову положительно не сиделось на месте. Он был слишком взволнован происшествиями дня.
Посидев некоторое время у своего импровизированного письменного стола, он снова поднялся и вышел подышать еще немного хотя и душным, но все же более свежим воздухом, чем тот, которым приходилось дышать в палатке.
Дальше порога своего кочевого жилища он первоначально и не намеревался идти, но вскоре уже понял, что неотвязчивая мысль влечет его снова туда – к скале, на которой было высечено имя Стефена Уоллеса, и еще раз осмотреть окрестности.
Колебания длились недолго. Не прошло и получаса после прощания с ван ден Вайденом, как он уже снова зашагал по тропинке, проложенной в диком кустарнике. Сперва он хотел зайти за стариком, желая исполнить данное ему обещание ничего не предпринимать одному, но когда, подойдя к палатке ван ден Вайдена, он убедился, что огонь у него уже погашен, решил все же отправиться в одиночку, не желая будить и беспокоить своего нового друга.
Духота наступившей ночи была почти невыносима. Тишина вокруг стояла гробовая, только изредка раздавался сухой треск, короткий и резкий. Это трескались наиболее раскаленные за день камни окружающих скал, и звук этот неприятно напоминал о скором наступления нового беспощадно-знойного дня. Все же по ночам, как бы невыносима ни была духота, она переносилась много легче раскаленного горна солнечных суток.
Сперва все шло благополучно и решительно ничто не воспрепятствовало Мамонтову добраться до скалы мистера Уоллеса.
К западу от этой скалы, там, где она обрывалась в страшный провал бездонной расселины, росли по краям мелкие кусты выродившейся акации и толстолистого кактуса. Еще так недавно маячивший огромный шар огненного солнца оставил воспоминание о себе в виде длинной, по всему горизонту протянутой ленты, более светлой, чем все остальное небо, которая, казалось, фосфоресцировала и дрожала, перевиваясь волнами электричества.
Покинутый лагерь расположился неподалеку, но совершенно не был видим, так как был скрыт от глаз восточными ступенями уоллесовой скалы.
Мамонтов шел довольно рассеянно, медленно продвигаясь вперед и, хотя внимание его и было устремлено на скалу, мысли не могли ни на чем определенном сосредоточиться и все витали вокруг неопределенных воспоминаний, очень часто возвращаясь к истории исчезновения дочери Яна ван ден Вайдена, которой Мамонтов успел за последнее время сильно заинтересоваться, постоянно беседуя о ней с несчастным отцом.
В таком сосредоточенном состоянии Мамонтов, естественно, не обратил никакого внимания на узловатый пучок спутанного хвороста, внезапно появившийся на его пути как раз в ту минуту, когда он находился между западной отвесной стеной скалы и страшной расселиной, расположенной всего в двадцати шагах расстояния от скалы. Мамонтов тяжело наступил на хворост правой ногой и даже раздавшийся треск сухих ветвей не вывел его из задумчивости.
Однако не успел он сделать следующего шага, как мгновенно почувствовал жгучую боль в правой ступне. Мамонтов вздрогнул, – первой его мыслью было, что он ужален спрятавшейся в хворосте ядовитой змеей.
Но не успела эта мысль еще оформиться как следует в его голове, как Мамонтов, внезапно теряя равновесие, тяжело рухнулся оземь во весь свой гигантский рост.
При неудачном падении на твердый известняк дороги, полученный удар был настолько силен, что на несколько секунд лишил ученого сознания.
Придя в себя, Мамонтов, продолжая ощущать почти невыносимую боль в правой ноге, одновременно почувствовал, что, влекомый какою-то сверхъестественной силой, быстро скользит всем телом к страшной пропасти, как раз к тому месту, в котором расступившийся кустарник образовал свободный проход, – как бы открытые двери в ее бездонную черноту.
Не прошло и секунды, как Мамонтов понял все.
Он попал ногой в петлю толстой веревки, спрятанной в хворосте; мгновение – и петля затянулась вокруг ноги, кто-то дернул за веревку; тело, потерявшее равновесие, грохнулось оземь, и теперь, как связанного барана, его тащат к гибели.
Уцепиться было не за что.
Дорога была гладка и полирована как зеркало, а тянувший веревку тянул ее с такой проворностью и быстротой, что уже секунд через пять Мамонтов находился от края пропасти всего на расстоянии каких-нибудь 8–9 шагов.
Ножа у него с собой не было. Он попытался приподняться, но это плохо удалось ему.
Тогда, скорее инстинктивно, чем обдуманно, он, напрягая все мышцы тела, резким броском тела перевернулся на левый бок и с быстротой молнии извлек из правого кармана свой револьвер, направил дуло по тому направлению, где приблизительно должна была быть протянута веревка, и наугад, не целясь, выстрелил.
Гулким эхом прокатился выстрел по отвесным громадам доисторического гнейса, и Мамонтов сразу же почувствовал облегчение в ноге.
До раскрытого зева расселины оставалось всего три шага.
Как согнутая пружина, освобожденная от сдавливавшей ее силы, взвивается в воздух, вскочил Мамонтов на ноги и… очутился лицом к лицу с пастором Берманом.
Кто-то сзади пастора пронзительно вскрикнул и чья-то тень мелькнула стрелою между кустами акации, быстро исчезнув в чернильной темноте ночи.
– Меланкубу! – крикнул пастор, но никто не отозвался на его зов.
Тогда пастор поднял руку по направлению к лицу профессора Мамонтова. Рука эта сжимала рукоятку револьвера.
Вскакивая на ноги, Мамонтов выронил из рук свой револьвер. Нагнуться и поднять его – было равносильно самоубийству. Дуло бермановского кольта почти касалось его переносицы. Он почти ощущал это прикосновение к себе холодной стали.
– Вы рассеянны, как настоящий ученый, мой дорогой профессор, – не опуская руки и держа Мамонтова все время на прицеле, сказал пастор Берман с удивительным цинизмом. – Однако, к делу: я надеюсь, что после всего случившегося между нами вы сами отлично поймете – что у меня для спасения собственной персоны только один выход – спустить курок.
– Стреляйте, – спокойно сказал Мамонтов и почувствовал, как какая-то удивительно приятная апатия успокаивающей волной пролилась по всему его телу.
– Да. Я это сейчас и сделаю. Только мне необходимо первоначально объясниться. Мне ведь никогда не удастся больше этого сделать. Не правда ли?
Мамонтов чувствовал, как полное безразличие все больше и больше поглощает его.
– Как хотите, – сказал он. – Слушать я все равно не буду. Что же касается меня, то мне хотелось бы закончить свою жизнь уверением вас в том, что из всех негодяев, которых мне когда-либо приходилось встречать на свете, вы – самый непревзойденный.
– Вот именно по этому самому поводу мне и хотелось бы объясниться с вами. Я хотел вам доказать, что действую отнюдь не из подлости, а наоборот, по соображениям самого высшего характера. Я – защитник Господен. Я не убиваю вас, а вырываю вас, как должен вырывать всякое зло, с корнем. Только и всего. Такие люди, как вы, не должны жить. Они уничтожают единственную радость человека – веру в его божественное происхождение. Что же делать? Христианство часто несет за собою не мир, а меч. Впрочем, вы, кажется, не слушаете меня?
Мамонтов молчал.
– Ну, что же, – вздохнул пастор Берман, – тем хуже для вас. Будьте любезны не шевелиться. Я стреляю хорошо и отнюдь не намерен причинять вам напрасные страдания. Да благословит меня Господь!
Пастор Берман прищурил правый глаз и прицелился.
Но… нажать курок ему не удалось…
Внезапно прогрохотал оглушительнейший, как гром, грянувший откуда-то сбоку выстрел, и окровавленная рука пастора Бермана беспомощно повисла, выпуская тяжелый револьвер, грузно шлепнувшийся к ногам профессора Мамонтова.
В ужасе подняв кверху свою кисть, из которой черным фонтаном брызнула кровь, пастор Берман отступил на шаг назад, совершенно забыв, что за ним страшная пропасть.
– Стойте! – испуганно крикнул Мамонтов. – Вы провалитесь!.. – Но… предупреждение прозвучало слишком поздно.
Судорожно ухватившаяся за край обрыва левая рука пастора была не в состоянии удержать его тела, и с тяжелым стоном пастор Берман рухнул, как бесформенный мешок костей и мяса, куда-то вниз, в бездонную глубину.
С легким шуршанием покатились вслед за ним мелкие камешки известняка и долгое время было слышно, как они шуршат по отвесным скалам мрачной расселины.
Профессор Мамонтов шагнул к пропасти и, став на колени, отстраняя руками низкорослые кусты, заглянул вниз.
Кроме черной ночи, холодно взглянувшей в его расширенные зрачки, там ничего не было видно…
– «Мне отмщение и аз воздам», – с угрюмым спокойствием сказал подошедший к Мамонтову ван ден Вайден, опуская свое ружье, из дула которого еще шел легкий запах пороха и дыма.
Книга третья. ДНЕВНИК МИСТЕРА УОЛЛЕСА
Таинственная встреча
Дела экспедиции после трагедии, разыгравшейся у Буйволовой расселины, сразу же стали подвигаться вперед.
Только сейчас стало ясным и Мамонтову и ван ден Вайдену, искренно привязавшимся друг к другу, какую огромную роль играл скромный по внешности священник в яркой и красочной жизни острова, залитого ослепительными лучами тропического солнца.
Даже самые незначительные, казавшиеся раньше вполне естественными, неудачи и помехи, мешавшие правильным работам ученых, всюду сопровождавшие их, как стая надоедливых москитов, внезапно совершенно прекратились и исчезли, словно злой дух покинул проходимые экспедицией местности.
Проводники не заводили больше экспедицию в непролазные и непроходимые места; деревни, мимо которых продвигалась экспедиция, встречали белых без враждебности; исчезла ничем необъяснимая ненависть к участникам научной экспедиции; слуги и носильщики научились повиноваться беспрекословно, и мгновенно прекратилось их массовое дезертирство в глубь острова, что особенно затрудняло продвижение экспедиции вперед.
Несчастный Вреден, лишившийся от голода и жажды сознания, был найден Мамонтовым и ван ден Вайденом на третий день после катастрофы у Буйволовой расселины, в одной из многочисленных трещин, избороздивших всю местность скал, почти недоступной и искусно замаскированной грудами камней и диким кустарником.
В этой самой трещине скрывался и Меланкубу с пастором, и пока они еще были здесь, Вредена, хотя и держали все время связанным, – поили и кормили: после же гибели Бермана и бегства Меланкубу он остался брошенным на произвол судьбы, и возможность его дальнейшего существования была предоставлена его собственному усмотрению.
Прекрасные части радиоаппаратов, взятые Вреденом, были сброшены в пропасть, и бедный Вреден страдал от этого, пожалуй, больше всего.
– Я просил их бросить туда лучше меня, – как бы извиняясь за события, рассказывал он сконфуженно Мамонтову, когда был приведен ученым в чувство, – да вот, поди же, что я мог поделать с этими дьяволами? Они ни за что на эту комбинацию не согласились.
Когда же несчастный голландец, представлявший полную противоположность своему почтенному соотечественнику, узнал, что пастор, в свою очередь, последовал вслед за аппаратом в бездонную пропасть, он пришел в настоящий ужас и, при громком хохоте ван ден Вайдена, схватив за руку не могущего скрыть улыбку Мамонтова, воскликнул:
– О… о… Господи! По-моему, этот дьявол сумеет воспользоваться обстоятельствами даже и в самой преисподней и начнет теперь посылать с того света радиотелеграммы во все радиоприемники Европы! Угораздило же его, прости Господи, выбрать подобный образ смерти. Это не иначе как с каким-нибудь расчетом, – смею вас в этом уверить!
Однако особенно долго не пришлось печалиться пропажей радиоаппаратов.
Вскоре опытным голландцем была найдена поблизости антенна и очень недурной радиоаппарат, посредством которого Меланкубу сообщался со своим хозяином.
Таким образом, уже через несколько дней удалось установить связь между обеими группами экспедиции и вскоре Мамонтов уже знал от Марти о всех делах его группы.
Марти не преминул сообщить Мамонтову о таинственной радиотелеграмме, перехваченной Лебоне, которая была Мамонтовым тотчас же расшифрована. Это Берман телеграфировал своему слуге:
«Не допускай», т. е. не допускай его, Мамонтова, продвинуться дальше. «Тире, тире, тире. С. У» – видимо, обозначало приказание сигнализировать о своем присутствии тремя символическими чертами на скале Стефена Уоллеса. «Марти – Мамонтов нет» – был приказ о недопущении радиосвязи между обоими учеными и, наконец, «Буйволова расселина. Буду» – было назначение места свидания и обещание прибыть к условленному месту.
Однако самому Марти Мамонтов ничего не сообщил, прося его успокоиться и не придавать этой телеграмме никакого значения – мало ли где, как, почему и кем употребляются-де, мол, имена известных ученых Европы, так как всю историю с пастором Берманом и его гибель он совместно с ван ден Вайденом условились скрыть решительно от всех участников экспедиции.
Об этом решении было сообщено Вредену, которому приказано было рассказывать, что он подвергся просто нападению диких туземцев, но сумел, в конце концов, отбиться и бежать, захватив с собой самые необходимые части для радиотелеграфирования.
Ван дер Айсинг, узнав об исчезновении пастора, предупредившего барона о своем отъезде к окрестному духовенству для усиления борьбы с язычеством, естественно приписал исчезновение пастора новому взрыву мести со стороны непримиримых ачинцев, и дело ограничилось всего лишь высылкой карательного отряда, вооруженного крепкими плетьми для порки многочисленных вождей еще более многочисленных племен, и соответствующим сообщением в Амстердам.
Всеми силами старался Мамонтов поднять дух и настроение своей группы, но это удавалось ему с большим трудом и то лишь на короткое время. Ученые, благодаря редчайшим и ценнейшим палеонтологическим находкам, добытым и блестяще расшифрованным профессором Мозелем, начинали считать затею профессора Мамонтова, направленную к отысканию довольно проблематических существ, мало на чем основанной фантазией, и мнения явно стали складываться с каждым днем все больше и увереннее на сторону теории Дарвина.
У очень немногих теплилась в душе еще надежда отыскать человекообразных обезьян Мамонтова, но даже и эти немногие готовы были спасовать перед теми трудностями, с которыми были сопряжены эти поиски.
Необходимо сначала взорвать на воздух всю эту проклятую путаницу совершенно непроходимых лесищ, в которых до сегодняшнего дня никто еще из имеющих право называть себя человеком не умудрился побывать, для того, чтобы начать предполагаемые работы. Мы, представители человечества двадцатого века, несмотря на всю нашу технику и вооруженность, еще слишком не подготовлены для этого.
– Ну, как вы изволите пролезть сквозь эти дьявольские джунгли? – нервно спрашивал профессора Мамонтова один из наиболее непримиримых противников его, француз Дероне, профессор Сорбонского университета и вице-президент Пастеровского института в Париже.
Еще больше упало настроение среди ученых, когда профессор Валлес, один из наиболее выдающихся ученых мамонтовской группы, заболел тяжелой формой дизентерии, грозившей принять смертельно истощающую организм хроническую форму.
Бедный англичанин превратился в египетскую мумию и впал «в тихое философствование», как выразился профессор Мозель.
– Дорогой коллега, – сказал он однажды Мамонтову, с трудом проглатывая лошадиную дозу ипекакуаны, – положительно старина Бонне был прав в своей натурфилософии. Помните его рассуждение о кошке и розовом кусте? «Любой профан, – говорил Бонне, – сумеет отличить кошку от розового куста и расскажет вам, какая между ними существует разница». А вот мы, ученые, до сих пор не можем этого сделать. И то и другое мы называем «живым существом» и тщетны наши родовые потуги, чтобы открыть миру математическую формулу, разрешающую не видовую их разницу, а внутреннее их различие. Что вы скажете по этому поводу? Ведь, если подумать как следует, не должны ли мы будем согласиться, что истина ускользает из наших рук благодаря нашим чересчур умным головам?
– Вы забыли, дорогой друг, что профан в примере Бонне исходит из идей частных, а философ из общих идей. Мы же, ученые, должны стремиться к тому, чтобы не было идей частных, потерявших связь с общими, и чтобы не было ни одной общей идеи, не подтвержденной идее частной, – серьезно отвечал Мамонтов, и, неодобрительно покачивая головой, добавил:
– У нас в России подобное состояние ума называется пораженчеством, сэр Валлес!
– Вы неправильно поняли меня, коллега, – оскаливая желтые зубы, воскликнул англичанин. – Я далек от желания констатировать бессилие науки. Я сделал лишь осторожное вступление к желанию заново опровергнуть вашу теорию дегенерации. Я твердо верю, и даже почти знаю, что мы идем к прогрессу, а не к регрессу. Мой дед, известный в свое время ученый, доктор медицинских наук, лорд Роберт Чарльз Валлес, умер от дизентерии, заразившись этой болезнью в вашем Севастополе во время пребывания там соединенной турко-англо-французской эскадры в 1855 г., уже на третий день болезни. А вот я – внук своего деда, – заполучив более опасную форму этой интеллигентной болезни, продолжаю не только жить, но даже и думать, спустя целых две недели после появления первых признаков заболевания. Как хотите, но это удивительно. Мы идем, вне всяких сомнений, к прогрессу. Мы скоро достигнем совершенства. Тысячу раз прав мой великий соотечественник мистер Дарвин: нужда вызывает желание. Желание вызывает появление новых органов. Анатомируйте после смерти моей мои внутренности, и вы убедитесь, что у меня за это время образовалось придаточное заднепроходное отверстие, ибо старое никак не могло справиться с непосильно взваленной на него работой.
Мамонтов снова покачал головой, но на этот раз промолчал и заставил горящего как в огне и начинавшего бредить англичанина проглотить тройную дозу хинина, растворенного в горячем красном вине. Затем всунул ему под мышку градусник, собственноручно покрыл его сеткой, служившей защитой от укусов москитов, и сказал бодро и весело:
– Ну-ну, добрый друг! Терпение и мужество. Еще неделька, и вы будете снова записаны в приходной книге нашей экспедиции!
Время шло, одновременно, и томительно и быстро.
Прошло уже целых три месяца, как экспедиция покинула Буйволову расселину и окончательно расположилась для своих работ на месте, намеченном Мамонтовым, у самого предверия Малинтангских лесов, но, за исключением одной лишь опушки леса и берегов извилистого ручья, еще ничего исследовано не было.
День за днем уходил в скучных, ничего нового науке не приносящих работах, хотя Мамонтов с не разлучавшимся с ним уже почти ни на шаг ван ден Вайденом оставляли лагерь далеко позади себя и частенько углублялись в дремучие заросли леса, пренебрегая всякой опасностью и забывая об осторожности…
Ван ден Вайдена, хорошо знавшего эти места, но давно уже здесь не бывавшего, сильно поразило то, что никакой хоть сколько-нибудь открытой опасности нигде не чувствовалось.
Лес оказался как бы вымершим, почти гробовое молчание царило в нем и даже следов диких зверей нигде не было видно. Не отыскать было и следа столь страшных лесных жителей, некогда безусловно населявших эти места.
Получалось впечатление, будто все живое ушло отсюда прочь, не то совсем покинув эти места, не то углубившись дальше в лес.
Причина этого бегства казалась старому охотнику совершенно непонятной и таинственной. На Мамонтова же, хотя и поражавшегося бедностью местной фауны, но не знавшего ранее этих мест, это отсутствие жизни в лесу не действовало так сильно и удручающе, как на ван ден Вайдена.
– Я никогда не видал тропического леса, который бы молчал, – с почти суеверным ужасом жаловался своему другу старый охотник.
– А я был всегда того мнения, что рассказы о непроходимости этих лесов сильно преувеличены, – весело отвечал Мамонтов, все больше и больше убеждаясь в том, что ничто ему не помешает в будущем проникнуть в эти заросли поглубже и поосновательнее.
Ван ден Вайден только головой качал и разводил в недоумении руками.
После долгого времени настал, наконец, такой момент, когда, казалось, рассеялась однообразная непроглядная тьма скучных ежедневных будней и взбудоражилось все сонное царство ученых, переставших уже окончательно верить в успех мамонтовского дела.
Как-то вечером, вооружившись своим прекрасным ружьем, Мамонтов предложил ван ден Вайдену отправиться с ним в лес. Ван ден Вайден, сильно страдая в течение всего дня невыносимой головной болью, принужден был отказаться, и Мамонтов отправился один.
Лес сонно и горячо дышал своими влажными испарениями. Таинственные шорохи прерывали могильную тишину, и резко щелкали под ногой сухие сучья, оторванные от гигантских деревьев.
В тяжелой задумчивости ученый забирался совершенно машинально все глубже и глубже в таинственную чащу деревьев, точно рукой искусного корзинщика переплетенных между собой пружинно-крепкими лианами, цепко охватившими своими обезьяньими лапами корявые стволы лесных гигантов.
Было жарко и душно, как в оранжерее, и отвратительно пахло газами, выделявшимися от медленного гниения органических веществ. Изредка вздрагивал тяжелый воздух, разрываемый истерически клокочущим гортанным выкриком красного какаду и откуда-то издалека, заглушенно и придавленно, казалось, из глубин, совершенно уже недоступных человеку, отвечал ему протяжный вой, напоминавший плач ребенка, юрких и трусливых обезьяньих стад, скрывающихся в сладких листьях дурмана и диких бананов.
Где-то уже далеко в стороне, – но где именно, определить было очень трудно, Мамонтов слишком далеко забрался, – журчал ручей, и Мамонтову почему-то показалось, что совсем рядом, в том направлении, по которому слышались всплески волн, должна находиться открытая полянка, покрытая ослепительно яркими, роскошными тропическими цветами, залитая косыми лучами красного солнца, благоухающая ароматами пряных трав и сочных плодов окружающих деревьев.
Мамонтов продолжал продвигаться вперед.
Он очнулся внезапно, как человек, разбуженный какой-то неведомой причиной среди ночи в момент самого крепкого и сладкого сна, и причиной его пробуждения была сразу наступившая темнота, – как будто кто-то выключил электрический ток, до сих пор накалявший гигантский солнечный фонарь. Настолько стало темно, что на расстоянии двух-трех шагов ничего уже не было видно.
Быстро оглянувшись вокруг, Мамонтов не без тревоги и неприятного замирания сердца заметил, что забрел чрезвычайно далеко вглубь леса, в полосу, совершенно, еще им не обследованную и ему неизвестную.
Достав из кармана компас, ученый точно определил свое местонахождение по отношению к легкомысленно покинутому лагерю и, насколько это позволяли густые заросли лиан, быстро повернувшись, зашагал в обратном направлении.
Долгое время лес не желал редеть, а темнота становилась все более и более непроницаемой.
Наконец Мамонтову показалось, что деревья несколько расступились в сторону, стало значительно светлее и нога перестала так часто спотыкаться о змеевидно выступавшие из-под черной влажной земли уродливые корни тысячелетних великанов.
Не успел Мамонтов подумать, что все его недавние тревоги были напрасны, как вдруг, случайно подняв кверху голову, остановился на месте, как вкопанный, не смея выдохнуть наполнявший грудную клетку воздух, не смея сделать ни одного лишнего движения, мучительно чувствуя учащенные удары сердца.
Но уже в следующую минуту ружье плотно легло к плечу и прищуренный глаз брал быстрый и верный прицел.
В это время, почти над самым ухом Мамонтова, раздался совершенно явственно возглас, необычайно напоминавший человеческое «ах».
Сомнений быть не могло. Звук мог принадлежать одной только человеческой гортани.
Кто был на дереве – Мамонтов не видел.
Он остановился, как вкопанный, и поднял свое ружье только потому, что ясно увидал на дереве чей-то смутный контур, но самого обладателя этого контура, как он ни напрягал своего зрения – увидеть ему не удалось.
Держа ружье все время на прицеле, Мамонтов зашел со стороны, но и с этой позиции ничего в густых листьях дерева не обнаружил.
Сердце билось быстро, скачками, во рту пересохло и в глазах от долгого напряжения мучительно защипало.
Прошла еще одна долгая, бесконечно-длящаяся, томительная минута.
А тишина снова воцарилась кругом, ненарушимая и полная тайны.
«Одновременная галлюцинация и зрения и слуха? – подумал Мамонтов. – Нет! Этого быть не может. Там кто-то сидит на дереве. Но что делать?» – Руки успели настолько затечь, боль в шейных мышцах стала настолько невыносимой, что наступил момент, когда Мамонтов готов был опустить ружье.
Однако он этого не сделал. Внезапно странный возглас-вздох снова повторился, на этот раз гораздо более отчетливо, громче и все так же близко от уха Мамонтова:
– А-а-ах! Уа-а-а!
Крик казался жалобным и тревожным, будто кто-то кому-то изливал свое горе и в нем странным образом сочетались нотки звериного гнева с чисто человеческой тоской и ужасом.
Вдруг сердце Мамонтова забилось тревожно и часто.
Перед Мамонтовым, на расстоянии не больше одного метра, прямо над его головой, искусно скрываемый красочными листьями дурмана, на крепкой и негнущейся ветке, выросшей почти перпендикулярно к стволу огромного дерева, слегка раскачивая и пригибая ее тяжестью своего тела, стоял во весь свой рост не виданный еще никем, описанный только им одним, в предположительных тонах научной гипотезы, великолепный экземпляр второй филогенетической ветки Homo divinus’a, – настоящее двуполое человекообразное существо!
Это существо плотно прижалось к стволу дерева, наивно полагая, что таким путем оно станет менее заметным для неизвестного еще ему врага, в действительности находясь почти у самых ног Мамонтова.
Шерсти на этом существе почти не было. Без сомнения, возраст его был еще крайне незначителен, но уже и сейчас были с несомненностью видны его сильно развитые мышцы, но главное, что бросалось в глаза – это была его двуполость.
Мамонтов для верности прицелился еще раз и его глаза совершенно неожиданно встретились с глазами обреченной жертвы.








