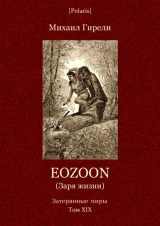
Текст книги "Eozoon (Заря жизни)"
Автор книги: Михаил Гирели
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Пастор Берман
Отец маленького Бермана, человек, уважаемый своими согражданами, а еще больше своей верной женой, был золотых дел мастером в маленьком земледельческом городке южной Голландии – Горинхеме.
Маленький магазинчик Ганса Бермана помещался почти на самой окраине городка, не доходя всего несколько шагов до крутого, обрывистого берега Вааля, катящего свои вечно пузырящиеся волны к широкому Маасу, за которым сразу начинались поля, усеянные мельницами, плод тяжелой, кропотливой работы упорного, трудолюбивого голландского крестьянина.
Поля начинались мельницей старого дедушки Утрехта и в безветренную погоду, когда дедушка сидел на камне у своей мельницы, а Ганс Берман на крылечке своего магазина, можно было переговариваться друг с другом, несмотря на то, что старый Утрехт давно забыл те времена, когда он еще хорошо слышал.
Понятно, что в такой дыре нечего было ждать больших доходов ювелиру, и Ганс Берман жил только редкими свадьбами да случайной починкой грошовых серег, колечек и брошек окрестных крестьянских щеголих.
Но никто никогда не слышал, чтобы Ганс Берман роптал на свою судьбу.
Рождение сына внесло в жизнь Ганса много шума и радости.
Будущий пастор с большой важностью подносил к синеватому с некоторых пор носу почтенного золотых дел мастера одну за другой обе свои крошечные ножки, покрываемые жадными поцелуями счастливого отца.
Но… все это было так давно… – и, конечно, сам пастор Берман этого помнить не мог.
В дальнейшем его мать, «мутти Эмма», начала рожать все новых и новых наследников скромного достояния, но честного имени Ганса Бермана, и дела стали принимать уже совершенно другой оборот.
Жизнь дорожала, дела почти никакого не было, и не прошло и нескольких лет, как кроткая Эмма, выбившись из сил, в один темный осенний вечер молитвенно сложив на высосанной груди руки, отошла в иной мир, разумно и безропотно, как то и подобает доброй, тихой и благочестивой женщине.
Ганс Берман запил, и дальнейшие перемены не заставили себя ждать.
Лично для Руди перемены эти выразились в том, что нежная, розовая кожица его детских ножек сменилась загорелой и грязной кожей ног вечно рвущего свои сапоги мальчишки, и в том, что уважаемый золотых дел мастер не переставал добросовестно и честно повторять одну и ту же фразу, отчеканивая каждое слово:
– Если ты будешь так быстро рвать свою обувь, то я тебя, подлеца, в сапожники отдам.
Надо отдать справедливость покойному золотых дел мастеру, он не бросал на ветер своих слов, дело кончилось тем, что Руди действительно был отдан подмастерьем к старому Гельдеру – соседу и отдаленному родственнику.
У Гельдера Руди пришлось обосноваться надолго.
Вскоре после того, как Руди покинул родительский дом, мальчик остался круглым сиротой. Смерть унесла в могилу почтенного Ганса Бермана.
Сестер Руди приютили сердобольные соседи, а самого Руди взял на воспитание бездетный старый Гельдер.
Вскоре честный старик принужден был сознаться своей половине, с которой привык делить все свои мысли и чувства:
– Знаешь ли ты, мой друг? Из Руди никогда хорошего сапожника не выйдет, вот что! Человек, который способен износить в месяц пару самых крепких сапог, должен пойти по другой части. Я думаю, что если мне удастся сделать из него священника, – это будет не многим хуже, чем шить сапоги.
Так была решена участь Руди. Мальчика определили в школу.
Ученье давалось Руди трудно, и не раз старому Гельдеру приходилось аргументировать свои нравоучения, на которые он не скупился, крепкими подзатыльниками и оттягиванием ушных раковин школьника.
Но судьба мальчика была предопределена. К двадцати годам Руди закончил образование.
Юношей он вырос довольно слабым и малокровным и удивительно равнодушным ко всему, что его окружало. Еще в школе учителя обращали внимание на это совершенно неестественное для ребенка равнодушие и апатию ко всему, с чем только мальчик приходил в соприкосновение. Как-то инстинктивно чувствовалось, что его тихое поведение могло быть объяснено только робостью.
Но наиболее странным в его поведении было отношение к женщинам. Он боялся девчонок и всегда постыдно ретировался перед ними. Завлечь его в игру, в которой принимали участие девочки, было делом совершенно невозможным. Казалось, что он испытывал настоящий страх перед женщинами, страх, выросший на какой-то болезненной почве. Будущий пастор ни разу не обнял и не поцеловал ни одной девушки; целыми днями он просиживал на большом пне тысячелетнего дуба, сломанного бурей, и глядел на зеленые ивы в неведомую даль. В эти часы кажущегося «бездумия» сложился характер молодого человека.
Таким образом складываются характеры большинства безвольных и бесцветных молодых людей, предоставленных самим себе в деле духовного воспитания и развития.
Ни о чем не думать – это значит думать о самом страшном. И смутные, расплывчатые мысли молодого Руди, мысли, существование которых было ему самому неясным, шаг за шагом, минута за минутой, день за днем, – выковывали в нем тот странный и ненормальный взгляд на вещи, которым отличался характер Рудольфа Бермана.
Старый Гельдер был очень доволен поведением своего приемыша.
– Ну, чем же он уже теперь не пастор! – почти радостно восклицал он, хотя нельзя не сознаться, что минутами честный старик негодовал на своего питомца, стараясь скрыть это от посторонних, но про себя награждал молодого человека весьма нелестными эпитетами: «кастрированная курица», «тесто без дрожжей» или что-нибудь в этом роде.
Старик не мог не возмущаться. В эти минуты он вспоминал свою молодость и былые похождения.
– Да, да, так это именно все и было… ну-с, а потом, – тут уже старик выдавливал из себя нечто, напоминавшее вздох разочарованного человека: – а потом пришлось венчаться!
В этом месте воспоминаний сразу выплывал перед глазами образ фру Эльзы в том виде, в каком фру Эльза была в настоящее время, и почему-то этот образ являлся всегда в длинной ночной сорочке, с ночным чепцом на редких, жидких волосах.
Тогда Гельдер вздыхал еще раз, и в нем начинали шевелиться по отношению к Руди более мягкие и нежные чувства.
Затягиваясь крепко из своей длинной, прокуренной пенковой трубки, он меланхолически изрекал:
– Гм… что ж? Может быть, и прав молодчик! – и неизменно добавлял свою любимую фразу: – В конце концов, это все оказывается одним сплошным обманом!
Юноша Руди, незаметно превратившись тем временем в Рудольфа Бермана, к неописуемому удивлению всех его знавших и даже к ужасу фру Эльзы, старавшейся видеть во всем что-то сверхъестественное, быстро закончил курс семинарских наук и, блестяще сдав экзамены, был посвящен в сан священника.
Вскоре пастор Берман прибыл в родной городишко.
Он сам, по своему усмотрению, избрал себе деятельность миссионера и наметил голландские колонии как арену своей предстоящей деятельности.
Приехал он в сонный Горинхем всего на несколько дней, чтобы, может быть, навсегда покинуть родную страну непролазных болот, которые упрямыми руками человека превратились в изумрудные нивы, сады, желтые поля и пышные огороды.
Пастор Берман шагал по улочкам крупными шагами, смело и открыто глядя в глаза всем встречным.
Была весна, яблоня и вишня стояли в цвету, мохнатые крылья дедушкиной мельницы лениво кружились от теплого весеннего ветра. А вдали с веселым визгом, песнями, криком, постукивая деревянными подошвами сапог, новые люди – новые юноши и девушки вели хоровод.
Некоторых из них узнал пастор Берман.
Он помнил их еще детьми в запачканных, грязных платьицах, с черными, смешными, похожими на крысиный хвост, косичками за спиной, на которых никто-то и внимания не обращал!
А вот… вот они и выросли!
Как же это произошло?
Холодные мурашки медленно проползли за сутаной священника, неприятно раздражая затылок, шею и поясницу.
Что заставило молодого человека, сомневающегося в присутствии Бога, посвятить себя тому, во что он не верил?
В этом и была необъяснимая загадка его характера.
Тут уже сказалась и другая, не менее яркая сторона характера пастора Бермана – его доведенное до совершенства ханжество.
По приезде на Суматру началась новая, скучная жизнь, подкрепляемая черным кофе, разбавленным пополам коньяком, жизнь, протекавшая изо дня в день среди хитрых, коварных и непокорных язычников, чья связь с природой была еще так сильна, что оторвать их от нее могло только вековое насилие, обман, ложь и угроза, одним словом, все то, что принято подразумевать под словом «колониальная культура».
И так бы, вероятно, и окончилась эта скучная жизнь постоянно лгущего и никому не нужного человека, если в один прекрасный день бесцветная жизнь пастора Бермана вмешательством дьявола, принявшего образ нагой молодой девушки, не пошла по иному руслу.
Поиски мистера Уоллеса
Мистер Уоллес, первоклассный сыщик, прошедший тяжелую школу Скотланд-Ярда, великолепно сознавал, что в пасторе Бермане он встретил очень сильного и умелого врага.
Ведь он, мистер Уоллес, только недавно прибыл сюда с желто-туманных улиц грохочущего Лондона, тогда как пастор Берман вполне уже акклиматизировался здесь, ознакомился великолепно с местностью, обычаями, настроением и нравами туземцев.
А это было так же важно для успешного ведения поисков, как и для успешного препятствования им!
Знакомству с ван ден Вайденом и его зятем мистер Уоллес почему-то не придавал большого значения.
Ему необходимо было проверить пастора Бермана и он, уезжая от священника, предложил ему не сообщать сэру ван ден Вайдену о происходившем между ними разговоре и, конечно, не делать никаких попыток к тому, чтобы устроить с ним встречу, так как это может помешать успешному ведению дела.
Исполнение этой просьбы должно было показать, насколько пастор заинтересован в поисках Лилиан.
Вернувшись к себе домой, в маленькую деревушку абенжеров, находившуюся в нескольких милях от северо-восточного берега озера Тоб, выбрав эту деревушку, как стратегическую позицию, откуда должен был начаться его поход, англичанин, не теряя ни минуты времени, принялся за необходимые приготовления к экспедиции в глубь Офирских лесов.
В Паданге и на Паоло-Брассе, где впервые высадился мистер Уоллес, местные голландские власти, любезно предоставив ему все имевшиеся по интересовавшему его делу сведения, достаточно ясно и определенно предупредили его, что никакой помощи с их стороны ему, мистеру Уоллесу, ожидать не приходится, что голландское правительство убеждено в гибели Лилиан ван ден Вайден, и дали понять, что всякая попытка проникнуть в чащи лесов северного Офира – не больше как безумие и глупость.
Не настаивая совершенно на предоставлении ему помощи, мистер Уоллес, тем не менее, выработав соответствующий план действия, твердо решил не отступать ни на шаг от намеченной цели.
Система англичанина была удивительно проста. Она заключалась в следующем:
Как ни страшны для него лесные жители и дикие звери, малярия и всевозможные яды, но и хинин и привезенные им с собой противоядия из университетской лаборатории Лондона, и автоматическое ружье Браунинга, отнимающее 1 1/2 секунды времени для перезарядки и заряженное сорока разрывными пулями, покидающими магазин ружья в 2 1/2 секунды, – гораздо могущественнее перечисленных зол.
И еще:
Туземцы трусливы. Рассчитывать на их помощь в темных лабиринтах непроходимых лесов Малинтанга и Пазамана совершенно не приходится. Но за большое вознаграждение их можно уговорить отправиться в самую гущу леса, хотя в решительную минуту девяносто девять из ста оставят «великого белого господина» одного, вместе с его хинином, противоядиями и автоматическим ружьем Браунинга.
Поэтому необходимо ехать если не одному, то в сопровождении одного-двух испытанных проводников. Но как и где их найти – этих проводников?
Мистер Уоллес и Скотланд-Ярд – это было одно и то же, и мистер Уоллес их нашел!
Дальнозоркий англичанин остановил свое внимание на самом диком племени ньявонгов, почти не имеющем общения с европейцами, на племени, вышедшем с острова Борнео, которое мало чем отличалось от подобных им лесных жителей Суматры – племен органг-улу и оранг-лубу.
Но именно в этом и должна была заключаться вся суть дела!
– Ваши слуги вас же первого и зарежут и отберут от вас ваше ружье, и, что хуже всего, – вашу голову, и скроются совершенно безнаказанными в лесах, пока не проберутся обратно к себе на родину, дорогой мистер Уоллес, – сказал англичанину на Паоло-Брассе старший полицейский чиновник голландского правительства, увидав двух обезьян, которых мистер Уоллес отрекомендовал ему как своих слуг и соучастников предполагаемой экспедиции.
Но англичанин только весело оскалил зубы.
– Oh ho! – сказал он, – я вам ручаюсь, что английский колледж может сделать из любого человека джентльмена! Я это говорю к тому, что тренировка моя с этими господами по особой системе Скотланд-Ярда сделала из обитателей ваших сказочных лесов вполне достойных носителей жетона тайной полиции. Уверяю вас, что убить меня значительно труднее, чем обучить обезьяну говорить по-английски. Кроме этого, прошу принять во внимание, что убивать меня, с той минуты, как мы погрузимся во мрак непроходимой чащи, этим господам будет меньше всего охоты. Они отлично понимают, что если им удастся завладеть не только моим ружьем, стрелять из которого они все равно не умеют, но даже и моим черепом, то проиграют от этого только они одни. Располагай они целой батарей сорокадвухсантиметровых орудий, это все равно не спасет их в случае моей гибели.
Эта винтовка – только в моих руках винтовка, в их же лапах это весьма неудобная дубина для драки. Я нисколько не сомневаюсь, что вчера, и сегодня, и завтра, и каждый день, пока мы не вступили еще под своды лесов, эти господа не покидают надежды съесть меня живьем, что сделать совершенно невозможно, английское мясо очень плохо переваривается, но… но, как только мы вступим в лес и будем охвачены его таинственной сенью, эти обезьяны – мои лучшие защитники, которые будут мне желать только одного: настоящего бессмертия. А помощники они первоклассные: не забудьте, они сами лесные жители! Им известны все фокусы и ловушки своих сородичей. Они видят в темноте как кошки и лазят по деревьям как павианы. Вы не согласны со мной, сэр?
Голландский полицейский агент, взглянув снова на соратников мистера Уоллеса, не мог скрыть отразившегося на его лице отвращения.
– Сказать откровенно, сэр, – сказал он англичанину, – я не стал бы делать того, что делаете вы.
Слуги мистера Уоллеса могли внушить чувство не только отвращения, но и самого настоящего ужаса.
Оба они были ростом значительно ниже среднего, с руками, достигавшими коленных чашек. Туловища их были сильно согнуты вперед, что увеличивало еще больше длину безобразно болтавшихся рук. Короткие тонкие ноги с успехом заменяли им во многих случаях руки.
Их черепа были как бы срезаны лобной костью почти от самой переносицы, по направлению к затылку.
Черепа эти были лишены почти всякой растительности и украшались по бокам огромными мясистыми и сильно торчавшими ушами, а в центре – сплюснутыми носами и широчайшими, наружу вывороченными губами.
У самого лба, под мощно развитыми надбровными дугами, были вкраплены маленькие, звероподобные глазки, темные и жуткие, тускло отражавшие первые мучительные проблески мысли, зародившейся где-то в недосягаемых глубинах маленького плотного мозга.
Одного из них звали Гутуми, и он очень гордился тем, что в правом ухе его, раздутом слоновой болезнью, величиной в небольшую тарелку, была воткнута ключица священной обезьяны.
Другой из слуг мистера Уоллеса, Макка – был скромнее насчет ушных украшений, так как в ушах его висели лишь обыкновенные серьги, правда, каждая весом в добрых 3/4 фунта, но зато ноздри его были соединены такой зияющей огромной дырой, что Макка мог просунуть в нее в любую минуту любой предмет толщиной по крайней мере в палец.
Итак, с помощью своих выдрессированных скотланд-ярдовским стэком слуг, энергичные руки мистера Уоллеса быстро и умело закончили все необходимые приготовления к предстоящей опасной экспедиции.
Когда экспедиция собралась в путь, она имела следующий вид:
Впереди, одна за другой, грациозно выступали две зебры, на которых были навьючены тюки со всеми необходимыми принадлежностями этой «увеселительной прогулки», как окрестил ее сам мистер Уоллес, начиная от походных палаток и кончая банками с консервированным молоком.
Все, что только могло так или иначе понадобиться маленькой экспедиции, было зорко предусмотрено осторожным англичанином и аккуратно упаковано в самом строгом порядке, в соответствующих тюках и ящиках.
Помимо двух слуг, мистер Уоллес нанял еще шесть человек носильщиков-баттов, степенно выступавших гуськом один за другим с тяжелой кладью на голове сейчас же вслед за Гутуми. Шествие замыкал «великий белый господин» – мистер Уоллес, гордо восседавший на сытой, крепкой лошади. Это внушало к нему уважение и страх, так как лошади считались туземцами большой редкостью и необычайной роскошью.
Шестеро баттов с зебрами, нагруженными кладью, по прибытии к Буйволовой расселине – исходному пункту углубления в лес, выбранному мистером Уоллесом после долгого размышления и изучения карты – должны были, разбив лагерь, остаться у этого исходного пункта, а мистер Уоллес с двумя своими ньявонгами, на другой же день по прибытии, углубиться в чащу таинственных лесов.
Рано утром тронулась маленькая экспедиция в путь, лежавший через озеро Тоб прямо вниз, к подножию гор, до столицы независимой Анинии, города Кота-Раджа, откуда шла удобная дорога через Менанкабуа к Буйволовой расселине.
Деревня, в которой жил пастор Берман, оставалась несколько в стороне слева, но мистер Уоллес решил включить и ее в свой маршрут, о чем счел нужным предупредить священника.
Когда маленький отряд приблизился к Саиби, к деревушке пастора, на узких улицах, обтянутых по краям колючей проволокой, заметно было какое-то необычайное, сразу бросающееся в глаза оживление среди собравшихся дикарей. Большинство дикарей были совершенно наги, только немногие носили так называемый саронг, т. е. короткую юбку до колен из жесткой и грубой материи, сотканной из древесной пряжи бамбука. Тут были и мужчины, и женщины, и старики, и дети.
Но что могло их так взволновать сегодня? Даже девушки, стыдливо стоявшие плотно сомкнутой группой несколько в стороне от мужчин и женщин, позволяли себе изредка бросать мужчинам кой-какие замечания, что позволялось обычаями баттов лишь в совершенно исключительных случаях жизни.
Старики стояли по краям дороги и что-то пронзительно кричали.
Гортанные и шипящие звуки вырывались из их ртов, как булькающий пар вырывается из кипящего котла.
Мужчины опоясали себя тонкими поясами, к которым были прикреплены острые, как бритва, кривые ножи, называемые туземцами «крисс», которыми одинаково удобно было и бриться и начисто срезать голову врагу.
Воины махали в воздухе руками, вооруженными длинными копьями и, не осмеливаясь перекрикивать биринов, только изредка заглушали их визг негодующими возгласами, полными угроз и злобы по отношению к чему-то, так взволновавшему все племя.
Туземцы, сопровождавшие мистера Уоллеса, не ожидавшие встретить в столь ранний час такое необычайное оживление своих сородичей, с трепетом и испугом приближались к толпе, ибо представившаяся их взорам картина была им хорошо знакома и тайный смысл ее им был прекрасно известен.
Грозный окрик мистера Уоллеса заставил остановившихся было слуг снова двинуться в путь. Незаметным движением руки он отстегнул кобуру.
«Если это только начало, – подумал англичанин, – конец не должен быть очень хорошим».
В это время, как бы в подтверждение мелькнувшей в его голове мысли, один из носильщиков-баттов повернул голову в сторону мистера Уоллеса и несмело сказал:
– Они думают, белый господин едет убивать священную обезьяну. Они недовольны белым господином.
«Так и есть, – подумал мистер Уоллес про себя. – Каналья начал свою работу». – И вдруг, резко обращаясь к носильщикам, крикнул громко и властно:
– Пошел без разговоров! Плевать я хотел на твоих баттов. Ну? Или ты забыл, как свистит в воздухе мой стек?
И, хотя расстояние между ним и мистером Уоллесом было в несколько саженей, батт пугливо втянул голову в плечи, как будто первый предупреждающий свист страшного стэка уже раздался над его головой, и молча двинулся дальше.
Мистер Уоллес слишком хорошо знал, каких свойств и качеств характера боятся дикари больше всего и чем можно заставить их, сколько бы их ни было, беспрекословно себе повиноваться.
На самой главной улице деревни, куда уже успел вступить отряд англичанина, сопровождаемый целой толпой туземцев, ожесточенно осыпавших мистера Уоллеса целым градом угроз и ругательств и провожавших его взглядами, полными злобы и ненависти, собравшихся было еще больше, чем на боковых улочках.
Однако мистер Уоллес мог все же свободно объехать эту возбужденную толпу, сгрудившуюся в середине улицы, оставляя незанятыми ее края.
Но теперь англичанину этого сделать уже нельзя было.
Лошадь англичанина коснулась мордой первого из этой толпы, и не успела густая белая пена упасть с ее удил на обнаженную грудь туземца, как в ту же секунду поднятый стек мистера Уоллеса, молниеносно взвившись в воздухе и два раза жутко просвистев над толпой, опустился на голову батта, рассекая в кровь туго обтянувшую выбритый череп кожу.
И мгновенно вся эта страшная толпа диких, вооруженная копьями, стрелами и острыми ножами, в страхе шарахнулась в стороны, низко наклоняя втянутые в костлявые плечи головы, как бы защищаясь от страшных ударов, и молча очистила в самой своей середине прямой, как стрела, путь белому господину.
Стек мистера Уоллеса еще несколько раз просвистел в воздухе и, склоняясь то направо, то налево, рассек еще несколько ушей, носов и губ.
Огромные буйволы, исполняющие у баттов сельскохозяйственные работы и тут же ревевшие в общей толчее и давке, смолкли, вращая огромными белками страшных глаз, и провожали тупым и испуганным взглядом всадника, боязливо пятясь задом на колючую ограду улицы.
Проводники мистера Уоллеса были злобно возмущены кровавой расправой англичанина с их сородичами и молча сжимали кулаки.
Одни только ньявонги – Макка, брат великого вождя, и гордый своею обезьяньей костью Гутуми – были явно на стороне своего белого господина, выражая свое довольство радостным хихиканьем, отвратительно обнажая свои черные и сгнившие зубы, торчавшие в звериных провалах их нечеловеческих ртов.
Вскоре однако одному из них пришлось убедиться, что стек мистера Уоллеса вещь, с которой всякому надлежит обращаться с осторожностью.
Маленькая экспедиция продолжала медленно продвигаться вперед.
Поднявшись на небольшой холм, спустя некоторое время после того, как деревня баттов скрылась из вида, потонув внизу в кущах дикой акации, экспедиция свернула к северо-западу и, вытянувшись длинной гусеницей, начала осторожный спуск вниз к видневшемуся уже вдали маленькому поселку, окруженному кольцом раффлезий, где жил пастор Берман в приятном соседстве с голландскими представителями власти Силлалагского округа и Яном ван ден Вайденом, также нашедшим себе пристанище всего в нескольких милях отсюда.
Когда окончился спуск, началась небольшая равнина, густо поросшая гамбиром, издающим сильный и пряный аромат.
От самого подножия холма и до самого поселка белых тянулась извилистая тропинка, проложенная в этих густых зарослях гамбира, извивающаяся как ящерица и изобиловавшая многочисленными крутыми поворотами.
Не успела голова отряда скрыться за одним из таких поворотов, как Макка с ловкостью, которой могла бы позавидовать самая проворная обезьяна, быстро нагнулся и, засунув руку в куст, поднял что-то, сверкнувшее в его руке под лучами ослепительного солнца.
Макка проделал свой маневр так быстро, ловко и неожиданно, что никто из баттов не заметил его движения и, чихни бы, например, мистер Уоллес в эту секунду, он также ничего не сумел бы увидать.
Но проклятый англичанин, казалось, был способен видеть и слышать каждой клеточкой своего тела, и молниеносное движение ньявонга им было замечено. Не успел еще Макка засунуть в рот новую порцию «сири», как галопом подскакавшая лошадь мистера Уоллеса была уже рядом с ним и свистящий стек англичанина тонко рассек воздух около самого его уха. Это было предупреждением дикарю, который понял несколько превратно то обстоятельство, что мистер Уоллес не ударил его.
– Отдай, негодяй, немедленно то, что ты только что достал, – сказал англичанин, не опуская поднятой над головой Макка руки.
Но вместо исполнения приказания, Макка нагло взглянул в глаза Уоллеса и гордо ответил:
– Мой ничего не поднял. Белый господин – большой господин, и белый господин хорошо делал, что не бил Макка, брата великого брата, который тоже очень большой и скоро будет…
Окончить эту длинную фразу Макке, однако, не пришлось.
Два раза, крест накрест, перекроил стальной стек англичанина черное лицо меланезийца-островитянина, оставляя на нем кровавые полосы.
– Один удар тебе, другой твоему брату, от имени которого ты слишком много болтаешь, скотина, – спокойно сказал мистер Уоллес и, уже повышая голос, грозно добавил:
– Ну! Живо! Отдавай!
Макка не сдавался.
Еле сдерживая себя, чтобы не наброситься на своего белого господина и тут же не покончить с ним, он, оскалив зубы, еще наглее крикнул англичанину:
– Твоя, великий англез, голова будет хороший дар, когда ее привезет Макка великому вождю ньявонгов.
Мистер Уоллес знал: ни единой секунды слабости или промедления! Ничто не спасет его в настоящую минуту, если он выкажет хоть малейшее колебание или нерешительность.
То, что сверкнуло в руках Макка, прежде чем он успеет опустить предохранитель с автоматического затвора револьвера, срежет ему голову, которую, уж конечно, «очень будут уважать» в среде лесных жителей.
Но стратегическое положение мистера Уоллеса было не из блестящих, и он это отлично сознавал. Впереди был Макка, с левого фланга расположился подошедший Гутуми, а сзади плотно обступили его лошадь шестеро баттов – все достаточно озлобленные за произведенную им только что расправу в их деревне.
Мистер Уоллес взглянул направо и убедился, что гамбир рос такой густой стеной, что его лошадь неминуемо должна будет споткнуться, если он вздумает пустить ее по этому направлению.
Прошла одна томительная секунда.
Вторая секунда бездействия могла быть уже гибельной для мистера Уоллеса.
Сохраняя полное спокойствие на лице, не дрогнув ни единым мускулом, англичанин, как бы не замечая столпившихся сзади баттов и стоящего слева Гутуми, продолжал наезжать лошадью на дерзкого слугу, желая дать почувствовать дикарям, что в расправе с ними он отнюдь не нуждается в помощи огнестрельного оружия. Молниеносно замелькавший стек буквально завизжал, и целый поток ужасных ударов хлынул на голые плечи, грудь, спину и голову дикаря, оставляя на темно-бронзовой коже белые полосы.
Через несколько секунд Макка уже валялся на земле и, корчась от боли, пронзительно вопил, стараясь не попасть под копыта лошади.
Удары продолжали падать на дикаря, и в коротких промежутках между этими как бритва режущими ударами, Макка ясно мог слышать спокойный голос англеза, нагнувшегося с седла всем корпусом к нему и твердившего, как попугай, одну только короткую фразу:
– Отдай, скотина, то, что ты поднял!
Наконец, Макка взмолился о пощаде.
Когда ливень ударов несколько ослаб, он, все еще содрогаясь от боли, молча встал с земли и, не заставляя уже больше мистера Уоллеса повторять приказание, вытащил спрятанный в одной из складок своего каина остро, как бритва, отточенный крисс, который и подал англичанину.
Мистер Уоллес спокойно принял из рук Макка оружие и, как ни в чем не бывало, сказал:
– Ну, по местам все. Живо! И помнить: если хоть еще раз повторится что-либо подобное, я бить уже больше не буду. Я просто застрелю как собаку того, кто осмелится мне не повиноваться. Вперед! Марш!
Дикари молча повиновались.
Однако спокойствие мистера Уоллеса было только внешним, в нем дрожал каждый нерв, и он едва не вскрикнул, когда, мельком взглянув на крисс, узнал его не местное, а европейское происхождение.
Английские контрабандисты с Малакки доставляли это оружие береговым жителям островов Океании взамен на опий и листья кокки, и то, что нож подобного происхождения очутился здесь, в самом центре Суматры, да еще спрятанным кем-то, очевидно, сообщником Макка, в кустах той дороги, по которой мистер Уоллес должен был ехать, – было крайне загадочно и неприятно.
«Нож положен сегодня утром, – подумал мистер Уоллес, нервно сжимая в кулаке свой стек. – Вчера вечером шел дождь – на лезвии ножа нет ни единого пятнышка ржавчины…» Он вдруг громко крикнул, прерывая свои мысли:
– Стоп!
Батты и ньявонги остановились, и мистер Уоллес, быстро спрыгнув с лошади, зачем-то нагнулся у самого края дороги.
Когда он выпрямился, в его руках был самый обыкновенный прутик, на котором он сделал карандашом какие-то пометки, сказав при этом удивленным его поведением дикарям несколько сконфуженным тоном:
– Уползла, проклятая. А жаль. Это была летающая ящерица.
Вскоре весь отряд вышел на более широкую дорогу и вдали уже ясно обозначились строения, среди которых, несколько возвышаясь над остальными, изящно выделялся своими очертаниями домик пастора Бермана.
Не прошло и получаса, как мистер Уоллес подъезжал уже к самой веранде миссионера, вышедшего навстречу прибывшим и приветливо махавшего мистеру Уоллесу рукой.
Однако мистер Уоллес на радушное приветствие священника ответил сухим кивком головы, небрежно и сухо дотронувшись рукою до полей своего шлема.
– Я надеюсь, дорогой мистер Уоллес, – слащаво сказал пастор, – вы не откажете сойти с лошади и подкрепиться у меня виски с содовой перед рискованным путешествием, которое вы так неосторожно решили предпринять, невзирая на мои увещевания и предостережения. Я не устаю молить Всевышнего, чтобы он вразумил вас и остановил на пути вашего безумия.
– Вы плохо молитесь, милый пастор, – иронически процедил мистер Уоллес. – Ваши молитвы, как видите, не услышаны Всевышним. Впрочем, от стакана виски я не откажусь, если вы прикажете вашему Меланкубу подать мне его.
– Так слезайте с лошади.
– Благодарю вас. Я предпочел бы выпить, не слезая с седла.
– Как угодно, сэр. Эй, Меланкубу, виски сюда. – Пастор хлопнул в ладоши, и, подойдя к перилам веранды, облокотился на них, добродушно глядя вниз на мистера Уоллеса.
Не прошло и минуты, как Меланкубу принес бутылку с виски и два стакана. Сойдя вниз, он подошел к мистеру Уоллесу и стал наливать напиток в стакан.








