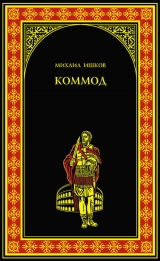
Текст книги "Коммод. Шаг в бездну"
Автор книги: Михаил Ишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 5
Разговор состоялся в таблинии, после действительно очень вкусного и обильного обеда, во время которого Саотер так и льнул к императору. Тот вовсе не был против, время от времени прижимал его к себе и целовал в губы. Правда, и прогнал его без церемоний, столкнул с ложа и добавил ногой. Пинок оказался увесистым, вифинянин покатился по полу. Встал обиженный, надул щечки и едва не заплакал. Коммод строго прикрикнул на него.
– Нечего нюни распускать! Займись делом, даром, что ли, я тебя в управляющие произвел.
Витразин и Переннис поспешили покинуть помещение без дополнительного напоминания. Император предупредил префекта.
– Отправляйся на переговоры. Завтра доложишь.
Оставшись вдвоем с Бебием, император долго молчал, потягивал калду, прищурившись, посматривал на легата. Того томила неизвестность. Первый после долгого молчания вопрос императора прозвучал ошеломляюще.
– Вспоминаешь Марцию?
Бебий сглотнул.
– Нет, государь. Редко.
– А я часто, – признался Коммод. – Всякий раз, когда испытываю грусть, ее лик приходит на ум. Шкатулка у тебя сохранилась?
– Да. Храню в Риме, под присмотром Виргулы.
– Сын подрастает?
– Да, уже скоро восемь лет исполнится.
– Он знает, кто его отец?
– Нет, государь. Его считают сыном Сегестия и Виргулы.
– А как твоя Виргула к нему относится?
– Любит, государь. Относится как к родному. Она вообще добрая женщина.
– Помнишь, как ты, Лет и Тертулл стояли перед моей матушкой и договаривались выкрасть Марцию? Там еще Сегестий Германик присутствовал, телохранитель отца. Вот уж был рубака так рубака, он меня и учил владеть оружием, – император вздохнул. – Ты держал шкатулку под мышкой. Я вырвал коробочку у матушки, открыл и увидал на крышке ее портрет. В такую можно влюбиться, жизни не пожалеть. Какая разница, что она рабыня. Кажется, твоя мать Матидия продала Марцию этому лысому развратнику Уммидию Квадрату. Помнишь Уммидия?
Бебий кивнул, опустил голову. Ожогом вспомнились короткие и страстные встречи с Марцией, выросшей в доме Лонгов и отданной ему после возвращения из первого похода, чтобы унять мужское желание.
Желание унял и влюбился – до умопомрачения, до решимости бросить все. Матушка не позволила. Пока Бебий, служивший в ту пору преторианских когортах, отсутствовал, Матидия продала Марцию зятю Марка Аврелия Уммидию Квадрату. В ту пору Бебий и совершил неподобающую потомку славного рода Корнелиев дерзость. В компании с друзьями – Квинтом Летом и Сегестием – он выкрал девушку из виллы Уммидия и спрятал рабыню в доме Германика. Император Марк Аврелий Антонин, разбиравший это поразившее весь Рим похищение, отправил Бебия, Квинта и Тертулла в ссылку. Сколько в ту пору было Коммоду? Лет десять, не больше. Он тоже рвался участвовать в похищении Марции.
Император потягивал вино из огромного золотого фиала, помалкивал, видно, тоже разглядывал воспоминания.
Ссылка в Сирию обернулась приключением, во время которого Лонг нашел жену, Клавдию Секунду. Что‑то около десяти лет минуло с той поры. Он искоса глянул в сторону императора, – какая причина заставила его, бывшего в ту пору совсем мальчишкой, вспомнить эту давнюю историю? Чем больше он общался с новым цезарем, тем менее понимал его.
Луций Коммод Антонин в упор посмотрел на легата, затем спросил.
– Выходит, все у тебя в порядке, все по воле богов устроилось. Что ж, я рад. Домой не тянет?
Бебий вновь машинально кивнул. Император, вроде бы удовлетворенный таким ответом, усмехнулся.
– Меня тоже. Эта Паннония надоела хуже Клиобелы.
Заметив недоумение во взгляде легата, император неожиданно заливисто, от души рассмеялся.
– Ты не знаешь, кто такая Клиобела? Я тебе завидую, Бебий. Также завидую тем, кто гуляет по римским форумам, парится в римских банях, посещает конные состязания, может воочию наблюдать за непревзойденными в своем деле гладиаторами. Какие бойцы выступают на арене! Витразин сообщил мне их имена. Какие имена! Это же просто песня: Аттилий–живодер, Афинион, этот из киликийских разбойников, сицилиец Тимофей, пердун и похабник, каких свет не видывал. Как он пускает ветры на арене! Это надо слышать!.. Если бы ты знал, Бебий, как я скучаю по италийскому небу. Однако не нами устроен этот мир, не нам и горевать по поводу его несовершенства. Наша обязанность исполнять долг. Так, кажется, утверждал мой отец. Мудрые слова. Вспоминаю, он также добавлял, что бездумное исполнение долга есть худшая пародия на волю небес. Дурак с инициативой – самое разрушительное орудие в любом хозяйстве, особенно в империи. Так что, давай не будем дураками и выпьем еще по одной.
Он щелкнул пальцами, и стоявший, словно истукан, молоденький, первой свежести негритенок тут же ожил и наполнил императорский сосуд. Столь же юная, едва скрывавшая страх рабыня долили вино Бебию. По–видимому, ей уже объявили, что сегодня ночью она будет ублажать гостя императора. Вот этого, здоровенного, со зверским лицом легата. Бебий прикинул – на вид рабыне было лет двенадцать, не более того, худенькая, ребенок. Не так уж высоко ценил император своего гостя, если подобрал ему такую кроху.
Коммод возблагодарил богов за щедрость, Фортуну за удачу и опрокинул фиал. Когда Бебий осушил свой, он продолжил.
– Вернемся к тебе, Бебий. Значит, скучаешь по дому?
– Так точно, государь.
– А тут приходится пить ледяную воду, проверять патрули, муштровать новобранцев, следить в оба за враждебными племенами и ждать, когда же этот юнец отдаст приказ двигаться на север. Так, Бебий?
– Да, государь.
– Хвалю за откровенность. Я долго перебирал, с кем бы мне поговорить по душам, кому доверить тайные мысли, с кем посоветоваться. Всех перебрал – и «стариков» из претория и тех, кто из молодых да ранний. Лет, твой напарник в поездке. Переннис покладист, но неловок, никак не может справиться с волнением от близости к моей особе. Никак не может поверить, что имеет возможность запросто общаться с божественным императором. К тому же он мелкая сошка, а тебя в армии знают. Твое прозвище известно самому последнему саперу–фабру. «Любимчик философа»! Это звучит. Сам я никогда не был у отца в любимчиках, но каждому свое. Было время, когда боги решили доверить управление Римом философу – вероятно, посчитали, что и это блюдо стоит попробовать. А то все Траяны да Домицианы, вояки да изверги. Теперь обратились ко мне, гуляке и фанфарону, забавнику и шутнику, бабнику и папнику. Ты согласен, что смертные не вправе обсуждать этот выбор?
– Согласен, государь. Мне и в голову не приходило…
– Подожди, – перебил его император. – До головы еще дойдем. Скажи, Бебий, ответь мне прямо, без уверток и опаски, – ты полагаешь, что успех похода обеспечен? Все те меры, которые предпринял отец, вся эта мощная сила, более сотни тысяч воинов дают полную гарантию победы?
– Государь, принято считать, что на войне все решает число воинов, их доблесть, искусство военачальников и судьба, которой подвластны все человеческие деяния, а исход войны всего более. Так утверждал Тит Ливий, а старику можно верить. В таком случае ни один, даже самый великий полководец не вправе заранее утверждать, что победа обеспечена и стоит только протянуть руку и взять ее. Однако все, что касается первых трех условий, – сделано.
– Я как раз и желаю протянуть руку и взять ее. Никакая другая победа меня не интересует. Дело не в интересе, славе, дело даже не в трофеях. У меня нет выбора, Бебий, и я хочу объяснить почему. На протяжении десятилетия мы воюем с германцами уже второй раз. Воюем третий год, и каков результат? Их сопротивление ослабевает? У них дрожат коленки? Они с ужасом ждут, когда римские войска вторгнутся в их пределы? Если ты полагаешь, что я не понимаю сути замысла отца, ты ошибаешься. Я вник и полностью согласен, что в тех условиях, в каких воевал Марк – это было разумное и, безусловно, исполнимое решение. К сожалению, я нахожусь в других условиях, и мое желание заключить мир с германцами, это не прихоть, не боязнь перед суровыми испытаниями, не каприз юнца, но суровая необходимость.
– Как это? – не смог сдержать удивления Бебий.
– Ты давно не был в Риме и не знаешь, о чем твердят на его улицах. Витразин сообщил, что в народе ходят упорные слухи, что едва вышедшему из детского возраста Коммоду следует предпочесть мужа в зрелых годах, ничем не запятнанного, знатного, родственника Марка.
– Мало ли о чем болтает римский плебс! – воскликнул Бебий.
– Ты заблуждаешься, Бебий. Слухи – это не болтовня. Римский плебс – это и сборище голодранцев, и безмозглая толпа, но и сила, живущая по своим законам и способная смести любого, кто станет ей неугоден. Отец попытался отнять у народа развлечения и заставить всех быть философами. Он доказал свое право требовать от народа того, чего ему не присуще. Я же не философ, наоборот, меня с детства терзали философией. Я не желаю бесстрашно, в здравом рассудке принимать смерть, чему учит эта наука. Я вообще не желаю умирать. Беда в том, что я могу быть либо цезарем, либо никем. Кто из более удачливых соперников, если такие найдутся, оставит меня в живых? Согласен?
Легат кивнул.
– Вот из этого постулата я и вынужден исходить. Я не говорю, что угроза зрима или неотвратима, но у меня складывается впечатление, что кое–кому просто не терпится втянуть меня в войну на границе. Кто‑то очень хочет, чтобы я увяз здесь по уши и не мог не то, чтобы уехать в Рим, но даже на короткий срок вырваться из Паннонии. Сколько я ни допытывался у Пертинакса, у Сальвия Юлиана – успеем мы дойти до Океана за одну кампанию? – никто из них не взял смелость твердо ответить мне: да или нет. Все взывают к богам, отдаем будущее на их суд. Это значит, что никто из них до конца не уверен, что мы решим эту задачу за год. Согласись, в том положении, в каком находился отец, это, в общем‑то, ничего не значило. Годом позже, годом раньше, какая разница! Стоило ему, победителю парфян, квадов, маркоманов, каких‑то гермундуров –одним словом, матерому цезарю, – едва шевельнуть легионами, как мятежник Кассий сразу рухнул. Отец был символом, полубогом, никому в империи после урока, преподнесенного им сирийцу, в голову не приходило бросить ему вызов. С чем же столкнулся я? На, почитай.
Он вытащил из‑за пазухи тоги свиток и, не глядя, протянул его в пространство.
Безмолвный негритенок аккуратно взял документ, передал его рабыне. Та, в свою очередь, двумя руками приняла свиток и с поклоном протянула его легату. Бебий Корнелий Лонг угрюмо взглянул на нее, и ручки у девочки дрогнули. Гость принял послание, развернул его и увидел подпись Ауфидия Викторина, городского префекта Рима, ответственного за порядок в столице и Италии.
– Читай там, где я оставил отметину ногтем. Читай вслух, – подал голос Коммод.
«…все эти знамения ясно показывает, что римский народ обожает сына великого Марка. В городе теперь носят исключительно его любимые цвета. Женщины известного поведения, которым он когда‑то оказывал честь и одаривал любовью, теперь нарасхват. Они дерут втридорога, и, несмотря на это, к ним выстраивается очередь из лиц всаднического сословия и сенаторов. В городе нет уголка, где бы ни славили нашего императора, нашего богатыря, нашего Геркулеса, чья десница могуча и неподъемна для врагов».
– Видал, – произнес цезарь, – в очередь к шлюхам выстраиваются. Ручища моя неподъемна для врагов. Я, конечно, малый крепкий, вымахал, что надо, мечом, копьем владеть умею, однако я жду от Ауфидия подробного и проницательного отчета о настроениях в городе, а он шлет и шлет мне панегирики. Понятно, он опасается за свое место, но описывать поведение шлюх в тот момент, когда решается судьба империя, по крайней мере, легкомысленно. А вот что рассказали мои друзья, недавно прибывшие из Рима. В сенате разброд, нелестные для меня разговоры. Многие, очень многие, полагают, что передача власти по наследству – неслыханный и незаконный вызов древним установлениям, которыми живет город. Кое‑кто возмечтал о том, чтобы набиться мне в советники и указать верную дорогу к славе. Другие, как я уже сказал, вслух заявляют, что распутный сын великого отца недостоин править Римом.
Он спустил ноги, сел на ложе, ссутулился.
– Прикинь, Бебий, что начнется в Риме, когда там узнают, что я застрял в Богемии. Сколько радости для тех, кто предупреждал о моей незначительности, неумении управлять государством. И в такой момент меня усиленно вынуждают отодвинуть войска подальше от Рима, увязнуть в непроходимых лесах и болотах, бросить столицу и, следовательно, империю на произвол судьбы. Или на попечение тех, кого я выберу, ведь мне придется утвердить кого‑то в должности управителя государством.
– Государь, я готов выполнить любой твой приказ.
Император поморщился.
– Не о тебе речь. Твое дело командовать легионом. Хорошо будешь командовать, станешь сенатором, а то и консулом, получишь провинцию в наместничество. Ты что не понял, о чем я веду речь?
– Понял, государь. Тебя беспокоит, как бы тебя не оставили не у дел в тот самый момент, когда обострится положение на востоке империи.
Коммод закивал.
– Именно! План проще не бывает! Как только я увязну на севере, кто‑нибудь из наместников на востоке поднимает мятеж, и я оказываюсь зажатым между двух огней.
– Но, государь, с легионами Северной армии тебе победа обеспечена. Мы все встанем за тебя.
– Но зачем вставать? Зачем доводить дело до гражданской войны, ведь война, ты сам только что сказал, дело ненадежное.
– Какой же ты видишь выход, цезарь?
– Мир с варварами. Надежный, долговременный, обеспеченный присутствием на границе лучших легионов. Лучшей острастки для внешних и внутренних врагов не придумаешь. Отсюда я могу легко перебросить войска по любому азимуту, в то же время близость коварных германцев и кельтов по ту сторону Данувия не позволит нашим воинам, от рядового до полководца, расслабиться.
– Государь, помнишь, я был сослан Сирию. Мне лучше других известна трещина, которая перед кончиной очень тревожила твоего отца. Восточная часть империи, если вовремя не доглядеть, вполне может отколоться и пуститься в самостоятельное плавание. Согласен, что перед началом летней кампании надо еще раз все хорошенько взвесить. Все равно лично я полагаю, что поход необходим. Я согласен с твоим отцом, что, разгромив варваров на севере и водрузив легионные орлы на берегу Океана, мы тем самым решим обе задачи: сохраним единство империи и обеспечим безопасность северных границ. Однако твои доводы тоже весомы. Стоит молодому цезарю застрять в Моравии и Нижней Германии, и нельзя исключить безумств, которые могут родиться у кого‑то в воспаленном воображении. Конечно, я не обладаю полнотой информации, чтобы дерзнуть советовать тебе, однако этот разговор придал мне надежду, что решение будет принято разумное и дальновидное. А это так важно для легата. Вот почему я сказал, что готов выполнить любой твой приказ.
– Это я и хотел услышать. Я требую от тебя немногого. На будущем совете твердо выскажи свое мнение насчет того, о чем мы здесь только что говорили. Спроси, кто готов дать гарантии, что за оставшиеся шесть месяцев мы добьемся успеха и организуем новые провинции?
Бебий поколебался.
– Но я верю в успех кампании нынешнего года.
– Можешь предложить себя в главнокомандующие. Я тебе доверяю и, если не будет других предложений, поддержу твою кандидатуру.
– Нет, цезарь. Это мне не по плечу.
– А Пертинакс, например, ответил, что он готов взять на себя ответственность. Правда, потом стушевался. Неожиданно заявил, что взвесил все за и против и пришел к выводу, что в нынешнем положении никто, кроме императора не может возглавить поход. Как полагаешь, к чему он клонит?
Бебий пожал плечами.
– Я не знаю, я не Пертинакс.
– И я не знаю. Я прошу тебя озвучить свое мнение на совете, только и всего. Повторяю еще раз, можешь предложить себя в главнокомандующие.
Он сделал паузу, выпил еще вина и заявил.
– Все, на сегодня хватит. Приглашаю тебя проветриться. Сегодня ты останешься у меня, я назначаю тебя своим гостем. Как тебе дичь, которую мы только отведали?
– Что‑то потрясающее, – признался Бебий.
– К тому же у меня есть замечательное фалернское, которое только что доставили во дворец.
– Государь, у меня есть просьба.
– Говори. Готов исполнить все, что бы ты ни попросил. Желаешь, чтобы тебя обеспечили женской лаской? Сделаем. Есть у меня огурчик, пальчики оближешь. Его уже и Переннис, и Витразин попробовали – говорят, что‑то необыкновенное. Буря и страсть, а вопит так, что в городе слышно. Потрясающе.
Заметив, как изменился в лице Бебий, император рассмеялся.
– Я не настаиваю. Не хочешь не надо, спи один в холодной постели. Что за просьба?
– Государь, разреши Тертуллу вернуться в Рим. Десятый год поэт живет в Африке. Он раскаялся и молит о прощении.
– Это какой Тертулл? Который спал с моей матушкой? А что, его до сих пор не помиловали? Ничего не скажешь, был весельчак. Теперь, наверное, поумнел. Хорошо, Бебий, пусть возвращается в Рим, но только при одном условии. Никаких шуточек, намеков, эпиграмм. Пусть займется описанием моего славного царствования. Договорились?
– Да, мой государь.
* * *
В военном лагере Бебий привык ложиться с заходом солнца, так что заполночь он уже не мог скрыть зевоту и государь милостиво разрешил ему отправляться спать. В такой поздний час легату было трудно состязаться в жизнерадостности с друзьями Коммода.
Шум во дворце не стихал долго. Бебий проклял демонов, затащивших его в это аидово гнездо, в эту пыточную, где без конца вопили, ругались, хохотали. Друзья цезаря декламировали бессмертные строки Вергилия, старались перекричать друг друга, а то вдруг начинали соревноваться в умение дудеть в трубу. В лагере Бебий всегда спал в пол–уха, служба приучила реагировать на каждый непонятный, незнакомый звук, потому что на вражеской территории всякий подобный окрик, свист, птичья трель, совиное ухание, трубный рев оленя могли таить опасность. Здесь опасности не было, но пересилить себя трудно – каждый раз, как во дворце кто‑то начинал голосить петь, бряцать, он вскидывал голову. Окончательно допекла его ссора в коридоре, рядом с его дверью.
Началось с душераздирающих криков и громкой ругани, на которую не скупился взволнованный женский голосок. Затем кто‑то завизжал, заохал, в ответ послышались звучные шлепки. Бебий рывком сел на ложе. Из коридора неслось «Ой, убивают! Уберите от меня эту безумную! Отнимите у нее кинжал!», – все комком! – затем тончайшее «Ой–ё-ё–ё-ё–ё-й!» и, наконец, кто‑то рявкнул басом: «Лярвы вас раздери, что здесь творится!»
Бебий не выдержал и выскочил в коридор.
У дверей спальни императора шла отчаянная борьба. Какая‑то молоденькая девица с распущенными волосами, в разорванной тунике, совершенно обезумевшая, пыталась достать кинжалом до смерти напуганного, нарумяненного и надушенного Саотера, который, по–видимому, направлялся в спальню Коммода. Визжал вольноотпущенник, грозила и нападала девица. Ее пытался удержать могучий преторианец, однако и ему было нелегко справиться с напором, который выказала неизвестная злоумышленница. Разгневанный, появившийся в окружении толпы слуг император, которому принадлежало: «Лярвы вас раздери!..» – тоже пытался разнять дерущихся.
На лице вольноотпущенника кровоточила глубокая ссадина. Он пока не замечал ее, однако стоило ему провести рукой по щеке, потом заинтересованно оглядеть ее – отчего ладонь намокла? – как он тут же потерял сознание и опустился на пол.
Коммод рассвирепел, принялся кричать на девицу – как она смеет врываться в государевы покои, поднимать здесь шум! Ступай на кухню, там твое место! Затем попытался ударить ее. Девица смело подставила ему обнаженную грудь и ответила что‑то совершенно невообразимое – ты не смеешь меня прогонять! Я твоя супруга! Почему ты не допускаешь меня к себе, а тешишься с этим извращенцем и негодяем!
Изумленный Бебий открыл рот – вид у него был поистине дурацкий, что не преминул отметить Коммод. Заметив легата, он ткнул пальцем в его сторону и залился хохотом.
– Взгляните на Бебия! – закричал он, призывая всех, кто находился в коридоре, отвлечься от драки и обратить внимание на новое действующее лицо. – «Любимчик» совсем ополоумел.
Затем он игриво окликнул его.
– Бебий! Челюсть потеряешь.
Легат опомнился, закрыл рот, хмыкнул, спросил.
– Чем могу помочь, государь?
– Без тебя разберемся. Дело, как говорится, семейное. А начет шума не беспокойся, Переннис все уладит. Ступай.
Бебий едва не откликнулся: «Слушаюсь, цезарь!» – однако в последнее мгновение решил, что это уже слишком. Нельзя же выглядеть полным дураком, которого по команде отправляют спать. Он, соблюдая достоинство, потоптался на пороге, затем вернулся в спальню. Дверь оставил чуть приоткрытой.
Свалка постепенно перешла в нервное выяснение отношений и поиск компромисса (разговор по–прежнему велся на повышенных тонах). Император вроде бы нашел приемлемое решение и предложил рыдающей девице пройти в спальню вместе с пришедшим в себя и вставшим с пола Саотером. Это будет здорово, пообещал ей император, и вполне по–человечески, ведь не в моих правилах обижать близких мне людей. Ему тоже хочется, он указал на вольноотпущенника, и тебе, Кокцея, хочется. И мне хочется, вот и совместим наши желания в единую ненасытную страсть.
Кокцее этот вариант был явно не по душе. Она попыталась вновь напасть на Саотера.
– Убирайся прочь, служитель гнусной Изиды. Луций, прогони его…
Бебий не выдержал, наглухо закрыл дверь, тупо, словно спросонья, оглядел предоставленную ему комнату, словно ожидая и здесь увидеть что‑то невероятное. Что‑нибудь чудовищное, неожиданное… Например, прежнего императора. Привидению он удивился бы меньше, чем Кокцее, утверждавшей, что она является «супругой» императора. Эти два понятия – Кокцея и супруга правителя великого Рима – совместно не укладывались в голове. Когда молодой цезарь обзавелся супругой? Почему в армии об этом ничего не известно? Что скажут в легионе, когда весть о женитьбе молодого цезаря дойдет до солдат? Как объяснить, почему по такому торжественному случаю не были розданы наградные?
Или вот еще загадка – если император твердо решил отложить поход и заключить вечный мир с германцами, зачем он советовался с Бебием? Не такая он великая сошка, чтобы делиться с ним тайными мыслями? Что на самом деле затевает Коммод? Чего добивается? Легат не мог избавиться от тревоги – за разговором в триклинии, за коридорным театральным действом, за желанием наградить его женской лаской смутно просвечивало что‑то огненное и жуткое. Отчаянно забилось сердце, словно попыталось вырваться на волю – не лежалось ему реберной клетке. Почуяло что‑то безрадостное?
Тем временем шум в коридоре стих. Бебий машинально прикинул – на чем сошлись? Все трое отправились в спальню, или Кокцея сумела отстоять свои права на супружеское ложе и заставила вольноотпущенника вернуться в свою комнату? А может, повезло вифинянину? Вопрос философский, усмехнулся легат, под стать Эпикуру.
Бебий с детства испытывал неприязнь к философии как к некоей занесенной извне зауми, сбивающей с толку римского гражданина, которому для покорения мира вполне доставало веры в отеческих богов и привычных добродетелей – pietas, gravitas, simplicitas* (сноска: P ietas– почтение к старшим, а также взаимная привязанность детей и родителей; gravitas– суровое достоинство и трезвое чувство ответственности; simplicitas– простота, чуждость расточительности и позерству). В римских семьях эти ценности всегда были в цене, пусть даже таких семей оставалось немного. Всякие отвлеченные, отличные от привычных житейских представлений понятия, как‑то: первостихии, мировой разум, мир, представляемый в виде cosmos’а, как всеобщее, целое; одухотворяющая его пневма, калокагатия, эйдосы, 2 вызывало у молодого легата раздражение.
С прежним цезарем было проще. Марк никогда не ставил себе в заслугу приверженность философии, да и понимал он ее совсем по–римски, как некий устав, имеющий прежде всего практическую ценность. Никому своих пристрастий не навязывал, воспитывал личным примером и выше всего ставил здравомыслие, приверженность родным очагам, военную и гражданскую доблесть. Помнится, в присутствии Марка Бебий, тогда еще молодой трибун, ненароком обмолвился, что «ненавидит философию». Ляпнул и прикусил язык.
– Ненавидишь философию? – удивился Марк. – Я рад за тебя, Бебий. Ты рассуждаешь здраво, по природе. Если бы ты знал, сколько ненавидящих философию прилюдно восхищаются ею, изображают умников, требуют наград за то, что осилили первое предложение в платоновском «Пармениде». Если бы знал, разочаровался в человеческой породе. Философия и не должна нравиться. Философия – это образ жизни. Как здоровому не нужен лекарь, так и тебе, чтобы жить добродетельно, ни к чему философия. Ты редкий экземпляр, Бебий, ты живешь, как дышишь, не замечая пороков и не нуждаясь в советчиках и учителях.
Были у легата свои счеты и с христианами, лишившими его отца.
Спать уже не хотелось. К тому же после всех вкусностей, после замечательно фалернского, какими угощал его император, Бебию в самом деле нестерпимо захотелось женщину.
Заиграла память, представила жену, Клавдию Секунду. Она была обнажена, манила его, от этого зова стало совсем невмоготу. Помнится, в Моравии в самом начале оккупации, пару раз приказал своему рабу Диму пригнать женщин из захваченной добычи. В сердцах добавил, выбери помоложе, посимпатичней. Первая, маркоманка из мятежного клана, очень понравилась. Он спросил ее – по доброй воле или силком? Золотоволосая, полная красавица ответила – лучше убей! Бебий вздохнул, дал знак Диму – уведи, потом распорядился записать ее в свою добычу. Другая, из пришлых славян, согласилась и разрыдалась. Бебий пожил с ней неделю, как‑то ночью в сердцах назвал ее Клавой, после чего приказал сбыть работорговцу, которые в ту весеннюю пору, в преддверии большого похода буквально наводнили южные области Богемии и Моравии. С тех пор воздерживался.
Он разделся, лег, вздохнул глубоко, с надеждой на близкий успокаивающий сон, в котором забудутся тревоги, шум во дворце и эта огненная полоска, что обожгла сердце.
Смежил веки, прислушался. Хвала богам, в замке наконец‑то установилась тишина.
В следующее мгновение скрипнула дверь, кто‑то вошел в его комнату. Бебий замер, изготовился. Мысленно прикинул расстояние до лежавшего у изголовья кровати меча, успокоил себя – достать успеет. Все‑таки осторожно потянулся к мечу. Следом почуял – женщина! Сердце забилось сладостно, невыносимо. Неужели худенькая девчонка, прислужившая ему в триклинии? Спасите боги от насилия над ребенком. Решил прикинуться спящим.
Послышались шаги, грузные, топающие. Удивленный легат перевернулся на спину, осторожно глянул на вошедшую. В тусклом свете едва мерцающей масляной лампы различил – действительно, женщина, только какая‑то необъятная, шире двери. Ни слова не говоря, она скинула тунику и влезла на ложе. Постель заметно прогнулась под ее весом. Женщина потянулась, раскинув руки в сторону, затем повернула голову, глянула на Бебия. Тот дар речи потерял.
Женщина зевнула еще раз и спросила.
– Ты кто?
Бебий зажмурился, попытался заклинаниями отогнать видение. Вновь открыл глаза. Женщина не исчезла, от нее пахло луком и еще чем‑то вкусным и притягательным – то ли молоком, то ли хлебом.
– Я спрашиваю, ты кто? Легат?
– Да, – отозвался Бебий.
– Хвала богам, угадала. Сказали, комната в конце коридора. Мало ли комнат в этом проклятущем коридоре. Забредешь еще к какому‑нибудь сосунку. А то еще к поклоннику мужчин. Тоже радость ублажать такого. А ты мужчина видный, вполне стоящий.
Она просунула руку и погладила Бебия. Провела сверху вниз по груди, животу, остановилась ниже паха. Ухватилась ловко, твердо.
– Не–е, ты вполне сносный мужчина. Ну, давай, мужчина, а то я вся уже трепещу.
Она поерзала в постели, отчего ее огромные груди придавили Бебию ребра.
– Нет, в самом деле, трепещу. Я страсть, какая заводная. Только в последнее время заводить некому. Как приехал этот Саотер, так кончились сладкие денечки.
Бебий, с трудом преодолевая желание, все‑таки счел уместным поинтересоваться.
– Ты кто?
– Клиобела. Неужели ты никогда не слыхал о Клиобеле?
– Рабыня? Вольноотпущенница?
– Я – женщина! Женщина, и этим все сказано. Давай, а? А то навалюсь сверху, дохнуть не сможешь.






