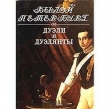Текст книги "После дуэли"
Автор книги: Михаил Рощин
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
2. Пятигорск, острог
Темная комната с решеткой. За деревянным столом, на котором листки бумаги и чернильница с гусиным пером, сидит Мартынов (25 лет). Лицо его освещено свечой. Он в черкеске, голова обрита, баки, он грубо красив, выражение упрямое. Он не пишет, он говорит с человеком, который ходит по темной части комнаты, – это жандармский подполковник Кушинников, «особых поручений» чин, посланный Бенкендорфом на Кавказ тотчас вслед за Лермонтовым. Кушинников петербуржец, не стар, неглуп, хорошо информирован, дело свое знает. В гражданском платье. Заунывная песня за стеной.
Мартынов. Я еще раз требую, господин подполковник, пусть переведут меня из острога: всю ночь пьяные песни орут, матерщина, псалмы читают, – этак с ума недолго сойти… Слышите?
Кушинников. Да, я сказывал коменданту, это сделается.
Мартынов. Они корпуса жандармов как огня боятся, стоит сказать…
Кушинников. Я говорю, сказывал. А нас что уж бояться!
Мартынов. Как мужика какого пихнули и забыли!
Кушинников. Ну-ну, не обижайтесь, сделается… Так я, как изволите видеть, показаний с вас не снимаю, протоколов не делаю. И вообще прошу понять: разговор имеем мы с вами как бы и неофициальный. Вы человек военный и поймете: мое дело – доложить своему начальству всю картину в наиболее правдивом свете, только и всего. Подробности, как вы понимаете, мне уже известны, но всех мотивов и пружин…
Мартынов. Да какие ж пружины! Я уж вам отвечал. Убить я его не хотел. Я терпел много, но он не оставлял свой постоянный топ persiflage,[3]3
Насмешки (франц.).
[Закрыть] издевался, рисовал карикатуры. Я ношу эту форму и необходимый к ней кинжал, вот так. (Показывает то место, где пряжка бывает.) И он обыгрывал это в мало приличном виде. И при совсем молоденьких demoiselles, у Верзилиных, Надин – пятнадцать, а Грушо – девятнадцать.
Кушинников. Груше двадцать один.
Мартынов. Да? А она говорила… Не о том, впрочем!.. (Продолжает.) Я впал в бешенство, выговорил ему – в тот вечер у Верзилиных, – а он опять за свое и смеяться: мол, вызови меня, коли так.
Кушинников. Смехом?
Мартынов (не слушая). Что мне оставалось? Возможно, во мне обострено point d'honneur,[4]4
Чувство чести (франц.).
[Закрыть] но в наши времена, когда чувство чести некоторыми вообще ни во что не ставится… Я сделал картель. В бешенстве.
Кушинников (как бы про себя). Смехом… в бешенстве… (Мартынову.) Да-да, понятно. Но прошло два дня, было время остыть, примириться…
Мартынов. Я много прощал и мирился, но теперь мы… то есть я… решил его проучить, раз и навсегда…
Кушинников. Вы считали, это произведет верное впечатление на местное общество? Например, на кружок госпожи Мерлини?
Мартынов. Не знаю. Его там не жаловали, да, но я о том не думал…
Кушинников. И решили сами? Или с кем держали совет?
Мартынов. Что?
Кушинников. Целых два дня после вызова… Человек не может быть сам с собой, не обсуждать с друзьями…
Мартынов (гордо). Господин подполковник! Я!.. Один!.. Никто!..
Кушинников. Полно, полно, успокойтесь… Скажите, возможно, вы и в ходе самого поединка ожидали новых каверз, насмешки? Допустим, незаряженного пистолета или… Вы успокойтесь.
Пауза. Мартынов понимает, что ему помогают.
Мартынов. Да, тут всего можно ждать, – их игривость достигла вершин Эльбороуса…
Кушинников. Но, однако, игривость-то должна была б упасть при столь жестоких условиях дуэли и дальнобойных кухенрейтерах…
Мартынов. А, этим его не взять! – он на засады бросался и на батареи.
Кушинников. Воинская храбрость вашего противника не вызывает у вас сомнения?
Мартынов (важно, подумав). Нет. Если холод души и презрение к жизни назвать этим словом.
Кушинников. Как?
Мартынов. Кому жизнь-то не мила – смерти не боится.
Кушинников. А…
Пауза.
Мартынов. Конечно, чего хочешь от них жди!..
Кушинников (осторожно). Почему вы не ждали его выстрела?
Мартынов (быстро). Потому что он бы не выстрелил. Потому что…
Кушинников. Хорошо, хорошо, оставим самый поединок… Поверьте, я понимаю ваше состояние, вашу подготовленность к столь пылким действиям. Я наслышан обо всем. И о том, как господин Лермонтов интриговал против вашей сестры, как утерял однажды переданные вам письма…
Мартынов. Да нет, то пустяки!..
Кушинников. Не торопитесь, сделайте анализ этим фактам, они могут быть учтены в дальнейшем. Говорят, главное лицо своего романа, княжну Мери, списал он с вашей сестры.
Мартынов (туго соображая). Нет, это вымысел.
Кушинников. Не спешите, обдумайте, оставим этот пункт до будущего разговора… Вот вы промолвились о холоде души, – видите ли, я нынче, мне кажется, лучше знаю вас, чем вашего противника, и желалось бы понять, что за характер имел…
Мартынов (сразу). Он был безнравственный человек. Ничего святого. Он все презирал с младых ногтей своих. Отечество, народ, доблесть, любовь, привязанность – все было для него звук пустой. Насмешки надо всем – вот его идея. Англичане его отравили, Байрон, которому он был подражателем.
Кушинников. Вы ведь давно и недурно его знали?
Мартынов (не отвечая). У него, может, и была когда душа, да он ее умом убил. Свет его испортил. Я, открыто вам скажу, презираю свет, – вот эта черкеска, конь, горный ветер дороже мне всех дворцов и гостиных. Я не скрываю! А он съедаем был тщеславием! Любой ценой – лишь попасть в la creme de la noblesse.[5]5
Сливки общества (франц.).
[Закрыть] Он и писал-то затем! Славы Баркова ему было мало, мало потешать юнкеров да гусар непечатными стихами, так он через имя нашего несравненного Пушкина решил купить себе славу. Задел общество – глядишь, оно тебя и заметило. Расчет, один холодный расчет!..
Кушинников. Прелюбопытно!.. Но, однако, согласитесь, без таланта не успеешь в таком предприятии, и наши столичные литераторы высоко ставят… ставили его способности…
Мартынов. Кто у пас без способностей!.. На что только направить!.. Нет, я не говорю, я читал, я все читал… Но… Когда знаешь личность человека и прочитаешь «Демона» или… Ну, «Бородино», оно неплохо, хорошо… Но «Демона»… (Смеется.) Прошу извинить, это вызывает смех. Или раздражение… Маёшка и Демон – ну – не укладывается! (Смеется.) «Уланша» – вот это куда! Это его истинное лицо!
Кушинников. Но можно посчитать оно и за шалость, – молодость должна перебеситься.
Мартынов. Э, тут другое! Совсем другое. Возьмите Пушкина, он в эти леты-то воспевал женщину. Как богиню! Он вложил нежность и неиспорченность своей души в женский идеал. А он? Неприлично произнесть!
Кушинников. Вы знали его издавна?
Мартынов. Да. То бишь не так чтобы… Кстати, хочу дополнить: мы все писали стихи, подряд, многие и поныне продолжают, и первенство его тогда не определялось… Мы… я…
Кушинников. Прошу простить, я вспомнил: сказывали, Жорж Дантес тоже говорил, что таких, как Пушкин, у него в Париже на каждом шагу… Нет-нет, не возьмите в упрек.
Мартынов (кичливо). Я знавал Дантеса, при чем тут Дантес!
Кушинников. Понимаю, понимаю, вы имели поединок не с сочинителем Лермонтовым, а с поручиком Тенгинского полка, вашим сотоварищем.
Мартынов. Да! Да! И я думаю, у нас равное положение, хоть я и в отставке майором, а он… В душе продолжаю числить себя кавалергардом, – как и он, полагаю, не забыл гвардии… Дантес! Еще не хватало!.. Прошу простить. (Раскуривает трубку.)
Пауза.
…Конечно, с поручиком!.. Теперь, господин подполковник, все пишут, все сочинители! У меня вон своего полон сундучок. Подумаешь!..
Кушинников. Прелюбопытно. Чрезвычайно. Никак не полагал столь глубокого анализа…
Мартынов (усмехнувшись). У меня достало время подумать.
Кушинников (в тон). Нет худа без добра. Нет, видите ли, вы меня даже разволновали. Мое мнение было несколько иным, и ваш противник рисовался мне, признаться, в свете более идеальном. Уже одно внимание нашего ведомства к его личности…
Мартынов. И это тщеславье! Я знаю многих, кои совершили бы поступки противу общества только затем, чтобы прослыть гонимыми. Это мода, и только. А люди с идеей открыто говорят обществу о его недостатках. Нам… им нечего таить, посколь одно благо отечества имеют целью. Все презирать, надо всем посмеяться, оскорбить свое поколение – это легко. Сказать, что и прошедшее ничего не стоит, и нынешнее, а в будущее вовсе не верить – это удобная идея. Но это значит – отравлять общество, гнусной болезнью поразить его кровь! Что страшнее сомнения!..
Кушинников. Если я вас понял верно, то вы… тут была и некая противная вам идея? А?
Мартынов молчит. Задумался.
…Прелюбопытно… Я, признаться, подозревал, что карикатуры, кинжал и прочее слишком малозначительно для причины, этого может хватить лишь для повода, и, как вижу…
Мартынов. Умники! Собаки! Да их всех!.. Что? Я ничего не говорю. Я не хотел, повторяю, и не думал убить. Не мне судить, кто полезен обществу и кто вреден! Хотя я убежден и живу в убеждении, что знаю край между добром и злом. Я плачу над ним, я молю у бога прощения каждую ночь, он был мне товарищ…
Кушинников. Я понимаю.
Мартынов. Но он сам наскакал на мою пику, как ни разворачивал я копя. (У него слезы на глазах.) Он был безумец и всегда играл со смертью…
Пауза.
…Я ведь и стрелял всегда плохо. Ей-богу, не владаю, как иные…
Кушинников. Я расстроил ваши чувства, простите… Еще лишь единое соображение. О силе вашей обиды и негодования говорит еще и то, что вы ведь предвидели все последствия для вас как участника поединка? Так? Ведь государь сослал многих за дуэли в каторгу…
Мартынов. Перед государем винюсь и отвечу! Но кавказец готов обыкновенно ко всякому удару судьбы, – мы здесь не в Энгельгардтовом маскераде… Я думал лишь о чести.
Кушинников. Понимаю. И еще: не принимали вы во внимание опальное положение вашего противника?
Мартынов. Я? Да мы и тут равны: нетто и я не в опале?
Кушинников. Да-да, разумеется, хоть тут и несколько иное.
Мартынов (подозрительно). Что ж иное?
Кушинников. Нет, не беспокойтесь… Я ведь исключительно об истине хлопочу, и теперь, думаю, она рисуется мне яснее прежнего… Да, вот еще какой вопрос вас может ожидать в будущем: коли повод был мал, коли вы были товарищи, коли… ну, и тому подобное, то отчего ж, даже имея целью проучить, вам было не целить в ногу, скажем, или?…
Мартынов (быстро). Я отвечал: я плохо стреляю. Я вовсе не целил. Я… не знаю… Богу ли, дьяволу было угодно, но я…
Кушинников. Вы просили о передаче вашего дела из суда гражданского в военный?
Мартынов. Так точно. От гражданского что ждать? Сибири? А мне совершенно противен холодный климат. Военный по крайней мере оставит здесь либо…
Кушинников. Да, здоровье, конечно, надо беречь…
Пауза.
…И еще, простите, прямо спрошу: хотели вы проучить или доказать? Доказать, что не ниже его? И не себе только, но и всем?…
Мартынов. Отчего ж это надо доказывать? Кто себя считает ниже другого?… Вы странное спрашиваете, подполковник! «Дантес»… «в ногу»… «не ниже»… Право, странное!.. (Вдруг встает, нервно.) Не в поэта, не в поэта! Он мне не поэт!.. Не могу! Будет!..
Пауза.
Кушинников. Прошу простить… Что ж, благодарю вас. Я понял нынче многое. То есть я и прежде предполагал, что ваш противник весьма отравленный человек, но теперь я склонюсь к тому, что он был (испытующе) в некотором роде уже труп. А?
Мартынов. Как-с?
Кушинников. Но разве ум его был не бесплоден? Разве чувства его не остыли? Разве деятельность его не была пуста? (Видит, что Мартынов теряется.) …То есть при самой живой и энергической оболочке?
Мартынов успокаивается.
…Ну вот. А нам ведь важна суть вещей, не так ли? Вот вы хлопочете о своем здоровье, стало быть, вы здоровый человек. А смерти искать может лишь тот, кто безнадежно болен…
Мартынов (уже ничего не понимая). Ему не сравнялось двадцати семи, он был всегда крепок…
Кушинников (продолжая). А отчего болен? Отчего?… (Мартынову.) Я о нравственном, о душевном здоровье… Нда!.. Герой нашего времени!.. Ну-с, еще раз примите мои извинения и благодарность, вы дали мне сведения весьма ценные… (Смеется.) Это был просто еще один поединок с господином Лермонтовым!.. Прелюбопытно!.. Пожелаю вам здорового почивания! (Уходит.)
Во время долгого этого разговора Мартынов что-то чертил пером, бросал, снова чертил. Теперь он сидит, стиснув ладонями лоб, свеча трещит, и виден на бумаге черный, бездарный, чудовищно искаженный профиль Лермонтова и вокруг еще и еще рисунки его фигуры, головы, пистолетов. За стеной гремят замки, вопли, крик: «Пусти! Не хочу!» Мартынов срывается с места, колотит в стену кулаками и вопит: «Молчать! Молчать, скотина!»
3. Петербург, Вяземский и Карамзина
Под цокот копыт, в бликах света, катит летний экипаж, – чуть развалясь, в светлом костюме и цилиндре, сидит в нем человек старше пятидесяти лет, с лицом умным, усталым, с выражением слегка брезгливым.
Голос жандарма: «Августа третьего сего года получена из Москвы от почт-директора Булгакова личная депеша на литератора и камергера князя Вяземского-Первого. Не перлюстрировано. Но, как стало известно, оная депеша содержит известие и сожаление о дуэли поручика Лермонтова, имев' шей быть на Кавказе, от которой последний помер. С сим известием князь Вяземский поспешал по городу, а затем в Царское Село, в летнюю дачу покойного историка империи Карамзина…»
Вяземский (размышляя вслух). «Готов был примириться… тот подошел и в упор стрелял…». Черт знает что за дикая и несчастная страна… никогда толку не будет… экой скотиной надо быть, чтобы через четыре всего года после той смерти руку поднять… Софи в обморок упадет, она больше других с ним носилась. Ах ты проклятый век!.. Да тут и сам мальчик небось виноват… Хотя в чем? Как они с ним в прошлом годе расправились? Он хоть и не прав был, геройствовал, да ведь государь французов не любит, мог и простить… Нет, есть там что-то, есть… За пушкинские стихи скоро вернул, а за Баранта опять упек… Ах, черт, не вскрылся еще, не устоялся, но обещал много, что говорить. Пока Пушкина повторял, за Пушкиным только шел, но кто знает… В нашу поэзию, право, удачнее стреляют, чем в Луи-Филиппа, промаху не дают… Тут другое, конечно, не личное, тут как с Пушкиным: запутали тогда тоже, заплели, все постели перевернули, смотреть противно, а соль-то уж знаем, где была… Небось и тут не без того… Как сказать-то Софи? Удара бы не сделалось… А все претензии – свобода, независимость! А уж какая у нас свобода! Сроду ее не было… Ах ты господи!..
Пока Вяземский едет, перенесемся к месту его назначения. Гостиная на даче Карамзиных. Цветы, канделябры, книги, рояль. Изысканно, но скромно. Бывал уже в ту пору такой, скажем, интеллигентный стиль, который люди истинно образованные противопоставляли роскоши богатых гостиных. Две женщины. Одна из них Софья Николаевна Карамзина (39 лет), очень пылкая, нервная, молодая душой, любящая литературу. Она – дочь великого историка, писателя, дочь умная, приобщившаяся делу отца, проведшая жизнь в самом высшем кругу живой русской культуры, а теперь и сама – душа лучшего петербургского литературного салона. Весть о гибели Лермонтова уже дошла до Карамзиных, Софи в горе. Ее молчаливая, чуть рассеянная, печальная гостья – Наталья Николаевна Пушкина (ей сейчас 29 лет). Обе женщины в летних платьях.
Софи. Дай бог, пережить все это!.. Нет, нет, я не верю, возможна ошибка, ведь возможна, Натали? Или он ранен, или что-то не так передано, – ведь там Кавказ, война!..
Натали. Но вспомните, он уезжал с этим предчувствием, вы говорили сами, Софи!..
Софи. Ах, он жил с этим предчувствием! Кажется, никто не понимает этого, как я! Он был поэт печали, такой печали! Ваш Пушкин светел, как ангел, жизнь брызжет из него, а Лермонтов – это тень. Да, вот это будет верно: Пушкин – свет, Лермонтов – тень, а вместе они дают ту полноту… Простите, Натали, меня осуждают, и вы первая можете быть недовольны мною, но я смело, смело ставлю этого бедного мальчика сразу за Александром Пушкиным. Поверьте мне. Я беру себе это право, потому что успела узнать его хорошо.
Натали. Меня on избегал и был холоден.
Софи. Это от смущения, только!.. Вот сейчас, погодите. (Несет альбом, книгу стихов Лермонтова, два тома «Отечественных записок».)
…Как я сразу не поняла, как не поняла!.. Это так просто видно из его стихов… вот, на каждой строфе, повсюду… (Читает.)
«Не говори: я трус, глупец!..
О! если так меня терзало
Сей жизни мрачное начало,
Какой же должен быть конец?…»
Или вот:
«Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет…»
(Плачет.) И вот, вот дальше…
«Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
И я паду…»
(Не может читать.)
Натали. Софи! Оставьте, ну полно, душа моя, не терзайтесь так… Я совсем не могу слышать стихов…
Софи (сквозь слезы). «…И я паду… и хитрая вражда…» Как верно! (С улыбкой, горько.) «…очернит мой недоцветший гений…». «Недоцветший гений!..»
Натали. Ну, Софи! Ну!
Звонит в колокольчик, лакей на пороге, она показывает ему: воды! и тот тут же является со стаканом на подносе.
Mon ange,[6]6
Мой ангел (франц.).
[Закрыть] ну полно, можно ли так!
Софи. Я не о человеке плачу, о литературе!.. Как можно, Натали, как можно при нашей бедности, при варварстве погубить такой талант! Изысканный! Бог мой! Ведь никого нет, никого больше! И что за судьба, что за участь!.. Нет, нет, я не стану больше, простите мою нервность, как не заплачешь bon gre mal gre!..[7]7
Волей-неволей (франц.).
[Закрыть] Он так и стоит у меня перед глазами!» Его ведь мало кто понимал! О нем говорили чудовищное, вы же знаете! Судили по стихам политическим или непристойным, звали Маёшкой, держали за повесу, ядовитого мизантропа… Но истинной души его никто не ведал, а она была проста, нежна, и вовсе не бурные или игривые стихи – его суть… Простите, я как девочка, но я полюбила его талант и поверила в него одна из первых… Его зачисляли в мятежники, но мой взгляд на него иной… Так и вижу его, когда он пришел к нам впервые, застенчивый, неловкий, воротясь из первой своей опалы, странный, малокрасивый, но с прекрасными своими глазами… Я помню, это было вот так же летом, и наша молодежь сразу захватила его в свой круг… Мне еще показалось, что он чем-то похож на Хомякова, скованностью своей, тихостью… Право, на Хомякова!.. Мы затеяли тогда домашний спектакль, ему дали сразу две роли, он был прост, весел, потом Лиза еще уговорила его в игру «Карусель», он ездил верхом отменно, и лошадь у него была восхитительная, очень что-то дорогая… Да… Но и тогда не повезло ему. Он на каком-то смотру надерзил: вышел на парад с коротенькой, чуть не игрушечной саблей, и великий князь посадил его под арест…
Натали. А, я слышала этот случай, так это он озорничал?…
Софи. А как в ту же осень читал он у нас «Демона»! Никогда не забуду!.. Да бог мой, он стал бывать у нас едва не каждый вечер! Он отошел даже от своих гусар, от этого истукана Монго, от Трубецких, от своего пустого кружка, где они и озорничали и только и мечтали интриговать в Аничковом, возбуждая фрейлин и саму императрис… Как он язвил на их счет, я помню. Ему это скучно было. Все говорили, он кутит, повесничает, – да так и шло, – но росла и зрела душа, я понимала! Кто еще мог, воротясь с новогоднего бала, написать:
«О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..»
Но нет, нет, он не был зол, ему больше так хотелось казаться, душа его была иная!.. Вот! Где же это?…
Она листает альбом и находит акварель, – это копия с портрета Заболотского 37-го года.
Вот, взгляните! Вот его лицо, и его душа в этом лице! Есть тут хоть капля зла? Сама мягкость, ребенок, стиснутый ментиком!
Натали. Да, тут схвачено доброе… Но в поэте так много сходится, Софи! Александр… бывал жесток и зол, не тем будь помянут.
Софи. Да, ma chere,[8]8
Моя дорогая (франц.).
[Закрыть] да я знаю, и бог и демон поселяются в таких душах разом. Но вглядитесь, вглядитесь. И разве не Пушкиным сказано, что гений и злодейство – две вещи несовместные? Понимаете? Пусть «хитрая вражда» хочет представить мне его холодным, прозаическим и злым, – я поднимаю им в глаза это лицо, – вот, говорю, – глядите, кто не слеп: одна возвышенность, романтическая высота, чистое служение музам – его сущность!..
Натали. Я мало знаю, но вы, Софи, склонны возвышать, видеть иначе, чем другие…
Софи. Да, да! А как же! Говорят, бабушка, воспитывая Мишеля в имении, до того баловала его, что брала в дворню девушек покрасивее, чтобы мальчику с ними забавляться. Или говорят, что когда привезли цыганок из Москвы, то Лермонтов там был первый. Чего не говорят!.. Еще был слух, тогда, в том черном году, что он выдал товарища, который разносил по городу «Смерть поэта». Это ли мне знать о нем, ma chere! В жизни каждого из нас столько тайн, одни мысли наши бывают так грешны, – кажется сейчас надо тебя в самый ад за них!.. О, жизнь наказывала меня, не спорю, но я горжусь, что всегда умела за низким разглядеть высокое…
На пороге – лакей.
Лакей. Князь Петр Андреич Вяземский!
Софи. О, князь Петр! Он должен знать!.. Как мои глаза, ma chere?
Займите его две минуты, я сейчас. Проси, проси!.. (Уходит привести себя в порядок.)
Входит Вяземский со скорбным лицом, видит Пушкину, целует ей руку.
Вяземский. О, bonjour! Рад видеть тебя, Наталья Николаевна! Как дети? (Замечает книги и портрет.) Слыхали? Кто принес?
Натали. Да, уж знаем, от Тургеневых был человек…
Вяземский. Вот так-то. Эхма!..
Натали. Может, это неправда? Ошибка?
Вяземский (машет рукой). Где там! Вот везу от Алексан Яклича отчет полный. Владимир Голицын, при том бывший, писал в Москву из Пятигорска жене со всею подробностью. Убил Мартынов, сын московского Соломона Мартынова, жулика, что на винных откупах замиллионил…
Натали. Мартынов? В кавалергардах был! Мартынов, как же!
Вяземский. Вот-вот! Дантес твой, сукин сын, прости меня грешного, кавалергардом был, и этот тоже, словно нарочно их подбирают… Ну-ну, извини… Я сяду, душа моя, жарко, и ноги не держат… Что Софи?…
Натали (пожав плечами). В слезах…
Вяземский. Ох господи, господи! Право скажу, в поэзию русскую стреляют удачнее, чем в Луи-Филиппа, второй раз промаху не дают! Булгаков пишет: Лермонтов примириться искал, выстрел будто на воздух сделал, а тот, противу всех правил, подошел и a bout portant,[9]9
В упор (франц.).
[Закрыть] прямо в сердце, тот и слова не вымолвил, наповал…
Натали. Слышать не могу!
Вяземский. И удивительно, как секунданты допустили! Что-то есть тут, не приведи бог, даже думать тяжело, подлостью пахнет… Нессельроде за Баранта ему простить не мог, великий князь за шалости, Уваров, как Пушкину, за стихи, небось, Бенкендорф с Дубельтом еще за что…
Натали. Кого еще назовете али остановитесь?
Вяземский. Помолчу. Только они мужа твоего загубили, что ж им и этого!.. (Себе.) Помолчи, помолчи, так лучше будет… Ох, душа дрожит, жарко! Опять, похоже, как в прошлом годе, засуха, – голод, нищета ползет из всех щелей, по Волге, сказывают, голодающие у помещиков хлеба молют, а где и пограбливают, а у помещиков у самих ничего нету… (Листает томик Лермонтова.) Ну-ка!
«О чем писать? Восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг;
Все в небеса неслись душою,
Взывали с тайного мольбою
К N. N., неведомой красе, —
И страшно надоели все…».
Недурно. Хоть и бойко… Ох!.. (Откидывается, думает.) «И страшно надоели все!..» По мне, так все из-за ребячества! В герои все, в герои! Независимость нужпа, правда им нужна, деятельность, истина, социальность! А взгляда нет, опыта нет, понятия времени пет! Время, душа моя, все определяет, время! Они думают, ежели Франция бушует, то и нам непременно бушевать! А только Франции пришло время, она спеленькая висит, сама с ветки просится, а мы где? У нас и почка не раскрылась еще, а они ее пальцами спешат расколупывать. Ребячество!
Натали. Я не смыслю этого…
Вяземский. Что, душа моя, смыслить! Ты умей во всякое время полезен быть отечеству, со временем сообразуйся: но бунтуй, когда все спят, и не спи, когда все бунтуют. Чего проще! Народ измельчал в России, личностей нет, ареопага нет, воспитания никакого нет; у других демократия хоть том полезна, что свет просвещения ровно льется на массы, а у нас поле-то выглаживают, чтобы бильярдировать легче, шары катать… И выступать на это поле с духом независимости, с претензиями, с оригинальностью – я, мол, не как все, я вот как хочу, так и делаю, – это ребячество и глупость. Ты зрей, ты воспитывай в себе мысль, жди!
Натали. Но если чувства но терпят, если душа спячки не принимает. Вам ли не знать, как Александр…
Вяземский. Александр! Александр время понял, помирился… Нда…
Натали. Полно, князь Поль! Когда он помирился?…
Вяземский (иронически). Ну-ну, тебе лучше знать…
Лакей вносит напитки.
О, удружил, удружил! (Берет бокал, встает.) Мы, матушка, ясно, устарели, где нас слушать! Тут в «Библиотеке» один так написал: мол, поседелые рыцари гусиного пера Крылов, Жуковский да Вяземский ни к какой партии не принадлежат, ничего делать не хотят, почивают себе на лаврах… Вон как! Им всем надо куда-нибудь примкнуть! К Чаадаеву ли, к Киреевскому! Или к тем, кто низкопоклонничает, на Европу молится, или кто о смирении русского народа вопиет. Глупость!.. Время, время, во всем время!
Натали. Что ж это время одних в могилу кладет, до тридцати не дожив, а других… Жуковский вон женился под шестьдесят.
Вяземский. Ну да, а еще скажи: Вяземский вот камергер стал! Так, что ли? Ну, душа моя, спасибо!..
Натали, не отвечая, встает и отходит к окну. Появляется Софи, лицо ее и прическа поправлены, черный платок на голове и плечах. Со словами «Князь Поль!» спешит к Вяземскому и приникает к нему. Он гладит ее по голове, по плечу: «Ну-ну, душа моя, что ж теперь! Не поправишь!»
Софи. Но как это, как? Что пишут? Что в подробностях? Как это могло быть!
Вяземский. Как! Одно скажу: в поэзию нашу лучше стреляют, чем в Луи-Филиппа, во второй раз промаху не дают!
Софи. Истинно! Вы всегда верное мо найдете!.. Он жил сколько-нибудь? Завещание ли сказал? Как это все? Которого числа?… Ах, простить себе не могу, как обидела его однажды: он стихи написал мне в альбом, я сказала, они неудачны, – он вырвал и сжег на свече… А помните, князь, тот вечер, когда с Валуевым, Тургеневым и еще кто-то был, приехали от Тальони, с балета, Лермонтов шутил?…
Вяземский. Полно, душа моя, полно, не раскручивайте нервов себе… Служенье муз не терпит суеты, а наш пиита жил много, спешил, везде успеть хотел, вот и…
Софи. Я никогда не забуду, как провожали его весной, – была Додо Ростопчина, еще стихи ему на отъезд написала. А он был грустен, говорил, что не вернется больше, – как сейчас вижу его глаза, его уже армейский мундир… Я знаю, вы не цените его талант, как я, вам он далек, но кто лучше вас в России знает, что нужно литературе, чем жива она…
Вяземский. Жуковский, матушка, Жуковский. Да еще Александр Христофорович, пастырь литературного стада нашего, граф Бенкендорф!..
Софи. До шуток ли! Ну рассказывайте, рассказывайте, я не стану плакать… Да, а что при дворе? Знают? Что там?… Надо бы к Соллогубу послать… Господи, а что будет с Додо!
Натали. А про бабушку что? Она-то им одним жила.
Софи. Ах, о ней и думать страшно! Как только ей скажут!
Вяземский. Государь уж наверное знает, но в городе еще неизвестно. Так станете слушать письмо булгаковское?
Софи. Да-да, скорее. Ах, как это страшно, должно быть! Как нелепа смерть!..
Вяземский. Не нелепей жизни, душа моя. (Усаживается и достает письмо.)
Софи ставит к вазе с цветами портрет Лермонтова и готовится слушать и плакать.