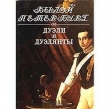Текст книги "После дуэли"
Автор книги: Михаил Рощин
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Михаил Рощин
После дуэли
Пьеса о Лермонтове
1. Пятигорск, дом Чиллева
Крыльцо в четыре ступеньки, ведущее на маленькую терраску,– дом Чиляева вообще весьма мал. Сад, солнечный день, черешни, вишни, птицы поют.
На ступеньке сидит человек с опухшим от слез лицом, убитый горем, – он и теперь плачет. Это дядька и камердинер Лермонтова Соколов, тарханский дворовый человек. Ему под сорок, но выглядит он стариком. Одежда его в беспорядке, волосы и бакенбарды свалялись.
Перед ним стоит босая хозяйская девочка, в длинном платье и платочке, ест вишни, смотрит жалостно.
В открытую дверь дома неясно доносятся голоса; один из присутствующих там офицеров выходит на террасу выбить трубку и вновь скрывается.
Девочка. Дяденька, а сказывают, не чечены твово барина-то убили?
Соколов. Барина-то? Убили, дитятко, убили!.. Господи! (Плачет.) Кабы чечены! И чечена не дождалися – сами управилися! (Плачет.) Ходил, пил, ел! Мишенька-то его все: Мартыш, Мартыш! Вот тебе и Мартыш!.. Господи, как же бабушке-то скажем, как барыне-то на глаза? В пыли ползти… Не уберег, скажет, Андрюшка, как же не уберег-то, окаянный?…
Девочка. Военных завсегда убивают, ты не плачь!
Соколов (не слыша). А где ж уберечь? Сам всюю жизнь на рожно, всюю поперек.
Девочка. У нашей Марьи тож сына Акима в весну убили, она слезьми-то ослепла. Ты не плачь.
Соколов. Барина не уберег Андрюшка, не уберег! И мне б, дитятко, темпу стать! Глаза на свет-то на бел не глядят! За что ж зло-то такое, господи? Пулями зло летит-то, как убережешь-то?…
Пауза, и в нее осторожно вступают два голоса
Первый принадлежит принимающему информацию, второй – передающему ее. Первый голос начальственный, второй – быстрый, услужливый голос филёра. Впредь мы все время будем слышать этот жандармский комментарий, изменятся, повышаясь, лишь ранги и звания обладателей голосов.
Второй. Это, вашество, Андрей Иванов Соколов, дворовый человек, камердин убиенного…
Первый. Усопшего.
Второй. Так точно, усопшего. Нянька его, дядька, простой человек, интереса имеет мало. Убивается день и ночь, не спит, бродит. Окромя его, погибший…
Первый. Усопший.
Второй. Так точно, усопший, имел конюха Ивана Вертюкова, повара своего и нанятого слугу Христофора, гурийца, из местных. Жили широко, открыто, стол держали дома, все вроде весело, дружно, ссор не слыхать было. Разговоры, натурально, имелись вольные…
Первый. То-то что вольные…
Пока идет этот разговор, у крыльца появляются двое военных, полковник и подполковник. Соколов встает им навстречу, девочка отходит в сторону. Один из военных изящен, подвижен, нервен, другой чуть тучноват, сед, держится, однако, довольно изысканно, статно. Обоим жарко.
Второй. Это, вашество, подполковник Пушкин, Лев Сергеевич, брат известного сочинителя, – имел много общения с усопшим…
Первый. Как похода нет – все в Пятигорск! Откуда болезней наберут!
Второй…А это полковник Голицын, командующий кавалерией на левом фланге линии. Ермоловец, вашество, шумный человек. Представлял Лермонтова к золотому оружию, приятельствовал. Перед самым, однако, дуэлем имели размолвку: по случаю устройства увеселения восьмого июля, которому душой был Лермантов…
Первый. Довеселились.
Второй (несколько робко, но не в силах удержаться). Красота была отменная, фонари, танцы, ужин накрыт в гроте Дианы, Лермантов с мадмезелью Мусиной-Пушкиной, а также…
Первый. Вот-вот, все удовольствий ищут! Дианы, понимаешь… Не части!..
Пушкин. Все плачет дядька… Плачь, старый, плачь, вся Россия заплачет, как узнает… Есть кто? Поди скажи: Голицын с Пушкиным… (Голицыну.) Говорят, не ожидали похорон таких, третий день опомниться не могут, даже у генеральши языки прикусили, оставили Мишеля грязью поливать…
Голицын (чуть оглянувшись). Ну уж, оставили! Генеральша Мерлини – мразь, о ней вся правда впереди… Ихний кружок два месяца на него шипел за насмешки да эпиграммы…
Соколов (бормочет). Как не плакать! Не уберегли… (Приглашает проходить.) Просим. Цельный день народ.
Пушкин. У нас уберегут! Если только в крепость посадят, – там, гляди, спасешься. (Смеется своей шутке.) Как спасся? – В крепость посадили. (Смеется.)
Голицын (оглядываясь). Полно, Лев Сергеич! Весь Пятигорск – жандарм на жандарме, по бульвару – на каждой скамейке голубой мундир. А один – сам видел, вот крест – «Княжну Мэри» читает.
Пушкин. Армия плачет, литература плачет, а наша курочка свое кудахчет.
Голицын (в тон). Снесу, мол, вам яичко, не золотое, а простое.
Пушкин. Вот то-то, с простым-то просто: стук, да выпил. А в золотым-то, кто его знамо, что да куда?
Голицын. Взойдем, Пушкин!
Поднимаются.
Пушкин (на ходу). Читают жандармы? Печорина? Ха!.. Но поразительно бывает, из ума не идет: Александр смерть свою загодя описал, и он тоже. Дуэль-то? В «Герое-то нашего времени»? Фатум, фатум! Я верю!..
Уходят в дом.
Соколов. Идут, идут, полон дом, а пусто, не приведи бог!
Войдем и мы за Пушкиным и Голицыным. Это «зало», здесь два окна, двери па террасу и в комнату Лермонтова; обеденный стол, ломберный, преддиванный столик и диван, накрытый ковром. Стулья, кресло. На столе известный портрет трехлетнего Лермонтова в платьице, – рамка повязана крепом, – бог весть как он сюда попал, но нам он нужен.
Зеленый свет из сада, со двора, звуки летнего жаркого дня контрастируют с сумраком и духотой комнаты, с тяжестью разговора.
В комнате сидят, стоят, ходят кроме вошедших сюда Пушкина и Голицына следующие лица: Алексей Столыпин-Монго (25 лет) в домашнем сюртуке и черном распущенном галстуке; Сергей Трубецкой (26 лет) в расстегнутом кавалерийском армейском мундире, – несколько месяцев назад он был ранен в горло, и ему трудно говорить и поворачивать голову; крепко пьяный и злой Р у ф и н Дорохов в белой рубахе; и юнкер Константин Бенкендорф (22 лет).
На столах бутылки, бокалы, остатки закуски, раскрытые книги, подсвечники с оплывшими свечами, шахматы. Где валяется сабля, где фуражка. Почти все курят – Столыпин из предлинного чубука. Голицын, сняв фуражку, уже сидит в кресле, Пушкин разводит вино водою и глядит на портрет, который прямо перед ним на столе.
Дорохов (перед диваном). Будто сейчас только здесь сидел, смеялся, я ему еще говорю: «Больно ты весел, Миша! К чему бы?»… (Навзрыд.) Эх, Миша, Миша!
Пауза.
Бенкендорф. А мы скакали с ним последний раз, оп на своем Черкесе далеко вперед ушел, а потом…
Столыпин. Оставьте вы, господа! Ей-богу!..
Пушкин (перед портретом). Просто девочка, дитя. Вот генеральше бы Мерлинп снести, показать, она все твердит, что на нем врожденное злодейство отпечатано было…
Трубецкой (мрачно, медленно). Или не притихли сплетни? Я слышу, опять вальс Авроры на бульваре играют, у Найтаки в ресторации шумят, англичанин Генри Мильс банк мечет, – жизнь кипит, как нарзан, как ни в чем не бывало.
Столыпин (горько). А что! Что не кипеть! Кому дело!
Всем жарко, а Столыпин как бы в ознобе.
Бенкендорф. «Очарователен кавказский наш Монако! Танцоров, игроков, бретеров в нем толпы: в нем лихорадят нас вино, игра и драка. И жгут днем женщины, а по ночам – клопы».
Пауза. Никто не смеется.
Второй жандармский голос (шепотом). Юнкер Бенкендорф. (Успокоительно.) Нет-с, однофамилец. Вольнодум.
Трубецкой. Проклятый город!
Голицын. У Верзилиных все траур, не принимают.
Пушкин. Врут!
Столыпин. Ну, они-то при чем? (Дрожит.)
Пушкин. Как же! У них ссора-то случилась! Там испугу больше, чем трауру. Унтилов, следователь, снимал, говорят, с них показания, так Марья Иванна ответила, что вообще ничего не знает и ссоры не слыхала, а Эмилия будто бы показывает, что один Лермонтов во всем виноват. Дура подлая!
Столыпин (усмехаясь). La rose de Caucase![1]1
Роза Кавказа (франц.).
[Закрыть] He подлей всех иных.
Трубецкой, Мишель теперь всегда будет виноват.
Столыпин. Бросьте! Им еще спасибо сказать! Принимали два месяца нас, грешных, да Мишеля с его-то репутацией!
Бенкендорф. Отцы дочерям Печорина читать не велят, мужья – женам. Барков второй!
Трубецкой. Читать! А слушать прилично?
Голицын. Но Эмилия же будто сказала, что когда выговаривала Лермонтову, что тот Мартынова за кинжал дразнит, то Лермонтов будто посмеялся только: не беда, мол, завтра помиримся.
Дорохов (надрыв опять). Смирилися!.. Эх, Миша, чистая душа!..
Столыпин. Так и было, я знаю. Не кричи, Дорохов!
Дорохов (хромает по комнате). Одного не пойму, одного: как не схватили подлеца! Как не убили на месте, не вызвали, не растерзали! Вы, князь! И ты, Монго! Эх!.. Секунданты! Друзья изнаилучшие! (Берет саблю Лермонтова.)
Голицын. Тише, Дорохов! Они и без того на волоске. Будто не знаешь! Не дай бог, дойдет до государя, что они тоже там были… Васильчикова папа вытащит, Глебову по младости сойдет, а им?…
Трубецкой. Да уж! Нас по головке не погладят.
Столыпин. Как назло! Еще два-три месяца – я в отставке! И – «прощай, немытая Россия»! Бонжур, Пари!
Дорохов ало глядит на ближайших друзей Лермонтова.
Трубецкой (горько усмехаясь). Да, Мишель, как всегда, думал, главное, о себе.
Дорохов, с саблей Лермонтова, рычит.
Ну-ну, Руфин Иваныч, не заруби невзначай…
Столыпин. Пойди усни, Дорохов, какую ночь не спишь!.. И оставь саблю Мишеля!
Дорохов. Я не усну! Никогда теперь не усну!.. Погиб поэт!.. К чему теперь рыданья… и похвалы… пустые похвалы…
Бенкендорф. Пустых похвал ненужный хор.
Дорохов. Да, так, юнкер! Давай! Пустых! Правильно… Ну!..
Бенкендорф. И жалкий денет оправданья.
Дорохов. Вот! Жалкий! лепет! оправданья! (Пьет и разбивает бокал.)
Второй жандармский голос. Как похоронили, третий день вот так, вашество. То молчат, то таково наберут, не приведи бог! Ушам стыдно. В рубахе – это Дорохов, на весь Кавказ забияка, известное лицо, сам четырнадцать дуэлев имел, в рядовые дважды разжалован, казак, бретер, из одного котла с солдатами хлебает. В этот круг сроду бы ходу не имел, да Лермантов приятельствовал ему, – в прошлом годе, как воевали вместе в отряде его превосходительства генерала Галафеева, да как Дорохова поранило, – вон и по сей хром, – то Дорохов Лермонтову свою сотню охотников под команду сдал, – тот, убиенный-то, сказывают, в деле бедовый был офицер…
Первый. Ладно. Не части, сказал! Все они бедовые. Друг в дружку палить!..
Голицын достает из сюртука бумагу.
Второй. Голицыну бумажку передал лекарь пятигорского госпиталя Иван Егорыч Барклай де Толли. Человек сам тихий, но в недавности замечен также примкнувшим к Лермонтову, как обожатель его сочинений.
Первый. Почему Барклай на дуэль не поехал? Почему вообще картель без врача был?
Второй. Не могу знать, вашество. По нашему уму, дуэль шутейный составлялся, никак не мог у нас дуэль быть. А тот – возьми да и убей!
Первый. Убей, убей! Правила соблюдай, так и виноват не будешь!..
Голицын. Спасибо, вот доктор скопировал. Дуэль есть дуэль, noblesse oblige,[2]2
Положение обязывает (франц.).
[Закрыть] тут виноватить некого, еще не такие люди под дуло ставали. Но тут вопрос, как обстояло-то на самом поединке…
Дорохов. Вот! Вот оно! Почему, я спраши…
Все. Да погоди, Дорохов!
– Руфин, уймись!
– Тише!
Пушкин (Голицыну). Читай.
Голицын (читает). «При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра… (останавливается и показывает, куда и как попала и шла пуля), при срастании ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны (опять повторяет и показывает) и при выходе прорезала мягкие части левого плеча; от которой раны поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка помер…».
Столыпин (показав точнее). Вот здесь. (На себе.) Вот так.
Тяжелая пауза.
Трубецкой. Мы подбежали, а он уж и слова не мог, глаза стиснул.
Дорохов. Еще не стиснуть! (Хватает пистолет.) Кухенрейтер на десяти шагах лошадь валит!.. Зачем тяжелые пистолеты брали? Зачем на три выстрела уговаривались?… Чтоб не первым, не вторым, так третьим положить?… Зачем доктора не взяли?… Меня зачем обманули! Уж я бы! Эх!..
Бенкендорф, Пушкин, Трубецкой бросаются к нему: «Дорохов! Дорохов!» Столыпин встал, побледнев.
…Не тронь меня! Зачем он первым? Первый стреляя? Чей вызов был? Мартышки? Что ж он противника не ждал?… Противник стрелять не стал, а он пошел? Да бахнул?… Это картель? Убийца! Подлец! А вы? Может, вы, как Печорину, и пистолет ему не зарядили?…
Столыпин (задохнувшись). Отве… отве… тишь!
Дорохов. На месте б! Тут же!..
Дорохова хватают и выволакивают со словами: «Облить его! Водой! Да тише ты!»
Голицын. Эк его! Кругом уши да глаза, а он на весь город!.. Ну-ну, Столыпин, не принимайте близко к сердцу.
Дает Столыпину вина. У того стучат зубы.
Пауза.
Столыпин. Это правда, комендант приказ дал: офицерам Пятигорск покинуть и в части следовать?
Голицын. Так и есть. Многие уж и поехали. Вы-то, между нами, что медлите? Ему уж не помочь, а сами… (Тише.) Есть слух, Васильчиков и Глебов из-под ареста Мартынову бумагу послали, как стряпчему отвечать. Чтоб расхождения в ответах не случилось. И будто Унтилов особо пытает: как ехали? Потому, мол, если секунданты в одних дрожках сидели, то походит на заговор… Мартынов каждый день из-под гражданского следствия просится, чтобы в военный суд дело отдали, там у него легче пойдет…
Столыпин (усмехаясь горько). Отставной майор Мартынов просится под военный суд? Нда. Я все думаю, Владимир Сергеевич: не пойти ли к коменданту? Что теперь таиться? Пусть, как хотят…
Голицын. Тем, что себя погубишь, его, говорю, не вернешь. Сами знаете, у них обойдется. А вам к чему? Езжайте себе, хлопочите отставку. Офицер убил офицера, эка невидаль! Да где! У нас, на Кавказе, когда всякую минуту под богом ходим! Да еще офицера опального…
Столыпин усмехается.
…Нет, я-то понимаю, Мишель не простой офицер, – уж слава богу! – но официально-то так пойдет…
Столыпин (вдруг, думая о своем). Катрин Быховец, помните? Давеча-то?
Голицын. Да-да, это прям по сердцу было. Только девочка так могла… Открыто кричала, так плакала!..
Столыпин (опять горько). И что его царь не любил, и великий князь не любил, и что жить было неохота. Вот девочке-то можно закричать.
Пауза.
…Он с ней провел последние часы-то. Она, между нами, другую ему напоминала собою, – которую он весь век свой… любил… Мы у него в кармане ее, Катин, золотой бандо с головы нашли, обруч, на нем кровь запеклась… Вот она и кричала…
Голицын. О господи, господи!.. Так и стоит перед глазами!..
Пауза.
Столыпин. Совесть замучила. Надо бы пойти! Глебов мальчик и прост, а Васильчиков хитер, к тому ж карьеру ему губить нельзя…
Голицын. Очернят?…
Столыпин. Сколь надо будет, чтоб Мартына укрыть… (Быстро.) Показывает-то теперь одна сторона, другой совсем нет… Мы с Сержем скрылись, Лермонтов не скажет… И в дрожках мартыновских, правильно, Васильчиков с Глебовым ехали…
Голицын вскидывает глаза: мол, вон как!
…Ради чести его надо бы пойти! А, Владимир Сергеевич?…
Второй жандармский голос. Алексей Аркадьев Столыпин, прозванный Монго, ближайший друг и товарищ, двоюродный дядя… Есть подозрение, вашество, поскольку имел быть секундантом еще в Петербурге при поединке Лермонтова с французом Барантом, за что Лермантов-то и отряжон в армию на Кавказ, то и тут миновать дуэля не мог… Столыпин, стало-ть. Но по начальству, подобно секундантам корнету Глебову и чиновнику князю Васильчикову, не явился.
Первый. Мысля! А Глебов, значит, показывает: он на мартыновской стороне был, а Васильчиков на энтой?
Второй. Так точно.
Первый. Врут.
Второй. Врут, вашество.
Трубецкой (возвращаясь). Искупали Дорохова! Хотели на сене спать уложить, да где там!
Пауза.
Вы о чем?
Ему не отвечают.
Жарко!.. Иваныч! А Иваныч! Скажи похолодней вина дать! Да льду, ежели есть!.. Скорей бы вон из Пятигорска, сил нет!.. Все вижу, как выходит вон там (показывает на дверь), Шуберта напевает, свеча в руке…
Первый. Тут оно простое, рассужденье-то: Столыпин каторги боится. Ему вот-вот отставка выйдет, он графиню свою в охапку, да за границу. А попадется, уж ему государь не простит, и так хватит – прощалося. Да и великому князю Михаилу Палычу надоели, не зря он их из гвардии-то пихнул… И чего надо людям! Все имеют, во дворце с царскими дочерями на балах пляшут, – так нет, все не по им! Все недовольные!..
Второй. Истинная правда, вашество. Также касаемо и Сергея Васильева Трубецкого: тоже по всему выходит: миновать дуэля не мог, а с повинной не идет. А потому, что в Пятигорске живет тайно, отпуска из части не имеет.
Первый. Этот-то подавно! Этого-то красавца (понижает голос) сам государь-батюшка за руку поймал, да на фрейлине женил – фрейлину князек обрюхатил…
Второй. Да ну!
Первый. А он вместо притихнуть, исправиться – пожил, пожил, да от царевой невесты-то бежал! Каково свату?
Второй. Батюшки!
Первый. Отцов только позорют! Отцы Бонапарту одолели, Европу от заразы спасли, тайную крамолу вывели, а они… Этот-то, Трубецкой, в самых сливках ходил, в красных кавалергардах, со Скарятиными, Куракиными, Урусовыми!..
Второй. Ох батюшки!
Первый. А теперь кто? Армеец, головой вон еле ворочает, от чеченской пули, идеи расписывает, как студентик какой! Не служба на уме, а черт знает что!..
Второй. Истинная правда, вашество, истинная правда…
Первый. Все честь, честь! А нашкодили и сказать боятся, как детишки! Потому небось и того, Мартынова, не тронули… У мужиков и то чище: коли ты товарища ссадил, то и я тебя, ни на что не погляжу!.. Эх, благородные!..
Второй. Истинно так, вашество…
Входит Андрей Соколов с подносом и вином. Плачет.
Соколов (Столыпину). А тогда-то на станции, помнишь, батюшка, монету бросали: сюда ехать или на линию? Он еще так и запрыгал: в Пятигорск! в Пятигорск!.. А упади орлом-то монета, в отряд бы ушли… Господи, как не уберегли-то!..
Столыпин. Помню, старый, помню. Я все помню.
Возвращается Пушкин.
Судьба!.. С монетой – это доподлинно. Но еще было иное. (Трубецкому.) Помнишь, Сергей? Он рассказывал? Как из Петербурга ехать последний раз, он шутя на Пять углов ходил, к ворожее…
Пушкин. Ну? К Александру Македонскому? (Всем.) В Питере все ее так зовут: Александр Македонский! Между нами, брат-то к ней тоже ходил, это она брату предсказала: погибнешь, мол, от «белого человека».
Голицын. Ворожея? Пушкину? Я не слыхал.
Пушкин. Вот те крест! Погибнешь, мол, от белого человека…
Голицын. Чудо1 И Пушкин и Лермонтов к одной вещунье ходили!..
Столыпин (все так же горько). Ну вот, и Мишелю наворожила: в Петербурге, мол, тебе больше не бывать, а отставка ждет такая, – он ведь все отставку хлопотал, – после какой и просить будет нечего…
Голицын. Экая ведьма!
Трубецкой. В сам деле. Так и сказала. Мишель смеялся, а поверил. А, Монго?… Эх, коли попаду еще в Петербург, схожу тоже. Я в судьбу верю.
Вошел Бенкендорф.
Пушкин. Что не верить. Примеров довольно. Явись теперь еще у нас поэт, тож загодя скажу ему судьбу, без ворожеи. Как чуть вышел человек надо всеми, как сказал иное, чем все, так уж и гляди за ним, хоть ставку ставь: что-то с ним сделается. Где Грибоедов? Где Пушкин? Марлинский? Где Лермонтов?
Бенкендорф (от двери). Одоевский. (Тихо.) Рылеев.
Голицын. Ну, господа, господа! Не стоит!
Трубецкой. Чаадаева безумцем объявили.
Столыпин. А к Мишелю? После «Смерти поэта» тоже старшего гвардейского медика послали: проверить, в уме ли?
Голицын. Ну полно, господа!
Пауза.
…Гении наши в простожитии тоже не мед: то одно ему в ум вскочит, то другое. Хоть о покойниках не говорят дурно, но у таланта нашего желчи-то хватало. Не дразни он Мартына изо дня в день…
Бенкендорф. Да меня пусть бы хоть ударил, неужели б я руку поднял на него!
Пушкин (Голицыну). Так и Дантеса простим, Владимир Сергеич!
Голицын. Ну, уж вы хватили, господа! Неужто сам-то ни чуточки не виноват? Эдак, по-вашему, выходит, что таланту все можно? Талант будто и не человек? В таком разе пусть и не живет как человек. Не ест, пе пьет, не женится. Только так можно избегнуть всех опасностей жизни. Да и самой жизни. Но если поэт избегнет жизни, что станется?
Трубецкой. Да что – талант, талант! Товарищ у нас погиб. Это больше таланта. Скажи, Монго?
Столыпин не отвечает.
Бенкендорф. Талант выше всего.
Пушкин. Не выше чести. Пушкин ради чести – глазом не моргнул – все на карту поставил.
Трубецкой. Судьба! Я в судьбу верю.
Голицын. Не судьба, а норов такой: в огонь кидаться! Разве не хотели его остановить? Разве не предлагали испытать мелкое это дело разумом, а не чувствами? Да где! (Пушкину.) Пушкин! Пушкин мудрее был, однако тоже не остановился, сам говоришь…
Пушкин. Мудрее? Полно!..
Бенкендорф. Да, поступи он не так, он уж был бы не Пушкин!..
Голицын. У вас выходит, коли ты талант – все позволено! Ты мне будешь в глаза плевать, а я утирайся да приговаривай: плюй, бог с тобой, ты у нас солнышко, а я – пыль…
Бенкендорф. Но коли ребенок оскорбил меня, я его не убью, не так ли?
Столыпин. Это Мишель – ребенок?
Все слегка смеются.
Бенкендорф. Нет, погодите… Я… нет… сейчас…
Голицын. Будет, юнкер! Что за наивность!..
Бенкендорф (горячо). Нет, я хотел выразить, что вопрос гуманности не решить таким путем. Всякий человек – проявление гения. Бог посылает нам великого человека, чтобы мы осознали ценность любого.
Трубецкой. Ну вот, уже и великого!
Бенкендорф (продолжает). …На этих людях, которых не заменить, не создать заново, бог учит нас любви к друг другу.
Входит Дорохов, он с мокрой головой.
Дорохов. Бог, бог! Кто тут про бога? И в бога и в черта!..
Голицын. Погоди, Дорохов, погоди! Тут юнкер проповедь читает, как таланты надо беречь. Оскорбил, скажем, тебя талант, а ты ему ручку поцелуй.
Дорохов. Талант? Да! А что? Правильно! Оберечь не грех! Коли сами себя не берегут. Вызвал Мартышка Лермонтова, потерял совесть, – убить Мартышку!
Бенкендорф. Вот!
Голицын (смеется). Ну-ну! Хватил!
Дорохов. Хватил? А если (кричит врастяжку) наемный жандарм вызвал бы? Жандарму б тоже Мишеля под Машук отвезли и на шести шагах поставили?
Все. Ты что?
– Ты что говоришь, Дорохов!
– Тише!
– Окна закройте!
– Как он смеет!
Дорохов. Пустите!.. Не видите ни черта! Других берегут, а этих не берегут… Почему? Ну-ка, картель сделай военному министру графу Чернышеву? А?
Голицын затворяет окна.
А ну-ка вызови Нессельроде! Дубельта! Или вон однофамильца нашего юнкера!..
Все. Дорохов! Дорохов! Сбесился!
Дорохов. Оберегут их? Обе-ре-гут!.. (Яростным шепотом.) А государя оберегут?… (Падает на диван.) Вина!..
Голицын. Это слишком! (Берет фуражку.)
Все ошеломлены. Бенкендорф наливает бокал, подносит Дорохову, тот выпивает залпом.
Дорохов (всхлипнув). И из-за чего? За что? За шуточки? За насмешки? За шуточки таких дуэлей не условют! А тогда условют, когда сволочь, когда сволочи… (Задыхается.) Сволочь знает, когда можно, а когда нельзя!..
Трубецкой (Столыпину). Что он говорит, Монго?
Столыпин машет рукой: оставь, мол.
Голицын. Мне пора, господа! Лев Сергеевич, а ты?
Пушкин. Иду, иду тоже… Дорохов, ну что теперь кулаками-то махать?
Голицын. И других винить! Всяк сам свою пулю ловит.
Пушкин. И на свою Черную речку спешит.
Голицын (Столыпину). Не затягивайте, съезжайте! И не мучьте себя… (Трубецкому.) И вы. Слышите? Что уж теперь!..
Пожимают руки. Столыпин кивает.
Бенкендорф. Ия откланяюсь.
Собираются и выходят.
Дорохов кусает подушку, рычит.
Второй жандармский голос. А вот, вашество, стишок мною списан, сказывают, Лермантова: «За девицей Эмили молодежь, как кобели…» (Хихикает.)
Первый. Оставь, прочту.
Пушкин, Голицын и Бенкендорф на террасе.
Пушкин (тихо). А в самом деле, кто помнит королей, при которых жил Дант? Или Шекспир? Кому известно, кто ослепил Гомера?
Голицын. Да будет! У государя и без того многотерпеливое сердце. Мог он и с Пушкиным, и с иными обойтись куда круче, но…
Пушкин. Да куда ж круче?
Голицын. Тише! Поставь-ка себя на его место: станешь ты дозволять то, что подрывает власть и вредит отечеству?
Бенкендорф. Зачем же равенство ставить между отечеством и властью? Власть разная бывает – отечество одно.
Пушкин. Складно, юнкер! Татары – тож триста лет были на Руси властью!
Бенкендорф. И что ж за вред от Пушкина отечеству?
Голицын. А ну вас! (Машет рукой и быстро идет с крыльца.)
Дорохов откинулся и вмиг уснул.
Краски заката.
Столыпин и Трубецкой.
Столыпин (по-прежнему с горькой иронией). Ну что, Сергей, видно, пора. Воду пили, ванны принимали, погуляли…
Трубецкой. Что говорить, много успели. Даж Мишку похоронить. Я поеду в полк завтра. Езжай и ты. Не думай.
Столыпин. Да. Теперь, видать, все равно… Дорохов-то! Накричался.
Пауза.
…Ах, не хотелось ему помирать! Всю жизнь про смерть разговаривал, – видно, утомил ее.
Трубецкой. Судьба. Случай.
Столыпин. Случай-то случай, да только он его десять лет стерег. Пренебрежение к пошлости отличает всякого умного человека, но он доводил его до абсурда, до невозможности. Вот пошлость и отплатила.
Трубецкой. Тоже хочешь сказать: сам виноват?
Столыпин пожимает плечами.
…Да, сами мы в себе виноваты… Столыпин. Ах, как надоело все!.. Тоска, Серж!..
Входит Соколов.
Соколов. Обедать-то станете, Алексей Аркадьич?
Столыпин. Что?… Нет, не буду. (Трубецкому.) Ты не хочешь? (Тот отказывается.) Ты вели собираться, старый. Бумаг только его не трогай, я сам приберу.
Соколов. И то надо, батюшка, все растаскают: дамы кто листок унесет, кто пуговку, и этого не убережем… Этой барышне снурочек от крестика нательного отказали…
Трубецкой. Это ты Кате? Вместо ее бандо?
Столыпин кивает.
Соколов. Как барыне-матушке-то все свезем, как покажем? Как же ты, скажет, Андрюшка окаянный, не уберег барина, как упустил?… Да как же, скажу, матушка, ходил, пил, ел, а наш-то его все: Мартыш, Мартыш!.. Кабы знал я, матушка,… Вот тебе и Мартыш!.. (Уходит.)
Трубецкой. Мартыш!.. Он все в остроге?
Столыпин. Не знаю. Какая разница, он сделал свое дело… А мы… Мы и теперь защитить его не можем. (Подходит и снимает со стола портрет.) Прости, Миша…
Трубецкой. Опять бежать! Ну, судьба!..