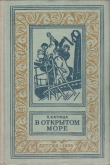Текст книги "Моя академия. Ленинград, ВМА им. С.М.Кирова, 1950-1956 гг."
Автор книги: Михаил Кириллов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
В художественной самодеятельности курса участвовала Катя Волкова – жена нашего слушателя, Юры Волкова. Полное имя ее – Екатерина Демьяновна. Она великолепно танцевала, а главное – была очень чистым и добрым человеком.
За общежитием располагался академический стадион: футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка. Стадион был окружен высоким забором из проволоки. С начала весны он стал использоваться интенсивно. Были свои рекордсмены: травматологи Ткаченко, Фаршатов, слушатели Бабияк (наш), Фелицын (наш), Камалов (наш). Это все – по бегу и прыжкам. Я был здесь середнячок.
Как-то меня окружили ребята и стали упрашивать выступить в соревнованиях со слушателями 2-го курса по боксу. Оказывается, я был единственным на курсе, имевшим вес «пуха». Действительно, я весил 53 кг (сейчас 88…). Секрет был прост: если я не соглашусь, нам запишут «очко». Пришлось уступить. Стали тренироваться в Ленинской комнате, вынеся оттуда мебель. Учили, как держать руки в перчатках, как отскакивать и увертываться, как нападать. Никогда раньше я не боксировал. Выяснилось, что против меня будет выступать в таком же весе тренер всей команды наших противников. Уж он-то знал, как нападать. Решили не отказываться. И вот, в мае. в Окружном спортзале (недалеко от института им. Плеханова) состоялись бои. Первой была моя весовая категория.
Вокруг площадки расположились немногочисленные зрители (с обеих курсов), высоко над головой уныло горела одинокая лампочка, замызганная при побелке. По команде я вышел на ринг. Сблизились с противником. Он был маленький и юркий. Страшно не было и больно тоже. Он методично бил меня в нос, а я только уклонялся. Мои перчатки иногда ударялись о его перчатки, но большего мне добиться не удавалось. Казалось, что его руки были длиннее. Когда объявили перерыв, я, сидя на стуле в своем углу, заметил, что мои перчатки были, словно лаком, покрыты кровью и что майка тоже была в крови. Мне обтерли лицо, вытерли перчатки и выпустили на ринг. Второй раунд был таким же. Он мог бить где угодно, но бил только в нос. Поскольку я держался хорошо, как мне казалось, бой был продолжен и в третьем раунде. К его концу я неожиданно мягко опустился на мат. Мне стало так легко. Лежал бы и лежал. Я что-то видел, но ничего не слышал. Не слышал криков зрителей, но слышал, что, стоя над моей головой, судья ведет счет. Я сообразил, что был в нокдауне и медленно поднялся. Я недоумевал, почему судья продолжает счет, ведь я уже стоял. Тут я услышал, что все кричат: «К бою! Руки подними!» Я поднял руки, и бой продолжился. Но еще через полминуты он был остановлен ввиду явного преимущества моего соперника, прозвучали аплодисменты, но к кому они относились, я не понял. Пошли к умывальнику. Вымыли мои лицо и грудь. Остановили кровотечение из носа, постирали майку и, поскольку другой не было, ее же, выжатую, и одели. В автобусе наши меня подбадривали и даже хвалили, так, как будто бы что-то я все же успел сделать. А вечером на ужине весь второй курс, стоя, выпил в мою честь по стакану компота: за храбрость.
Через месяц мне была вручена почетная грамота от имени Начальника Академии за второе место в легчайшей категории. Больше я в бокс не играл.
Много времени стало требовать изучение химии. Сначала неорганическая (Фома Рачинский, очень популярный профессор), затем органическая, физколлоидная (профессор Низовцев), и через год предстояла биологическая химия (профессор Г.Е.Владимиров). Этого требовало последующее изучение патологических процессов в организме человека и понимание лекарств. Преподаватели были замечательные. На стене химического корпуса, выходившего на Неву, висела доска, посвященная профессору-химику и, одновременно, композитору – Бородину, написавшему музыку к опере «Князь Игорь». Это было в конце 19-го века. Я узнал об этом впервые.
Старшиной курса стал майор медицинской службы Мироненко Георгий Семенович, фронтовик, грамотный, интеллигентный человек. Он оставался старшиной до конца нашего обучения.
Экзамены в весеннюю сессию прошли успешно. Впереди предстояли лагерные сборы. Они традиционно проводилось в Красном Селе.
И вот, в начале июля, весь курс на электричках выехал в Красное Село. Там, на возвышенности размещался лагерь: стояли развернутые в линию лагерные палатки с койками, имелись стационарная столовая, склады, душевые, медпункт. После размещения пришлось по графику стоять под грибком в качестве дежурного. За лагерем стоял лес, на его окраине возвышался памятный камень курсантам военных учебных заведений Петербурга, проходившим здесь подготовку еще в 19-м веке, поставленный самими курсантами, а через глубокую долину, по дну которой бежали электрички, располагался сам город Красное Село. На западе от лагеря высилась гора Воронья, с которой немцы в войну свободно рассматривали дворцы Ленинграда. Это была стратегически важная высота. Здесь шли упорные бои. Красное Село было захвачено.
20 июля я сбегал в город и послал телеграмму сестре Любе с поздравлениями – ей исполнился 21 год.
Лагерный цикл продолжался дней 20 и включал полевые занятия, различные построения и перемещения, ночную игру с хождением по азимуту и учебную тревогу с получением оружия и маршем через Красное Село далеко за город с последующим возвращением.
Тревогу объявили часов в 5 утра. Мы, молодые, воспринимая все всерьез, дружно бросились к оружейному складу за получением винтовок. Затем строем, с винтовками за плечами, двинулись в сторону Красного Села. Пока было по-утреннему свежо, идти было относительно легко. Но через час мы уже тащились, а не шли. А старослужащие, предвидя, что винтовок всем не хватит, получать их не спешили и теперь шли налегке. Винтовки были очень тяжелыми. Еще через час стало жарко, июльское солнце палило. Мы покрылись потом, он выступал на гимнастерках, щипал глаза. Болели ноги, наверняка возникли потертости. Но, когда подходили к лагерю, за километр, колонна подтянулась, построилась и затянула песню «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами в поле лагерем стоять». Чего нам это стоило! Но мы не подкачали. Когда пришли в лагерь и уже в палатках сняли сапоги, увидели пузыри на стопах и голенях. Босиком, хромая, потащились в медпункт, где нам была проведена первичная хирургическая обработка. В последствии дня три мы считались больными и приходили на перевязки. Вот какой оказалась цена наивного патриотизма. Когда я Юрку Филимонова упрекнул, что он, комсомолец, оказался в числе сачков, он ответил мне: «Моралист-скотина!». Но это осталось на его совести. В общем, я не жалею, что помучился на марше. Хотя бы потому, что поумнел.
В свободное время, особенно в жару, спускались к полотну железной дороги, к пруду. Помню, слушатель Шустов нырнул в пруд «рыбкой» с разбега и сильно ударился головой о каменистое дно. Лежал несколько дней с сотрясением мозга в лазарете лагеря.
В конце лагерного сбора курс построили возле кургана, возвышавшегося посреди поля и именуемого курганом Каткова. Полковник Катков, старший преподаватель кафедры тактики, был высокого роста, с могучей фигурой. Стоя на кургане в плащ-накидке, он напоминал статую Командора. Это впечатляло. По случаю окончания сборов в лагерь приехал и генерал-майор Н.А. Кичаев, заместитель начальника академии по строевой части. Одна нога у него была в протезе. До войны, в Туркестане, он, командуя кавалерийской дивизией, в учебном бою повредил ногу, которую позже ампутировали. Но он остался на службе, хотя на фронт уже не попал. Он поблагодарил курс за успешное проведение лагерного сбора и пожелал всем отдохнуть в предстоящем отпуске.
Отпуск я провел в Евпатории. Собрались все Кирилловы, в том числе из Москвы. Приехал и Анатолий Прокофьев, один из уже знакомых мне заводских родичей, сумев, бедолага, перед этим перепутать время убытия поезда из Ленинграда с утреннего на вечернее. Из-за этого потратился и жил у нас весь отпуск без денег даже на курево, зато все время был трезвым как стеклышко.
Море, абрикосы навалом, помидоры, арбузы, дыни и общение – все это нам подарила Евпатория.
При возвращении в Ленинград в конце августа на перроне ленинградского вокзала Москвы меня провожали мои друзья Аля Скобелева и Борис Рабинович.
Второй учебный год /1951/1952/
В сентябре к нам пришла приятная новость: нам, слушателям, не имевшим офицерских званий, присвоили звание младшего лейтенанта медицинской службы. Радости было много: мы получали жалование и право жить не в общежитии, а в городе.
Так, в 18 лет я стал офицером! (Знал бы я тогда, что мне осталось прослужить еще всего 41 год).
Вторая новость была в том, что наш курс переезжал с улицы Боткинской на первый этаж здания по проспекту Карла Маркса. Рядом с ним размещался Военно-медицинский музей (сейчас на этом месте – гостиница «Ленинград (С-Петербург)». Вход был с ул. Клинической. Комната нашей группы размещалась таким образом, что из нее была видна Аврора. Пока было тепло, можно было влезть в комнату через окно. В крайних случаях так и делалось.
Часть слушателей – женатых или имевших родственников в городе – из общежития ушли. Среди них был и Яша Могилевский, отец двух детей.
Клиническая улица была улицей особенной, на нее выходили несколько клиник: акушерства и гинекологии, ЛОР, стоматологии, а через двор – несколько хирургических, кожная и глазная клиники, приемный покой, Фундаментальная библиотека, а также кафедра физкультуры, клуб и столовая. Улица была вымощена деревянными вертикальными брусками, вбитыми каждый в землю на полметра вглубь. В дождь проезжая деревянная часть улицы поглощала лужи. Колесный и современный транспорт по такой мостовой ехал бесшумно, что способствовало охранительному режиму в ведении больных. Это была внутренняя улица академии.
В начале семестра пришлось познакомиться с Учебным отделом Фундаментальной библиотеки. Дело обычное: получали учебники. Но здесь работала удивительная библиотекарь – Валя, так ее все звали, а ее знали в Академии все. Увидев однажды читателя, она не только помнила его и книги, которые он взял, но и все, что касалось его, и безошибочно узнавала при новых встречах в библиотеке или на улице.
На площадке второго этажа библиотеки на постаментах стояли памятники ученым Академии, работавшим здесь в 19-м веке, в том числе Н.И.Пирогову, П. Загорскому и знаменитому анатому Буйяльскому. Медь памятников от прикосновений рук за сотню лет посветлела. Я постучал по одному из монолитов. К моему удивлению, в нем обнаружилась пустота. В других – то же. Это было открытие. Конечно, так и должно было быть, но казались – то они монолитами. Эта иллюзия возникала от внешней значительности памятников. Я уже знал, что такая же иллюзия иногда возникает при знакомстве с некоторыми людьми. Внушительные на вид, они на проверку оказываются пустышками.
Главным в семестре по прежнему оставалась анатомия. Практические занятия во все большей мере утрачивали механический характер, основанный только на запоминании. Но подготовка к занятиям требовала много времени.
Начались лекции по фармакологии. Читал их генерал маленького роста, рыженький и оттого похожий на солнышко. Его и звали – «эритроцит». На одной из лекций он вошел в аудиторию и торжественно произнес: «Блажен, кто поутру имеет стул без принужденья, тому и пища по нутру и все доступны наслажденья». Это была лекция о слабительных средствах.
Интересными были лекции и занятия по нормальной физиологии. Кафедра была тесно связана с деятельностью академика И.П.Павлова, умершего еще до войны. В ее аудитории лекции читали сначала проф. Лебединский (прямой ученик Павлова), а позже – проф. М.П. Бресткин. Оба были генералы м/с. Но люди они были совершенно разными: первый был аристократ, обладал изящной речью, второй был суетлив и выглядел, несмотря на генеральскую форму, как прапорщик. Правда, он умело проводил показательные вивисекции под наркозом на аудиторном столе. Он как бы извинялся за то, что носил генеральский мундир. Он не был виноват в смещении проф. Лебединского. Время было такое.
Раннее послевоенное время было насыщено переменами. Развернулась борьба идей в различных сферах жизни, в том числе в медицине и биологии. В 1948 году прошла памятная сессия ВАСХНИЛ АН СССР, на которой были подвергнуты разгрому виднейшие представители советской генетики довоенного времени (Н.И.Вавилов) и их последователи. Их обвиняли в бесполезности их деятельности для народного хозяйства, находившегося в трудном положении, в космополитизме, в буржуазном перерождении и т. п. Предавались анафеме даже их книги.
Это коснулось и ВМА. Наветы шли от академика Лысенко и его учеников, поддерживаемых ЦК партии. В результате по идеологическим мотивам были отлучены от активной деятельности видные ученые, в частности уже упоминавшийся нами начальник кафедры гистологии Н.Г.Хлопин. (Мы знали, что он ходит на работу уже лишенный права педагогической и научной деятельности). Слушатели, инстинктивно понимали, что этот человек страдает, при появлении его почтительно замолкали, как если бы нам было за что-то стыдно. Служители и преподаватели кафедры говорили о нем как о совершенно бескорыстном и преданном делу ученом.
Эта волна обрушилась и на физиологическую школу. Насаждение кортико-висцеральной теории смело существовавшую академическую школу физиологов, в недрах которой шло творческое развитие идей И.П.Павлова. Видные ученые были вынуждены оставить свои лаборатории и кафедры, их не выслушивали, с ними не считались. Среди них были Орбели, Лебединский, Гинецинский и другие.
Нам приказывали работать в фондах библиотеки и вымарывать тушью фамилии неугодных ученых в учебниках и монографиях. Так ученых казнили, хорошо хоть не сжигали их книги. Это мы сейчас так думаем, а тогда мы полагали, что распоряжение Политотдела было правильным.
В ту пору мы, слушатели Академии, многого не понимали в происходящем, как не понимали, почему, например, такое большое значение в прессе и на радио придавалось тогда работе И.В.Сталина «Марксизм и языкознание», книге, несомненно, написанной им самим, но не имевшей большого политического значения. Думаю, что об этом ажиотаже, устроенном идеологическим аппаратом партии, не знал и сам тов. Сталин.
Тогда особенно упорно отстаивалось все отечественное в науке. Возможно, эта борьба с «западничеством» была упрощением и извращением правильного тезиса о значении победы советского народа над фашизмом, его роли в освобождении Европы, о превосходстве социалистической системы, тезиса, который сам по себе ни в каком подтверждении не нуждался.
Ученые страдали, полезные направления в науке отбрасывались на десятки лет. На смену этим ученым приходила посредственность, не лишенная хватки и практической результативности, но так ничем и не прославившая науку.
Но не все мирились с этим положением. Известный физиолог, уволенный из АМН, Гинецинский вынужден был устроиться в какой-то экспедиции на Белом море и там, экспериментируя на рыбах и медузах, увлеченно исследовал механизмы нарушений водно-солевого обмена. Впоследствии он издал великолепную монографию по этому вопросу.
И всё же мелкие людишки, случайные карьеры были редкостью. Их вытесняла традиция служения делу.
В начале 50-х годов по Ленинграду прокатилась волна преследований среди партийных работников и руководителей учреждений и предприятий: началось так называемое «ленинградское дело», якобы связанное с заговором ленинградского руководства против центрального советского правительства. Именно так было истолковано стремление к большей самостоятельности Ленинграда в структуре государственной власти, хотя это и соответствовало действительному росту значения северной столицы.
Люди тогда не очень понимали смысл происходящего. К тому же все осуществлялось секретно. Полетели головы, были расстреляны виднейшие коммунисты, руководившие обороной блокадного города, в том числе тов. Кузнецов и Попков. Сотни были посажены или уволены. Помню, один из слушателей был исключен из Академии только за то, что отказался развестись со своей женой, отец которой был объявлен «врагом народа».
Это сейчас я все понимаю. А тогда все происходило как будто где-то и нас практически не касалось.
На смену нашему первому начальнику курса пришел другой – полковник Дробышевский, человек интеллигентный, тоже фронтовик.
А обычная жизнь шла. Как-то один из сокурсников попросил меня встретиться с его девушкой, студенткой Университета, и попытаться уговорить ее отказаться от чрезмерной привязанности к нему. Просьба была, согласитесь, очень деликатная. Почему он попросил об этом именно меня, я не знал, мы не были близкими друзьями. Но надо было выручать парня.
Я пришел к указанному месту их свидания. Это был садик возле домика Петра на Петровской набережной. Посетителей там было мало, и я быстро нашел эту девушку. Она, конечно, удивилась, что вместо ее возлюбленного пришел другой младший лейтенант медицинской службы. Познакомились, и я объяснил, почему С. не смог придти. Когда она успокоилась, я сказал ей, что у него сейчас трудный период – и в учебе, и в семье. И в отношении их дружбы у него немало сомнений, поэтому он просит о некоторой передышке: ему нужно подумать о многом для их же пользы. Говорил я спокойно, выслушивал ее, успокаивал, когда она начинала плакать. Сказал, что С. не очень надежный человек и что она, возможно, заслуживает лучшего. Мне стало как-то обидно за нее, она была такая славная, что даже начинала нравиться мне. Она была студенткой 2-го курса географического факультета Университета. У нас нашлись даже общие знакомые. Постепенно она успокоилась, и, пообщавшись, около часа, мы уже расстались друзьями. На следующий день я обо всем рассказал С., сделав вывод о том, что он вряд ли достоин ее, упомянув и о своей симпатии к ней. Позже они помирились и спустя какое-то время поженились. Я случайно встретил их вместе у метро «Владимирская» спустя 15 лет. Оба они жили и работали на Камчатке и были счастливы.
На кафедре анатомии прямо в большом коридоре были выставлены экспонаты из коллекции Н.И.Пирогова, представлявшие собой заспиртованные тела младенцев, имевшие те или иные пороки развития мозга или внутренних органов. Хотя прошли уже более 100 лет, эти материалы хорошо сохранились. Демонстрировали нам и атлас Пирогова, содержащий изображения срезов тканей и органов человеческого тела, выполненные им лично с учетом всех правил топографии. В свое время это было новаторством в анатомии. Целый класс был занят шкафами, в которых хранились черепа раненых с той или иной черепно-мозговой травмой, полученной в боевых условиях (Крымская и Балканские войны).
Много сил требовало освоение латинского языка, но это было нужно, по-крайней мере, при изучении анатомии. Посещали занятия и по французскому языку. Преподаватели были отличные (Щёголев, Сидорова). Особенно нам удавалось утреннее приветствие («Лё камарад профессор! Лё групп нюмеро труа э презант о компле!»). Произнося его, я поражаю собеседников знанием французского и спустя 50 лет!
Наше развитие продолжалось не только в профессиональной области. Как-то в октябре, проходя по ул. Лебедева, я поднял письмо, без конверта, сложенное пополам, валявшееся у водостока. Письмо было написано синими чернилами крупным почерком. Уже первые строки заинтриговали меня. Писала женщина. Она обращалась к любимому мужчине с мольбой не оставлять ее. Каждая строчка письма буквально горела страстью, нежностью, отчаянием. Ее не оставляла надежда, и она не хотела прощаться. Женщина переживала трагедию. Мне все это было незнакомо, любовь превратилась в крик о помощи.
Делать было нечего. Повидимому, тот, кто письмо получил, не пожелал его сохранить. Письмо меня потрясло живым чувством. Я посоветовался с моей двоюродной сестрой Люсей, которая жила в Ленинграде, училась уже на 4-м курсе педиатрического института и готовилась стать детским психиатром. Она объяснила состояние этой женщины как адекватное ее чувству, делающему ей честь. Можно было думать, что адресат не достоин такой любви. Так бывает. «Бурное чувство обычно долгим не бывает», – сказала она. «Придет освобождение, полученный урок научит. Так что, может быть, все будет даже к лучшему». Чужие уроки тоже учат.
Часть слушателей, у которых появились деньги и свободное время, стали охотно знакомиться с женщинами свободного поведения, «ночными бабочками», как я их называл. Они возвращались в общежитие поздно, подвыпившие. Потом хвалились успехами и приобретенными навыками. Особенно славился Дом офицеров, у входа в который вечерами собирались десятки проституток.
Многие зачастили в различные институты, на танцы, не вылезали из кафе, подыскивая себе невест.
Однажды я был свидетель, как гардеробщица в нашей столовой, уже старая и больная женщина, громко и негодующе отчитывала одного из таких «ходоков», рекомендуя ему и таким, как он, прочесть «Крейцерову сонату» Льва Толстого. Когда-то я читал это произведение. Что-то о ревности и измене. Решил, что надо перечитать. Но бросилось в глаза другое: старая гардеробщица была на голову образованнее и воспитаннее нас, «академиков».
Анна Гавриловна, Лиза и я съездили на Ржевку, на Полигон. Там жили Александр Григорьевич Новоженин c женой тетей Аней. В тех местах до войны жило большое семейство Кирилловых. На Ржевке, на Пороховых, на артиллерийском полигоне. Жила там и Елизавета Григорьевна Кириллова, родная сестра моего деда. Судьба у Кирилловых сложилась по-разному. Большинство в блокаду умерли с голоду. Выжили немногие. Елизавета в 20-е годы молодой девушкой вышла замуж за вдовца – мичмана еще царского флота Григория Новоженина. У того от первого брака была дочь – Татьяна, оказавшаяся ровесницей новой жене отца. Елизавета родила мужу двух сыновей: Павла и Александра. В 30-х годах и она, и муж ее умерли. У Татьяны и Александра детей не было, а у Павла Григорьевича и его жены Анны Гавриловны в 1931 году родилась дочь Лиза. Мой отец дружил со своим двоюродным братом Павлом и с Татьяной. В 1942 г. дядя Павел погиб на Карельском фронте.
Татьяна Григорьевна своей семьи не имела и жила с Анной Гавриловной и Лизой. Она десятки лет, в том числе в течение всей блокады, работала старшей хирургической сестрой Куйбышевской больницы на Литейном. После войны она была награждена орденом Ленина. Продолжала тетя Таня трудиться и в те дни, о которых я повествую в этой книге. Я думаю, что к ней вполне применимо уже знакомое читателю звание «служитель», которое характеризовало ленинградцев того времени.
Дядя Саша Новоженин был моряк, капитан второго ранга. Воевал. Остался жив. Работал на Полигоне. Встреча у них в семье была очень теплой. Эта поездка закрепила наши родственные связи. Нужно сказать, что отец мой, служба которого уже 4 года продолжалась в Евпатории, в частности на крымском артиллерийском полигоне, мечтал перевестись со временем в Ленинград. Его тянуло на родину.
В конце декабря возникло содружество слушателей нашего курса и артистов труппы Пушкинского театра. Артисты, которые приходили к нам, были хорошо известными. Инициатором этого содружества стал один из наших слушателей – Зорин Александр Борисович, уже тогда выделявшийся подчеркнутой внешней культурой, системностью знаний и, вместе с тем, скромностью. (Сейчас он крупнейший кардиохирург России, профессор, генерал-майор м/с). Встречи проходили в одном из холлов Клуба Академии.
В это же время произошло несчастье – умер от отита слушатель нашей группы Олег Хохлов, отличавшийся отменным здоровьем. На курс он прибыл из Кронштадта. Не вовремя обратился к врачу, а потом даже личное участие в его судьбе знаменитого профессора Воячека – начальника кафедры болезней уха, горла, носа – не спасло его. Умер от менингита. Это была первая потеря на курсе. Она показала нам, как молодость обманчива. Вскоре умер и слушатель Хорст – от лейкоза.
Кафедру ЛОР-болезней возглавлял профессор, генерал – майор м/с В.И Воячек. Его знал весь Ленинград. Рассказывали, что в 20-е годы было трое двоюродных братьев Воячеков, и все Володи. Они возглавляли общество «Долой рукопожатие», созданное, вероятно в гигиенических целях: эпидемий после революции было предостаточно. В 30-е годы К.Е.Ворошилов, посетив с инспекцией ВМА, наградил, от имени Верховного Совета СССР, проф. В.И.Воячека орденом Ленина. В нашу бытность он, хоть и читал лекции и оперировал, был уже очень стар. Он жил в доме на Кутузовской набережной и ходил на кафедру пешком через Литейный мост. Иногда мы сами это видели. Вечером, накинув на пижаму генеральскую шинель, он частенько прогуливался по набережной напротив своего дома. Однажды хулиганы напали на него, сняли с него шинель и убежали. Он вернулся домой, сообщил об этом в милицию. Милиция вышла на воровское сообщество с просьбой помочь вернуть украденное. Воячек был так знаменит, что эта просьба была немедленно выполнена. Более того, воришки принесли свои извинения профессору.
Не помню, как справляли Новый год. Затем долго шли экзамены, главным из которых был экзамен по нормальной анатомии. Готовились, забывая даже поесть. Но все прошло отлично, сказалась длительная, почти двухлетняя подготовка и высокая квалификация учителей. Они, собственно, экзаменовали самих себя.
Каникулы. Куда поехать? Конечно, в Шереметьевку, к друзьям. Дня два пожил у Рабиновичей, повидался с Алей. Встреча показала, что, оставаясь друзьями, в чем-то большем мы теряем друг друга. Время и возникший новый опыт отдалили нас настолько, что стало ясно – впереди у нас разные судьбы. Я и позже бывал в Шереметьевке, но мы с ней там уже не встречались.
4-й семестр был заполнен различными предметами. Многие из них были важными. Это касалось патологической анатомии (нач. кафедры – проф. А.Н.Чистович), фармакологии (проф. С.Я.Арбузов), биохимии (проф. Г.Е.Владимиров). Но тревожили и другие дисциплины: тактика и ОТМС, марксизм-ленинизм,
На кафедре патанатомии были замечательные коллекции – как макро– так и микропрепаратов. Сколько труда было вложено преподавателями и лаборантами, чтобы собрать и сохранить их, превращая в музей. Запомнились и преподаватели: проф. М.М.Гольштейн, Агеев, Чудаков. Здесь прививались навыки микроскопии. Одного запоминания препаратов было мало, нужно было осмысленно представлять себе тот патологический процесс, который эти препараты только иллюстрировали.
В марте мы с Юрой Филимоновым вместо занятия по тактике уехали за город на электричке. Оба мы тяготились изучением Полевого Устава. Филимонов без конца придирался к молодому преподавателю – майору. Даже отказался отвечать на вопрос, какова должна быть ширина окопа. Причем здесь медицина! А ведь он был не прав: ширина окопа должна была составлять не менее 2-х метров, это позволяло пользоваться носилками при выносе раненых. В общем, нашла коса на камень. Филимонов получил тройку по тактике. Это была единственная тройка из всех оценок, полученных им за все время учебы в Академии. Остальные были отличными. Это не позволило ему получить золотую медаль академии и даже диплом с отличием. Ему предлагали пересдачу, но он отказался. Вот такой был мой друг Филимонов.
Занятия по марксизму-ленинизму я любил. Здесь приветствовались дискуссии. Было не просто, но интересно вчитываться в работы Ленина. Не любил я только ведения конспектов. Иногда их наличие и прилежность ценились выше, чем знание.
Преподаватели были разными. Некоторые запомнились своей убежденностью и принципиальностью. Такими были профессора Рождественский и Курбатов. Рождественский внешне был очень похож на Суворова. Холерик, спорщик в наступательной манере, даже хохолок на его голове выдавал это сходство. Курбатов, иллюстрируя как-то в споре непримиримость капиталистической и социалистической систем, сталкивал свои кулаки. А кулаки у него были огромные. Это убеждало.
Кафедра ОТМС утомляла своей секретностью и обилием огромных таблиц. Конечно, навыки работы с секретной литературой и ведения секретных тетрадей были необходимы в воспитании командирских качеств. Но любовью это не пользовалось. Вместе с тем, кафедра запомнилась тем, что представляла собой целое созвездие крупных организаторов медицинской службы, знающих организацию её армейского и фронтового звеньев по личному опыту. Все профессора и преподаватели были фронтовиками. Среди них: генералы и полковники м/с Георгиевский, Григорьев, Иванов, Капустин. Только 5 лет прошло с момента окончания войны, опыт был огромен и требовал обобщения.
По кафедре организовывалось дежурство. Дежурный располагался у входа и должен был проверять пропуска. Все входящие такие пропуска предъявляли. Однажды в мое дежурство по лестнице от входной двери на кафедру стал медленно подниматься уже очень немолодой генерал Григорьев. Его все узнавали по густым черным бровям (позже такие мы видели только у Леонида Ильича Брежнева). Когда он поравнялся со мной, я, поприветствовав его, вежливо попросил предъявить пропуск или удостоверение личности. Он внимательно посмотрел на меня и, сдвинув брови, сказал, что сейчас покажет, и прошествовал на кафедру. Действительно, минут через 10 он вышел и показал мне удостоверение личности, заверенное министром обороны. А что было делать? Если бы я не спросил его, мог бы получить выговор. А так – все было по инструкции. Хотя его брови значили больше подписи министра.
Объявили о подписке на 35-ти-томное издание «Опыта Советской медицины в Великой Отечсственной войне 1941–1945 гг.». Издание осуществлялось на меловой бумаге, с цветными иллюстрациями, по распоряжению Совета народных комиссаров СССР, подписанному самим И.В.Сталиным. Издание для того времени было просто шикарное. Я подписался, хотя не вполне представлял себе, для чего это мне нужно. И хотя в последующие годы выкупил не все тома, не пожалел об этом. Они и сейчас со мной, несмотря на то, что за всю мою офицерскую жизнь жить пришлось на 14 квартирах. Есть среди томов и 29-й, «Болезни у раненых», под редакцией проф. Н.С.Молчанова, в последующем моего учителя.
В пригороде Ленинграда – в поселке Ольгино – жила моя родная сестра по отцу Оля. У нее была трудная судьба. Я уже писал об этом в книге «Мальчики войны». Блокадница. Мы не виделись с 1946 года. Я съездил к ней. Она жила в маленькой комнате, и у нее была уже годовалая дочка – Леночка. Муж ее бросил. Как жить? Нужно же было работать. Ребенка оставляла у соседей. Устроилась кондуктором в трамвайном парке. Денег нехватало. Раз в месяц она приезжала, и мы встречались. Делился с ней своей зарплатой.



![Книга Медицина катастроф: Курс лекций [Учебное пособие для медицинских вузов] автора Игорь Левчук](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-medicina-katastrof-kurs-lekciy-uchebnoe-posobie-dlya-medicinskih-vuzov-274457.jpg)