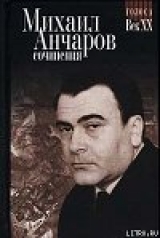
Текст книги "Козу продам"
Автор книги: Михаил Анчаров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Кто? Я? – спросила Тоня.
– Не поняла социальный заряд.
– Ты же не объяснил, а обещал, – сказала Тоня.
– А подтекст? – не поддался Ефим Палихмахтер. – А подтекст?
– А это что? – спросила Тоня.
– О!!! – обрадовался Ефим Палихмахтер. – Подтекст в нашем деле – самая важная вещь.
– Вот ты читаешь сценарий, один другого спрашивает: «Который час?» – это текст. А подтекст может означать что угодно. К примеру: «Жизнь прошла мимо»… Или: «И моя жизнь в искусстве – тоже». Подтекст – великая вещь.
– Это когда врут, что ли? – спросила Тоня.
– Верно, – сказал я, – в моей пьесе никакого подтекста нет, а есть текст. Что сказано, то и есть.
– Ну, как же? – возразил Ефим Палихмахтер. – Подтекст. Подсознательное. Может быть, вы скажете, что и подсознательного нет?
– Подсознательное – это другое, – сказал я. – Тоня, опустите юбку. Вот так. Вот вы припомните, Тоня, – продолжал я настырно. – Разве у вас не было, что вы говорите что-нибудь неожиданное? Чего сами не ожидали? Хотели сказать одно, а сказалось совсем другое. Значит, в вас скопилось что-то, что до сознания еще не дошло. А неожиданно спроси – оно и вылезает, и вы ляпнули.
– Сколько хочешь, – сказала Тоня.
И Ефим Палихмахтер был рад, что обстановка разрядилась. И что хоть насчет подсознательного Тоня не станет спорить. И не будет рубить сук, на котором они вдвоем с ним, Ефимом Палихмахтером, оказались. Благодаря перестройке. В общем, лучше было не шутить. Тоня задумалась, а потом рассказала случай о подсознательном…
«Иду я ночью однажды, – говорит Тоня, – и вдруг из-за кустов какой-то мужик появился и начал тащить меня в кусты. И я со страху забыла кричать: „Помогите!!!“ И кричу: „Ур-ра!!!“ Он испугался, меня бросил, и в другую сторону побежал!»
– Это подсознательное? – спросила она меня.
– А как же… – ответил я. – Это оно и есть.
Так как же все-таки быть с другой цивилизацией? Какая она должна быть? А? Я вас спрашиваю? А? И ответа я не получил. Спрашивать-то было некого. Как это я мог забыть? Кого спрашивать, если они заперлись там, в магазине «на воровство». И все, что может быть придумано, может быть использовано. И все-таки я по своей настырной привычке решил попытаться.
Ведь те, кто привел цивилизацию к магазину, и обдумывают, как дальше быть. То есть, как уворовать? Все то положительное, что будет вновь придумано. А уворовать можно было все. Практически. То есть, как сделать так, чтобы выдумать такое, чтобы выдумкой нельзя было воспользоваться? А ведь всеми выдумками пользуются. И это и есть цивилизация. То есть, как было выдумать такое, чтобы это не выглядело выдумкой. Потому что даже отменой цивилизации можно было воспользоваться. И как-то уворовать плоды этого дела.
Но делать было что-то надо. Это не отменялось. Потому что, если цивилизация дошла до магазина и теперь дрожит от страха: не кончится ли сама цивилизация от одного взрывчика, то вопрос теперь стоит так: «Как отменить такую цивилизацию, при которой основным чувством и стоп-сигналом стало чувство страха перед тем, что могут наступить всеобщие „кранты“, научно выражаясь, и надо было что-то менять». Это ясно, и менять так, чтоб этим нельзя было воспользоваться. Значит, надо было опереться на что-то, что уже открылось. То есть, нечто реальное, которым я мог бы воспользоваться, а вся эта банда, засевшая в магазине, нет, не могла бы.
Ну и как быть? Я ведь не один. У меня семья, сын – их кормить надо. Да, как быть?
Что такое цивилизация? Цивилизация – это когда накопились ценности. Это когда жили-поживали и добра наживали. Но если то, что считалось добром, привело к магазину и все ждут и трясутся, что сама эта цивилизация сама себя отменит при помощи кнопки, неживой кнопки, то надо было эти ценности пересматривать, хочешь не хочешь. То есть, нужна была переоценка ценностей. Все ли ценно в этих ценностях? А может, не все? А может быть, в этих ценностях есть кое-что выдуманное? А что особенного? Ценности пересматривают все время. Вот я сам слышал по радио. Передавали какую-то беседу с ансамблем «Кукуруза». Я и на беседу-то обратил внимание случайно, то есть по-живому, из-за названия ансамбля. Я в то время собирал мнения о кукурузе. Потому что кукуруза была плодом индийской цивилизации, то есть цивилизации, которая доработалась до сытости, не придумав колеса, которым гордилась Европа, но которое привело европейскую цивилизацию к магазину, подсунув Европе колесо, чье-то изобретение. И все обрадовались – какой простой выход! А выход-то привел к магазину, который заперт на воровство. Нет, тут нужно что-то другое…
И вот какой-то представитель ансамбля «Кукуруза» рассказывает случай, который впервые реально показал, как происходит переоценка. И вот под смех слушателей кто-то из ансамбля рассказывал, как они заехали от Москвы, от центра цивилизации, в город Благовещенск. И кто-то из них зашел в магазин уцененных товаров и видит, продается контрабас, да не фанерный, как сейчас модно, а настоящий долбленый. Он посмотрел на цену и глазам не поверил. Контрабас стоил два рубля. Он переспросил у продавщицы. Она подтвердила: «Да, два…» И тот из «Кукурузы» сказал, что если все так, то он купит сейчас этот контрабас, уйдет и больше его продавщица не увидит. Парень был честный и боялся – не ошибка ли это? Не игра ли воображения? Продавщица сказала: «сейчас посмотрю». Порылась в бумажках и говорит: «Да, два рубля. Если вам не нравится, зайдите за прилавок» (за кулисы, так сказать, этого театра). Там у нее еще два контрабаса стоят. Парень все же не поверил. Вернулся в ансамбль, разыскал кого-то из скрипачей и говорит: «Идемте кто-нибудь со мной. Может, контрабас бракованный». И те пошли с ним в самый лютый холод. Лязгнули зубами, но пошли. Пришли, смотрят, крутят, все правильно – контрабас отличный. «А еще есть?» – «Есть», – говорит продавщица и показывает еще два контрабаса. Ну, один, правда, похуже, фанерный, а другой традиционный, долбленый. «Берем два контрабаса», – сказали музыканты. Она им недрогнувшей рукой выписала, а когда те уже держали в руках, один все-таки поинтересовался: «Почему все-таки четыре рубля пара?» Она им сказала:
– Привезли контрабасы. Стоили 380 рублей. Десять лет их никто не брал. В Благовещенске они не нужны никому оказались. Стали снижать цены, снижать, снижать… Переоценка ценностей. И вот последняя цена – два рубля.
Они заплатили четыре рубля и ушли. Вот тебе и кукуруза!
Контрабас не изменился. Как был, так и есть, а вот цена на него упала до двух рублей. А какая истинная цена контрабаса? 380 рублей или 4 рубля пара? Оказалось, цена-то относительна. Относительность цены! Цена-то возникает от потребности, то есть от желания, то есть опять срабатывал «закон случайности», основной закон жизни.
Повычисляли, сколько стоит работа, налоги, прибыль. Назначили цену – 380 рублей. В Благовещенске никто не брал. И в Благовещенске в тот момент контрабасы стоили четыре рубля пара. Ансамбль «Кукуруза» и сейчас на них играет. Потому что ансамблю «Кукуруза» эти контрабасы были позарез. Вот и все. Над этим стоило подумать.
Я и начал было думать по-прежнему, логически, но, к счастью, мне помешала живая случайность, которая вошла ко мне в дом вместе с Тоней, которая к тому времени уже поступила в киноинститут, где дают дипломы. Диплома у нее еще не было, но роли она уже имела право получать. Считалось, что она уже прикоснулась к изучению искусства, как будто искусство родилось от изучения, а не наоборот. Как-то все уже и забыли, что сначала было искусство, а потом началось его изучение. Потому что изучают то, что есть, чего нет – не изучишь. Значит, то, что есть, появляется раньше, чем то, что изучают.
И вот однажды появилась Тоня, а с ней внесли арфу.
– Не сердитесь на нее, – сказал просочившийся вслед за ней Ефим Палихмахтер. – Это ее вы думка, а не моя. Простите ей.
– Ну-ка, ну-ка, – сказал я, обрадованный тем, что Тоня, оказывается, вообще в состоянии выдумывать.
И Тоня, зардевшаяся от волнения, начала петь какую-то известную песню, вернее, то, что считалось песней в те времена, ну там обычное… что ты мне звонишь… я тебе звоню… что ты мне не позвонила… или я тебе не позвонил… В общем – ты ушла, и я ушел, и оба мы ушли… В этом роде. То есть то, что сейчас на эстраде считается музыкальным авангардом, который больше всего похож на тираж и ширпотреб. Я сначала так и воспринял. А в чем же новинка? Новинка-то в чем? Выдумка? Чужое выдумывать нельзя. Выдумать можно только свое. А потом заметил, что выдумка-то не в песне, а в аккомпанементе. Она играла на арфе не так, как положено, вернее, не так, как общепринято, не перебирала струны пальцами, а играла на арфе, как на гитаре, и то сегодня – «чесом». Играть на арфе «чесом» – этого я еще не слышал. Я тут же подумал: «А почему бы нет?» Ведь это и на гитаре не так давно было новинкой. Но я тут же подумал – а перспективна ли эта новинка? Для новой цивилизации, по крайней мере. Или этой новинкой тоже можно будет воспользоваться? А как проверишь? Будущего-то мы не знаем. По крайней мере, в области психологии или, как раньше говорили, в области душевной жизни. Как проверишь?
– Тоня, – сказал я, – один мальчик притащил домой черепаху, маленькую. А когда его спросили: «Зачем он это сделал?» – Мальчик ответил: «Говорят, черепахи живут 200 лет. Я хочу проверить».
Тоня засмеялась. Как человек, честное слово.
И тут я впервые подумал, что похоже, что в этом пункте магазинных дьяволов, в этом пункте прокол. В чем прокол – я тогда еще не знал, но почувствовал.
Это ни хрена себе! Я поставил перед собой задачку – переменить цивилизацию! Да еще при помощи искусства! Ни хрена себе!
А вы заметили, какая в этом году неестественная, нереальная зима? А-а? Вот то-то! Все время кажется, что она вот-вот кончится, а она не кончается. Уже пасха прошла – май скоро, а все холодные ветры с Арктики. Это надо же – словами уговорить переменить цивилизацию! Опомнитесь! Иначе худо будет! На кого это действует? Уговоры… уговоры…
От чего беречься-то? Доходы доходами, а помирать каждому не хочется. И придется частью доходов пожертвовать. То есть пойти на расходы.
Закон рынка… Закон рынка… Может, у рынка и есть закон, но сам рынок необязательная выдумка. Что такое рынок? Это место, 1де добывают деньги. Не те добывают, кто что-то произвел, а те, кто с этим произведенным химичит. Сейчас этим местом пытаются сделать шарик земной. Но уже не всему шарику годится такая выдумка.
Конечно, деньги сразу не отменишь. Но ведь было время, когда и деньги выдумывали, а дальше пошло развитие этой великолепной идеи.
Деньги можно скопить. Пустить в рост и прочие радости… А сейчас кажется, что только так и можно жить, хотя каждый день видно, что это чушь. Но стараются не обобщать. Контрабасы в Благовещенске остались теми же самыми, какие и были. Только стоили раньше 380 рублей, а когда их никто не брал – 2 рубля штука. Четыре рубля пара – те же самые контрабасы. Вот тебе и деньги! Чему они соответствуют? Контрабасы соответствуют, на них играют, а цена на них ничему не соответствует.
Ценообразования… Ценообразования… Мать их… Вот смешной мужик, к примеру, который был в Одессе 1 апреля, когда там производилась все одесская юморина, рассказывает, как в Одессе зарождается юмор, и делится передовым опытом.
Он на рынке спросил у тетки:
– Почему все на рынке продают семечки по 20 копеек – стакан, а вы по 30 копеек за стакан?
Она ему ответила:
– Потому что 30 – больше.
Это – юмор, то есть правда, высказанная не вовремя./ Она ведь правду ему сказала, истинную, но высказала неожиданно, не вовремя – потому и смешно. А ведь действительно никаких других причин для тридцати копеек не было. Все остальное – хорошо оплаченные профессорские соображения. А эта тетка бесплатно сказала. 30 копеек за стакан потому, что 30 больше, чем 20. И все. Простите, но я не знаю ни одной страны, ну не знаю, и точка, кто знает – пусть меня поправит, но я не знаю ни одной страны, кроме России, где бы над деньгами уже начали посмеиваться. Еще робко, правда, потому что не знают, чем эту тысячелетнюю выдумку заменить, но уже начали. А как дойдут до хохота – тут деньгам и конец! Конец дьявольской выдумке, подсунутой человеку!
Ну ладно, пойдем дальше. Я, конечно, не выдумал, чем заменить деньги, но я был обрадован чрезвычайно тому способу, каким Тоня придумала играть на арфе. Так ведь действительно никто не играл. Нет, конечно, я сразу понял, что и этой их выдумкой можно будет воспользоваться. Появятся ансамбли, которые будут играть на арфе «чесом» и 0удут за это получать большие «башли» от слушателей, которым это будет любопытно какое-то время… Потом мода на это утихнет. «Башли» уменьшатся, и снова начнут платить за старый способ. Но это, я думаю, ничего. Главное было не в этом. А главное было то, что обнаружилось, что даже Тоня, на которую у меня сразу же не было никаких надежд, оказалось, что даже Тоня способна выдумывать. А если уж Тоня способна выдумывать, значит, я на верном пути! Какой это путь – я еще не знал, но я уже понял, что путь верный. Потому что каждый способен выдумывать, каждый, если, конечно, захочет, а Тоня захотела. Вот какая штука. И я продолжил поиски универсальной выдумки.
Сначала я рассмотрел такую выдумку своего друга, как найти способ договориться. Я детально рассмотрел этот способ и понял, что это уже преувеличение и неуниверсально.
…Судите сами. А вдруг договориться и в принципе невозможно?
Вдруг у людей не только разные языки, но и разные способы на них реагировать.
Вот возьмите кошек и собак: они же враждуют всю дорогу. И выяснилось, что «уголок» этой вражды – первичные обстоятельства, некая мелкая хреновина, лежащая в основании всего.
Так вот, «уголок» исконной вражды кошки с собакой как будто состоит в том, что когда собака машет хвостом – она проявляет дружелюбие, а когда кошка машет хвостом – это для нее приготовление к нападению.
Один и тот же хвост у собак и кошек означает разное. Вот и как тут поверишь? Вот и сражаются.
Вот говорят, кризис доверия, кризис доверия… Будет доверие – сговорятся! А как это доверие установишь? Если у кошек и собак – хвосты разные. Хвостиные жесты. Что на собачьем языке означает дружелюбие, то на кошачьем означает – готовься! Сейчас нападу. А как другому доверять до конца? Мало ли что у него на уме? Мало ли? Ну, вот я, например, заявляю, что я люблю людей. А как проверишь? Ведь это только я знаю. А придет злодей, скажет, что он любит людей, значит, в том числе и меня. А потом меня же и съест.
Нет, тут что-то неуниверсальное. А годилось не просто нечто хорошее, а такое, которым воспользоваться было бы нельзя в корыстных целях и меня же и облапошить.
Вот я знаю одно великолепное стихотворение Аветика Исаакяна. Там рассказывается о том, как голубь, раненный в грудь, упал на берегу ручья. Ручей голубю сказал: «Хочешь, я тебя излечу? А ты мне за это отдашь то, что всего дороже». Голубь, естественно, согласился. Ручей излечил его и говорит: «А теперь отдай мне крылья». А голубь ему говорит: «Фиг тебе!» Ну, может быть, не «фиг тебе», а как-нибудь по-другому, но смысл, по-моему, тот же самый. И как вы думаете, что сказал ему ручей? Самое трогательное еще только начинается. Ручей не только не обиделся. Ручей ему сказал: «Лети… Лети… И рабскому миру скажи, что свобода дороже, чем жизнь!» А?! Каково?! Лихо? – Лихо! Все бы ничего! И чья жизнь? – Не сказано. А раз не сказано – магазинные дьяволы этим и пользуются.
Если б было сказано – своя свобода важнее, чем своя жизнь, это одно. Каждый имеет право так считать, а ведь если своя свобода важнее, чем чужая жизнь, то это уже дела другие, и этим уже можно воспользоваться. Так что и этот случай не универсальный.
И я продолжил поиски универсального выхода из имеющейся цивилизации. Выхода такого, каким нельзя было бы воспользоваться в корыстных целях, во вред человеку.
Я бы еще долго занимался бы поисками иной цивилизации, и вообще – неизвестно, на что я надеялся. Цивилизация существует тысячи лет, а тут приходит один и хочет ее отменить. Эко!
На что же я надеялся? Я надеялся на то, что мне легче, чем остальному человечеству. Остальное человечество еще не знало про «закон случайности», а я уже знал. Я ждал случайности, основного закона живой жизни, потому что неживой жизни не бывает. Неживая только аппаратура и вытекающий из нее магазин. И представьте себе – дождался.
Я еще раньше, давным-давно, смутно чувствовал, что если я хочу узнать нечто важное, я должен приглядываться к женщинам и детям. К женщинам потому, что они детей родят, а к детям – потому что они у женщин родятся. Но попадались, правда, еще и мужчины. Но мужчиной был я сам, так мне, по крайней мере, казалось. И кроме того, мужчины, даже самые шустрые, все тоже вырастают из детей, то есть из тех людей, которые все осваивают по первому разу. Все сплошь гении, и их еще не перевоспитали во взрослые. Сына я знал. Я знал, что он «такой молоденький, лихой и голенький», и знал, что он приносит идеи, достойные удивления, но я не ожидал этого от Тони. Я не ожидал, что она еще способна выдумывать. Она открыла способ играть на арфе «чесом». Это сбивало меня с толку, хотя, казалось бы, я ничему не привык удивляться, вернее, привык ничему не удивляться.
Мне казалось, что в эстраде уже ничего нельзя придумать. Она вся покупная и продажная, давно уже не действует на душу, а только на уши, и каждое произведение эстрадное отличается от другого эстрадного произведения только своими децибелами. Одни децибелы медицински вредные, другие – все еще медицински терпимые. Вредные ведут к глухоте (после 90 децибел допустимых), а невредные – оставляют надежду что-то услышать.
Песни эстрадные отличаются друг от друга не словами, которых все равно нельзя услышать из-за шума, и слава богу, потому что, когда удается услышать слова, то не то чтобы непременно хотелось умереть, но возникало сожаление – зачем я родился? Но так думать было несправедливо, и я гнал эти мысли. Потому что допрыгаться до смерти, в этом было по крайней мере хоть что-то самодеятельное, зависящее от меня, но уж в своем рождении я был начисто неповинен.
Когда меня зачинали и я рождался, тут уж меня, как и всех других, ни о чем не спрашивали. И в том, что я родился, моей вины нет, как нет и заслуги. Хотя есть верование и, стало быть, теории на этот счет, что и тут я ошибаюсь, и что факт моего рождения есть последствия предыдущих моих смертей, хотя и в других обличиях. Так что на все есть свои теории.
Но меня останавливала мысль, которую однажды высказал мой сын моей супруге, когда она однажды разбушевалась, хотя для этого не было видимых и невидимых причин. Сын мой тогда ей сказал:
– Мама, ты, главное, не вникивайся.
И я решил «не вникиваться»!
Что же мне оставалось? Да почти ничего! Только ожидание. Но я сам себя стреножил.
И я все-таки дождался! И притом в той даже области, какой тоже не придавал значения, и не придавал значения именно в силу ее распространенности. Напрасно думают, что труднее всего разглядеть редкое и неожиданное. А все как раз наоборот. Когда его много, о нем не думают, оно как воздух. Его замечают, когда дышать нечем. Таежному жителю труднее заметить воздух, чем горожанину с асфальта. Это же ясно. Примелькалось.
Чего было больше всего в эфире? Конечно, эстрады. Многие так и считали, что хорошая жизнь – это когда много разной мануфактуры и много эстрады. Хотя от мануфактуры и эстрады хорошей жизни не прибавлялось, а прибавлялась только судорожная. Но это на чей вкус!
Как я мальчишкой любил джаз! Даже описать невозможно. Я честно в школе изучал утверждение, что джаз – это музыка для сытых. Пока однажды не сообразил – ну и что плохого? Что плохого, что люди сыты? Разве мы сами не к этому стремимся? Накормить всех, а не только богатых. А если сытые захотят слушать другую музыку – что в этом плохого? Формула «музыка для сытых» не то призывала нас всю дорогу быть голодными, не то обещала, что сытые и богатые – это одно и то же. Но в любом случае, какое отношение это имело к музыке и джазу?
Никакого! Как мог Горький не заметить, что это была музыка улицы? Это же слышно каждому. Она была ресторанная музыка, ну и что? Где ее было играть? Играют там, где платят. Раньше и за старинную музыку платили, за классику платили. А кто платил? Те же сытые. Но классика уже забыла, что она зародилась на улице. А джаз ей это напомнил.
Неужели было незаметно, что в музыку вошла улица? Голодная, негритянская улица! Которая пела и играла свою музыку. И напоминала каждому, откуда он произошел. И доходила именно до души.
А старинная европейская музыка, которую слушали в аккуратных залах, уже давно ни на что не влияла, кроме как на такие же аккуратные вздохи и чванные эстетские улыбки. Нет, джаз было другое. Джаз нес надежду на то, что улица не задавлена. А пока она не задавлена, все еще может образоваться. Потому что жив человек Адам со своими грехами. Тут даже этнография потихонечку приходила к выводу, что Адам был негр, черненький, абориген, из которого потом произошли все разноцветненькие и чванные.
Вот что такое был джаз, в котором не услышали протеста! Но потом и его купили. И стали джаз выпускать, как ширпотреб, как музыкальную мануфактуру. Но я не мог понять, что в сегодняшней эстраде видят те, которым она нравится? Потому что уж чего-чего, а новинки в нынешней эстраде не было начисто.
Сегодняшние металлисты (хеви-металл), эстрадные, которые разграбили все сегодняшние свалки вторсырья, а издавали музыку, которая была похожа на песни заик, и как раз, когда я так решил, я услышал… Естественно, случайно включил и услышал и увидел передачу о том, как лечат заик. Вот только тут до меня дошло.
Прекрасная милая женщина, доктор, нашла способ лечить заик и показывала это наглядно, при всех. Она брала любого заику, а их там был целый зал, просила его выйти на эстраду и спрашивала, как его зовут. И несчастный человек что-то лепетал, заикаясь. И тогда доктор просила его поверить только в одно, только в одно, что человек может все. Любой. В том числе и заика. И что он может на глазах у всех начать говорить, не заикаясь. А заика к тому времени уже всякую надежду потерял. Она возвращала ему надежду. Потому что ведь и он когда-то был не заикой.
Начиналось у всех по одной и той же причине. Что, как бы человек ни говорил – его одергивали и все время поправляли. Всегда находился кто-нибудь, кто его поправлял. Кто криком, кто теорией. И человек пугался, начинал пристраиваться к кому-то бездушному. Начинал заикаться, начинал не уметь произнести даже свое имя и фамилию. Потому что чересчур много правил для отдельного, человека. И душа его костенела. И вот эта прекрасная женщина-доктор говорила ему:
– Миленький, стисни низ живота, а верхнюю часть (ну там, где сердце) освободи. Как тебя зовут?
И ошеломленный заика четко произносил свое имя и фамилию. А потом то же самое делал с другим заикой. Обучал тут же, на глазах.
Женщина говорила:
– Человек может все!
И это подтверждалось наглядно. Это было как чудо. Чудо любви и освобождения. От идиотских правил, душегубных правил, скопившихся в цивилизации. А то ведь заиками становились все умные и честные, которые хотели выполнить все правила. Но это было сделать невозможно. Тогда они наглядно, на глазах друг у друга, посылали правила… посылали их все. Как можно подальше. И начинали говорить.
Потому что человек может все!
И я это видел сам. И потому все понял. Потому что был уже к этому готов. И понял, что потому вся эта сегодняшняя эстрада, против которой я так негодовал, – это самостоятельная попытка излечиться от заикания. Потому что, как ни сыграй – все как-нибудь, да не по правилам, все что-нибудь не так. И среди своры нападающих был и мой лай, увы, мой лай, лай моих претензий. Потому что они ни на кого не походили, ни на одно из правил, даже на мои. И им, чтобы перестать заикаться, нужно было прежде всего послать их… Они это и делали.
Прислушиваться к себе и совершать новинки и музыкальные открытия они будут потом. Сначала надо было перестать заикаться.
Вспомнил, как зовут прекрасную женщину-доктора. Случайно вспомнил. По-живому. Ее зовут Юлия Борисовна Некрасова.
Люди начинают заикаться, потому что начинают говорить не то, что думают, и привыкают к этому, потому 41*0, что бы они ни говорили, всегда идет одергивание и попрек: «Не так, не так, не так… не то, не то…» Чего же удивляться после этого? Заиканию? Сначала надо наладить нормальную речь.
Окрыленный успехом, я начал искать более целенаправленно. Женщины и дети, женщины и дети… Если первая находка пришла от лица Тони, то вторую я мог ожидать от своего грандиозного собственного сына. А от кого же еще? И я удвоил внимание.
Он по рождению мальчик, значит, в перспективе будущий мужчина, и отличается он от будущих мужчин, в том числе от меня, только одним – ему пять лет, с половиной. Значит, все идеи мужские у него первичные, а не переученные взрослыми поправками, хотя он иногда уже и заикается. Значит, влиять начало и на него. Надо было торопиться.
Сейчас в своем лучшем виде он такой «лихой, молоденький и голенький». И уже маме велел «не вникиваться». Поскольку он будущий мужчина, он круглые сутки сражается. Как просыпается, так и начинает сражаться. И я ему не мешаю и даже покупаю пластмассовых воинов. У него их целая армия. Есть и пираты.
– А зачем тебе пираты? – я спрашиваю. – Они же людей резали. Ты тоже хочешь людей резать?
– Нет, – говорит он, – я же понарошку.
И вижу, что он тоже «не вникивается». Понарошку – это значит спорт, самое распространенное мужское занятие. И тоже незаметное, как воздух. Так его много. Но меня это уже не смущало.
И вот однажды… О, это великое «однажды»! Неужели никто не замечает, что все живое бывает только однажды, дважды не бывает ничего. Дважды, трижды бывает только в машине. А в жизни – только однажды.
И вот однажды сын приходит и говорит:
– Папулечка! Папулечка!
– Ну, чего? – спрашиваю.
– Я игру придумал.
– Какую же? – поинтересовался я.
– Футбол! – говорит он.
– Ну, футбол не ты придумал… – говорю, потому что знал твердо, что футбол придумал не он.
Но сын сказал:
– Я другой футбол придумал.
– Какой? – спрашиваю.
– Надо каждой команде дать по мячу…
– Чего?… – говорю. – Чего?
– И каждая команда будет забивать мяч в свои ворота.
– Ну и где ж соревнование? – спрашиваю.
Но судьба меня помиловала, и я не успел пропустить открытие.
Нет, вы представляете?! Выходят две команды на футбольное поле, у каждой свой мяч, и они начинают забивать мяч в свои ворота. Мы – в свои, они – в свои. И сколько я потом ни проверял эту идею, я видел почти ее универсальность, и не мог придумать, как этой идеей воспользоваться в корыстных целях.
А что? А что? Тут что-то было! Во всяком случае, запахло проколом, запахло проколом всей дьявольской системе. А как пахнет прокол? Так и пахнет! Злым духом. То есть магазин стал очевидно пованивать.
И тут я впервые неизвестно чему обрадовался. И больше всего меня обрадовало, что я обрадовался неизвестно чему. А тут еще случайно приходит сын и говорит:
– Папа, а что больше: небоскреб или египетская пирамида?
Я смутно помнил, что, кажется, небоскреб. И говорю:
– Небоскреб не больше, а выше. Но уж что наверняка выше, и я знаю это точно, так это Останкинская телебашня. Она – 550 метров.
– Ого! – говорит сын.
– Ну да, она больше чем полкилометра.
А сам думаю: «Она ведь не только этим больше. Уже небоскреб отличается от пирамиды тем, что в небоскребе живет куча народу, живого, а пирамида хранит одного сушеного покойника. А уж с телебашни идут передачи для миллионов живых людей».
Передачи эти, правда, так себе. Но это уж не вина тех, кто слушает, а вина тех, кто эти передачи изготовляет. И миллионы живых людей вынуждены слушать разнообразную музыку, которая отличается друг от друга только подробностями заикания. Вынуждены слушать «Соло для кильки в томате» и вникать в стиль «Сервелат». Или вникать в лекции, в которых людское неумение жить друг с другом цивилизованно объявляют духовной жизнью.
Но радость не проходила. И я вдруг понял, почему.
Заканчивалась «Утренняя почта», в которой было много шелупони и вторсырья, но была прекрасная лекция искусствоведа, над которым смеялись. Лекция фактически не отличалась ничем от любой искусствоведческой лекции, но была глупа настолько, что это было уже видно.
И вдруг последним номером пошла настоящая песня. Было видно, что она настоящая. Было слышно, что она настоящая. Хотя ни одного слова понять было нельзя, потому что ее пели на голландском, кажется, языке. Но песня была лихая, минорная, окраинная. И было понятно, что песня живет. И ни хрена с ней не сделаешь. Женщины за певицей делали какие-то движения распахивающимися платьями и показывали свои невероятно длинные ноги, но это не имело ни малейшего значения. Потому что все перекрывала песня. В ней была энергия, ритм, минор отчетливый. И лихость, равная лихости купринского «Гамбринуса». И душа разговаривала с многомиллионной душой.
– Посмотри, какие ноги… – сказала жена, желая сделать мне приятное, зная, что я этим делом увлекаюсь.
– Какие ноги! – закричал я. – Какие, к чертовой матери, ноги! Ты слышишь песню?!
– Только не плачь, – сказал сын, который заметил, что я реву только от радости, а на остальное плюю.
Но все равно, это его беспокоило.
– Сынок, я не вникиваюсь, не бойся, не вни-киваюсь, я просто радуюсь.
И тут у меня впервые зародилось сомнение в отношении самой лекции о конце света лет через сорок. Лекции, в атмосфере которой я жил все это время. И сомнение зародилось именно потому, что лекция была научной. Нет, я не сомневался, или почти не сомневался, в наблюдениях, на которых лекция основывала свои выводы, в эмпирических фактах, диструкции биосферы и человека. Я засомневался в ее выводах, и сомнения для этого давала сама лекция. И в этой переоценке меня мощно поддерживал «Закон Случайности», живой случайности, которую вычислить было нельзя, поскольку она живая.
Вот вам два примера.
Один из прежней жизни, другой – из сегодняшней. Я слышал много версий о гибели Эрнста Тельмана. Какая из них правильная, я не знаю. Я не историк. Но одну версию о том, почему не удалось спасти Эрнста Тельмана, я сам читал в послевоенном «Огоньке».
Была целая организация, которая готовила его побег из тюрьмы. Кажется, из Моабита. Все было продумано. Все было рассчитано. Все буквально. А бегство сорвалось. Знаете, почему? Потому что кто-то, чтобы не заскрипел замок от ключа и дверь камеры открылась бы тихо, пипеткой залил в замок подсолнечное масло. И капля подсолнечного масла вытекла из скважины, и проходящий мимо охранник, заметив эту каплю, ничего не сказал, а прошел к сигналу тревоги. Поднял тревогу. Побег сорвался. Вот так!








