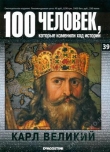Текст книги "Последний Совершенный Лангедока"
Автор книги: Михаил Крюков
Жанр:
Историческое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Глава 12
Если Массилия мне показалась грязной и неуютной, то что же говорить о Нарбо? Это просто большая рыбацкая деревня, неряшливая куча домишек, гнилые остовы рыбацких лодок, утонувшие в вязком песке, запах гниющей морской тины и того мусора, что рыбаки выбирают из сетей и сваливают на берегу. Море уходит от Нарбо, оставляя за собой зыбучие пески. Совсем скоро здесь не сможет причалить ни одна лодка, и тогда поселение умрёт.
Путь от Массилии до Нарбо я проделал на дне рыбацкой барки, проклиная свою судьбу. Сильная бортовая качка заставляла меня поминутно перегибаться через планширь, и иногда я малодушно мечтал о том, чтобы вывалиться из лодки и тем самым прекратить страдания. Только ужас перед грехом самоубийства останавливал меня. Рыбаки потешались над моими мучениями, они с грубым смехом предлагали мне хлеб и вино и гоготали, глядя как я из последних сил изблёвываю желчь. Плавание на галере далось мне гораздо легче, уж не знаю, по какой причине. Возможно, потому, что галера всегда шла поперёк волн, а рыбацкая лодка – вдоль берега и, значит, вдоль волн.
К моему стыду, на берег я не смог выйти своими ногами. Рыбаки вынесли меня и бросили на песок, не позарившись на пожитки. Люди де Кастра заплатили им только за перевоз, поэтому они ушли по своим делам, нисколько не заботясь о моей дальнейшей судьбе. Собрав остатки сил, я встал на четвереньки, а потом кое-как поднялся на ноги и побрёл от берега в поисках тени. Мне невыносимо хотелось пить, но нечего было и думать о том, чтобы найти колодец с пресной водой на плоском, как тарелка, морском берегу.
Вскоре я снова упал и провалился в забытьё, из которого меня вывели детские голоса. Стайка грязных и оборванных ребятишек со страхом и любопытством разглядывала незнакомца, боясь подойти поближе. Я показал, что хочу пить и бросил на песок мелкую монету. Дети бросились на неё с таким остервенением, что я испугался. Вскоре вокруг медяка кипела нешуточная драка. Дети молотили друг друга руками и ногами, царапались и кусались. Наконец, самый сильный или самый ловкий сумел завладеть монетой и убежал. Я подумал, что больше никогда его не увижу, но вскоре мальчик вернулся, сгибаясь под тяжестью кувшина. Оказалось, что за медную монету здесь дают не воду, а вино.
Зная, что если для удовлетворения сильной жажды выпить сразу много – неважно, воды или вина – можно умереть, я воткнул палочку в песок, сделав таким образом импровизированные солнечные часы, достал из мешка плошку и стал потихоньку приводить себя в порядок. Мне стоило огромных трудов не выпить из горлышка сразу полкувшина, давясь и кашляя от жадности. Напротив, я заставил себя цедить кислое и прохладное вино через соломинку, зная, что так лучше утоляется жажда. Пожалуй, впервые я спас свою собственную жизнь благодаря знаниям целителя.
Постепенно муть перед глазами рассеялась, болезненные спазмы прекратились, исчезло отвратительное чувство, будто я наглотался медуз, и мне даже захотелось есть – верный признак того, что морская болезнь отступила. Я знал, что ещё через полколокола я буду с удивлением вспоминать о том, как собирался броситься за борт. Симптомы этой удивительной болезни таковы, что когда она отступает, человек ощущает себя совершенно здоровым и не может припомнить, что его ещё недавно так мучило.
Я отряхнул с одежды песок, вскинул мешок на плечо и пошёл в Нарбо. Как обычно бывает после выздоровления, все чувства обостряются: глаза подмечают мельчайшие и совершенно ненужные детали, слух воспринимает блеяние козы, привязанной возле дома, а обоняние ловит запах горящего в очаге плавника и свежеиспечённого хлеба.
Я шёл между домами, а правильнее сказать, лачугами, разбросанными по окраине Нарбо без всякого плана. Улиц не было. Мне приходилось пробираться между ветхими заборами, а там, где между двумя огородами не было прохода, я возвращался и шёл в обход, потому что каждый дом охраняла одна, а то и несколько здоровенных полудиких собак. Скоро меня сопровождала злобно рычащая свора, и время от времени приходилось швырять в собак камень или ком земли. Чтобы отбиваться от собак, я подобрал палку, но она, к несчастью, оказалась трухлявой и переломилась пополам. Других поблизости не оказалось, вероятно, в этой безлесной местности дерево было большой ценностью. Я уже подумывал о том, чтобы выдернуть кол из забора, рискуя столкнуться с яростью хозяев, но тут мимо меня пробежала течная сука, и вся свора с воем и визгом кинулась за ней, забыв о чужаке.
Я долго искал богатый квартал Нарбо, но мне попадались только бедные дома рыбаков, и я подумал, что заблудился. Впоследствии оказалось, что я прошёл всё поселение насквозь, а богатых домов здесь просто не было.
Спросить дорогу до постоялого двора было не у кого – мне встречались либо маленькие дети, либо дряхлые старики. Ни те, ни другие меня не понимали. Наконец я обнаружил что-то вроде харчевни. Под соломенной крышей стояли грубо сколоченные столы, лавками служили старые плетёные корзины.
Хозяин никак не мог понять, что от него хочет чудной иноземец. В Нарбо говорят на простонародном диалекте французского – слова как бы жуют и перекатывают за щеками, в результате вместо чёткой и по-своему красивой речи, какую я слышал от Гийаберта де Кастра, изо ртов валится словесная каша. В конце концов, мне удалось понять, что в Нарбо нет ни одного постоялого двора.
– А зачем они, господин? Здесь у каждого есть свой дом, а чужие у нас не бывают. Если желаете, вы можете переночевать в моём доме. Нет, господин, ночью в комнате слишком жарко, мы спим на крыше. Видите лестницу? Да, господин, ещё моя жена и дети, но места хватит всем. Где купить лошадь? Здесь отродясь не было никаких лошадей. Зачем в Нарбо лошади? На них ездят господа, во всём городе не собрать денег, чтобы купить лошадь. Нет, и мулов тоже нет. Даже священник ездит на осле. Только он уже старый. Конечно, священник, а не осёл, грех вам так говорить, господин. Да, осёл у меня есть, господин. Конечно, он нужен мне самому, но если вы хорошо заплатите… Да, господин, он крепкий, как рыцарский конь, и быстрый, как ласточка. Дорога в Тулузу? Нет, господин, не знаю. Да и откуда же мне её знать? Я никогда не отъезжал от нашего Нарбо дальше, чем на день пути. И римскую дорогу я не видел, нет. Конечно, может быть, она и есть, но, простите меня, господин… Я простой человек. Зачем мне какие-то дороги? Может быть, господин желает горячей бараньей похлёбки? У меня хорошая похлёбка – с чесноком и кореньями, а ещё остался утренний хлеб. У господина усталый вид, ему надо покушать. Что господин желает, пива или вина?
Трактирщик не соврал – похлёбка оказалась горячей, наваристой и ароматной, но травы, которыми она была заправлена, пахли незнакомо – я их не знал. Горячее варево окончательно привело меня в себя, остатки дурноты ушли, но внезапно навалилась такая усталость, что я с трудом взобрался на крышу, лёг на сено, принесённое хозяйскими детьми, положил под голову мешок и откинулся на спину, бездумно глядя в быстро темнеющее небо.
Мыслей не было. Разноцветные искорки звёзд ласково мерцали на небесной сфере, иногда над головой проносилась ночная птица. Дневной зной спадал, остывающая крыша потрескивала. Под ночным ветерком шелестела листва. Вскоре наверх поднялась хозяйка; не обращая на меня внимания, она уложила детей и легла сама, за ней тяжело притопал хозяин. Он долго сопел и возился, устраиваясь на своём месте, потом сразу заснул тем тяжёлым сном, каким спят простецы, измученные тяжёлой, ежедневной подёнщиной. Дети свернулись под боком у матери, как щенки.
В полудрёме я попытался составить план на завтрашний день, но незаметно уснул.
***
Пробуждение оказалось быстрым и неприятным – в дремоте на грани сна и яви я вдруг почувствовал под боком пустоту и с ужасом осознал, что спал на самом краю крыши, которая не имела никакого ограждения. Одно неловкое движение, и я рухнул бы вниз, а там на кольях была распялена рыбацкая сеть. Пришлось снова лечь, теперь уже как можно дальше от края, и дождаться, пока перестанет бухать сердце.
Мне совсем не хотелось провести ещё один день в этом захолустном, унылом месте, поэтому я забрал свои вещи, осторожно спустился по хлипкой, опасно качающейся лестнице и отправился на поиски трактирщика, которого и отыскал на заднем дворе. Он свежевал баранью тушу, подвешенную под деревянной перекладиной, был весь в крови, и с длинным разделочным ножом в руке выглядел устрашающе. Услышав про осла, трактирщик со стуком воткнул нож в колоду, кое-как ополоснул руки в кадке с дождевой водой и повёл меня в хлев. Стоявший там ослик, почуяв запах крови, заревел и забился на привязи, подкидывая круп и лягаясь. Господь наделил меня способностью обращаться с неразумными тварями. Я дал ослику обнюхать руки, почесал ему за ушами, погладил по холке, и вскоре он успокоился и дал себя осмотреть. Ослик был, конечно, не первой молодости, но трактирщик не жадничал и неплохо кормил его, во всяком случае, он не выглядел измождённым, на спине не было потёртостей, губы не разорваны, в копытах не было трещин. Плохо было одно – ослик хромал на левую переднюю ногу. Хозяин клялся, что осёл таким родился, и это не мешает ему выполнять свою ослиную работу. Я осмотрел ногу, и мне показалось, что хозяин не врёт – следов раны или недавнего перелома не было видно. Пока я осматривал ногу, ослик терпеливо стоял, а потом вздохнул и положил мне морду на плечо, щекоча ухо. Это и решило дело.
После завтрака я навьючил на осла мешок с едой, бурдюк с водой и сумку с кое-какими необходимыми мелочами и покинул Нарбо, не оглядываясь, и без всякого сожаления.
– с усмешкой вспомнил я.
Сначала ехать на осле было неудобно, но вскоре я привык к его прихрамывающему шагу и перестал обращать на него внимание. Мой длинноухий скакун неутомимо стучал копытцами, успевая ухватить мягкими губами стебель какого-нибудь придорожного растения. Становилось жарко, и мне пришлось нахлобучить грубую соломенную шляпу, купленную перед отъездом в лавке.
Ехал я, в общем, наугад. Римской, мощёной камнем, широкой дороги видно не было, да, собственно говоря, никакой другой тоже. Узкие тропинки петляли, сливались и без видимой причины исчезали. За спиной у меня было море, по левую руку в дрожащем мареве виднелись далёкие горы. Это были Пиренеи. Пару раз мне попались реки. Одна, мелководная, но быстрая, с чистой и очень холодной водой скакала по камням, устилающим дно. На маленьком галечном пляже я сделал привал, напоил осла и пустил его пастись, а сам, подавляя дрожь, искупался, заменил воду в бурдюке, перекусил, забрался в тень старого дерева, породу которого я не знал, и под журчащую песенку реки мирно проспал до сумерек.
Вечером стало попрохладнее, и я решил, что буду ехать по утрам и вечерам до наступления темноты, а в самое жаркое время дня где-нибудь прятаться.
Вторую реку я в темноте не заметил, а вот ослик оказался более зорким. Он фыркнул, затряс головой и отказался идти дальше. Зная характер этих животных, я не стал его понукать, слез на землю, пошёл посмотреть, что его напугало, и… чуть не рухнул с крутого берега вниз.
Искать брод в сумерках я не стал, поэтому разбил лагерь в чахлой оливковой рощице. Я очень боялся змей, которых неоднократно видел днём, а также ядовитых насекомых, поэтому по совету, данному одним мавром ещё в Константинополе, окружил лагерь кольцом из грубой разлохмаченной верёвки. Продавец уверял меня, что она пропитана особым составом, который совершенно непреодолим для ядовитых гадов.
Красное, как раскалённое железо, солнце валилось за горизонт в окружении перистых облачков, стихали цикады, чей неумолчный стрёкот с непривычки сильно раздражал меня, им на смену пришли какие-то другие существа, они щёлкали, пиликали, иногда расправляли крылья и с треском перелетали с места на место. На фоне темнеющего неба ломаным вихляющим полётом чиркнула стайка летучих мышей. Вскоре набежали тучи, затянули луну, и стало совсем темно. Громадный, незнакомый, враждебный мир сузился до круга, ограниченного огнём моего костерка, и стал почти уютным и домашним. Я боялся, что огонь и запах дыма привлечёт внимание злых людей, но за день так проголодался, что готов был, подобно Исаву, продать первородство за чечевичную похлёбку. Помешивая палочкой в булькающем, испускающем сытный аромат горшке, я повторял про себя:
Сваренная на скорую руку похлёбка показалась необыкновенно вкусной, а речная вода была лучше царского вина. Исав мне всегда казался симпатичнее расчётливого и хитроумного Иакова…
Отужинав, я затоптал костёр, залил угли и тщательно проследил за тем, чтобы не осталось ни одной тлеющей искры. Я боялся ночного пожара – высохшая под злым солнцем трава могла легко вспыхнуть.
Как и всякий человек, я опасался за свою жизнь. Ведь я не воин, и в схватке против двоих-троих опытных и хорошо вооружённых грабителей оказался бы подобен ребёнку. Но больше всего мою душу отравляла неотвязная мысль о том, что если я буду убит в этой пустынной местности, о моей смерти никто и никогда не узнает, и Никита будет ждать в Константинополе, пока не потеряет надежду. Что он подумает обо мне? Что я трус и не исполнил обета, или, хуже того, корыстолюбец, который предпочёл бежать с золотом общины? Эта мысль была нестерпимой. Я тихо застонал и ударил кулаком о землю. Ослик, стоявший рядом, удивлённо посмотрел на меня, пошевелил ушами, потом подошёл и прилёг рядом.
Это встревожило меня. Я знал, что ложатся только больные животные, и если бы мой ослик околел, я не смог бы тащить на себе все вещи и припасы. Тогда моя судьба была бы решена. Но ослик не выглядел больным, он положил морду мне на колени и закрыл глаза в надежде на то, что я почешу его. Он просто ласкался, возможно, впервые в жизни, почувствовав во мне доброго хозяина. Я погладил его, потом улёгся под тёплый бок и спокойно заснул.
Следующий день ничем не отличался от прошедшего, разве что был ещё жарче. Прошёл короткий ливень, который не принёс облегчения – вода сразу впиталась в почву, а на солнцепёке заструилось душное марево. К полудню мой ослик выбился из сил, да и я обливался потом. Вода в бурдюке была тёплой и начала попахивать. Пить её я опасался. К несчастью, по дороге не попалось ни одной речки или ручья, и мы изнывали от жажды.
Впереди я увидел рощицу и поехал к ней, чтобы ехать хоть куда-нибудь. Старые, корявые оливы почти не давали тени, но зато я нашёл колодец! Бог знает, кто и когда его выкопал. Он был обложен плоскими камнями, ни ведра, ни верёвки не было. Я бросил в колодец камешек и прислушался. В глубине раздался плеск. Вода! В горле у меня пересохло, в глазах помутилось. Я взял верёвку, которой окружал свои ночные стоянки, привязал к ней бурдюк и стал потихоньку опускать его. «Господи! – молился я про себя, – сделай так, чтобы бурдюк достал до воды!» И Господь внял моей молитве – бурдюк внезапно потяжелел. Я поднял его – он был полон! Рядом с колодцем лежала каменная колода, в которой, очевидно, поили скотину. Она была старой, как мир. Камень крошился под пальцами. Я отлил часть воды в колоду, а потом напился сам. Вода была чистой и очень холодной, слегка пахнущей тиной. Я наслаждался ею. Сначала я хотел облиться, но потом остерёгся – в такую жару это грозило горячкой.
До вечера я решил остаться в этой рощице, и от нечего делать стал осматривать колодец. По бортику шла надпись, вырезанная в камне, но на каком языке она была сделана и что означала, я не понял. Это были не руны, а какие-то незнакомые значки. Наверное, люди жили здесь ещё в библейские времена, а потом бросили свою родину под натиском враждебных племён. Возможно, их скосила забытая ныне болезнь, а может, эти места просто-напросто оскудели, и они ушли искать лучшей доли. Кто знает?
Моё путешествие длилось уже третий день, но я не встретил не только ни одного поселения, но и ни одного путника, козопаса или охотника. С одной стороны, это было плохо, потому что я надеялся узнать дорогу до Тулузы и разжиться едой, а с другой – хорошо, потому что я не мог предвидеть намерения этих людей. В любом случае, выбора у меня не было, оставалось ехать вперёд, вложив свою судьбу в длань Божью.
Местность была однообразной, и временами казалось, что я сделал круг и еду обратно. Конечно, это было не так, потому что по левую руку я временами видел отроги Пиренеев. Равнина понемногу поднималась, появились невысокие холмы. На один я взобрался в надежде увидеть римскую дорогу, но кругом было одно и то же. Посвистывал ветер, стрекотали цикады, часто мелькали фиолетовые цветочки лаванды, которые на жаре издавали приятный, но густой запах, от которого кружилась голова. От нечего делать я пытался отыскать в разнотравье знакомые целебные растения, чтобы при возможности пополнить свою лекарскую сумку, но ничего интересного не попадалось. Иногда под копытами ослика струилась серая лента змеи, часто выскакивали какие-то мелкие зверьки, напоминавшие крыс. Крупных животных, в особенности волков, встречи с которыми я серьёзно опасался, не попадалось. Сначала я по ночам прислушивался, но было тихо, только потрескивала, остывая, разогретая за день земля, да журчала вода в том случае, если мне везло, и я находил речушку или ручей.
Вечером я решил двигаться дальше, но примерно через колокол неспешного пути ощутил запах дыма и жареного мяса. Ветер дул мне навстречу.
Первым порывом было как можно быстрее поехать навстречу неизвестным путникам, ибо одиночество было тяжело мне, но потом осторожность взяла верх, и я решил, не показывая себя, посмотреть, кого послал Господь.
Стреножив осла, я, пригибаясь, пошёл в сторону костра, отблески которого были видны издалека, потом встал на четвереньки, а под конец пути неумело пополз.
В низине между тремя невысокими холмами пылал костёр. У огня сидели три человека, внешний вид которых мне настолько не понравился, что я возблагодарил Господа за проявленную осторожность. Эти люди выглядели как самые настоящие дикари – с нечёсаными гривами волос, усами и бородами, заплетёнными в мелкие косички. Несмотря на жару, они были одеты в овчинные безрукавки на голое тело. Лица у них были то ли грязными, то ли разрисованными, а может быть, татуированными. Они переговаривались на непонятном языке громкими, хриплыми голосами, передавая друг другу бурдюк с хмельным напитком. На прутьях, воткнутых в землю, жарилось мясо, жир с него стекал в огонь, который чадил и плевался искрами. Мясо подгорало, но мужчин это, очевидно, не смущало.
Я решил, что мне не стоит связываться с этими людьми самого разбойничьего вида, и раздумывал, как лучше отползти – задом наперёд, не теряя разбойников из виду, или всё-таки развернуться.
Внезапно из темноты раздался громкий голос. Я не разобрал слов, но человек говорил явно по-французски. Один из разбойников вытащил из костра пылающий сук и поднял его над головой. Я увидел, что в стороне от костра лежит связанный человек в господской одежде. Разбойник что-то рявкнул, подошёл к пленному и с размаху пнул его ногой в бок. Тот застонал, а сидящие у костра довольно заржали. Разбойник кинул сук обратно в костёр, забрал у одного из сидящих бурдюк и, запрокинув голову, стал пить, при этом жидкость стекала у него по груди.
Я вдруг понял, что человек, лежащий у костра, обречён, и если Господь решил дать ему последний шанс выжить, то этот шанс – я. Теперь я не мог уйти, бросив беспомощного пленника на верную погибель. Но что же мне делать? Вступить в схватку с тремя разбойниками я не мог, это просто означало бы мою немедленную гибель или то, что я разделил бы судьбу пленного. Надо было что-то придумать. Но что? Я лежал, мучительно колеблясь. Стебель какого-то растения мешал мне смотреть, я осторожно сломал его, и запах растительного сока внезапно подсказал решение. У меня в мешке был изрядный запас сонной травы, я окуривал ею больных, которым предстояла болезненная операция вроде вскрытия нарыва или вправления вывиха. Если бросить её в костёр, то можно надеяться, что разбойники заснут как минимум на четверть колокола. Но как бросить? Незаметно подползти к костру я не мог, разбойники обязательно заметили бы меня, хотя были уже изрядно пьяны. Пришлось ползком возвращаться за лекарским мешком и возвращаться с сонной травой.
Дикари оставались на своих местах, и тут Господь помог мне – из темноты раздалось испуганное лошадиное ржание. Оказывается, у разбойников были лошади, и вот, что-то их испугало. Вся троица бросилась в темноту. Я понял, что этот шанс – единственный, вскочил, подбежал к костру и щедро сыпанул сонной травы в огонь, уменьшив свой запас наполовину. Взвился клуб дыма, своеобразно и резко запахло. Миг – и я оказался на прежнем месте. Я боялся всего – что разбойники слишком долго пробудут с лошадьми и трава прогорит, что они почувствуют незнакомый запах, что трава не подействует на этих здоровенных и пьяных громил. Но всё вышло как надо.
Разбойники скоро вернулись к костру и опять взялись за бурдюк. Один из них принюхался и что-то сказал, другой махнул рукой и показал на капающий в огонь жир. Скоро первый разбойник раздирающе зевнул, улёгся у костра и захрапел. За ним последовал второй. Дольше всех держался третий, самый старший, но вскоре сморило и его.
Подождав немного для верности, я вытащил нож и бросился к пленному. Ветер дул от него, и вряд ли француз успел нанюхаться одуряющего дыма, а вот если его ноги слишком крепко стянуты, идти он точно не сможет. Но оказалось, что разбойники связали пленнику только руки, а ноги спутали верёвкой наподобие того, как это делают с лошадьми. Француз с изумлением смотрел на своего спасителя, который внезапно выскользнул из тьмы и перерезал верёвки на его ногах и руках. Я жестом показал, что надо скорее бежать, но тот отрицательно покачал головой. Он забрал у меня нож, проверил его остроту, пошатываясь, шагнул к первому разбойнику, схватил его за бороду, запрокинул голову и одним быстрым движением перерезал горло, ловко отстранившись, чтобы не запачкаться кровью. Затем он небрежно выпустил из рук голову дёргающегося в агонии человека так, что она со стуком ударилась о землю, и направился ко второму. Второй разбойник был убит так же быстро и беспощадно. Третий, видимо, что-то почуял, потому что завозился и замотал головой, пытаясь избавиться от сонной одури. Француз подскочил к нему и ударил ножом в сердце с такой силой, что нож обломился у самой рукояти.
– Что ты наделал?! – воскликнул я, – зачем ты взял грех на душу, убив трёх человек? Мы вполне успели бы убежать.
Француз тщательно вытер руки об одежду убитого, выпрямился и с изумлением спросил:
– Ты что, спятил? Это же рутьеры!
– Кто?
– Ну, рутьеры, баски… Ты не местный, что ли?
– Я ромей, приплыл из Константинополя. Кто такие рутьеры?
– А-а-а, – протянул француз, – то-то я слышу, говоришь ты не по-нашему, у меня на это слух острый. – При этом он ловко обшаривал тела разбойников.
– Вонь из-под хвоста Вельзевула! – выругался он. – Проклятая нищета! Ни одной монеты! Только вот… – он кинул мне под ноги нож. – Возьми, я сломал твой.
Нож был скверно откован и имел грубую костяную рукоять. Он был длиннее моего старого ножа и не помещался в ножнах, поэтому я вертел его в руках, не зная, что с ним делать.
– Рутьерами в наших краях зовут горцев из земли басков. Они живут в В Пиренеях, пасут и … коз (тут француз употребил площадное словцо), сбиваются в банды и шатаются по Лангедоку. Иногда их нанимают наши сеньоры, чтобы их руками свести счёты друг с другом или выбить долги из вилланов, но чаще они грабят кого попало. Рутьеры живут войной и грабежом. Если бы нам удалось сбежать, они встали бы на след и преследовали нас, пока мы не упали бы без сил. И вообще, если здесь была только часть банды, то нам конец – они не отстанут. Поэтому берём их лошадей и скачем что есть духу, чтобы оторваться от преследования. Умеешь ездить верхом?
– Умею.
– Ну и отлично! Вон там у них лошади, я поеду на своей, ты выберешь себе верховую, а две будут заводными. Где твои вещи?
– Там… – я махнул рукой. – Но у меня там ослик…
– Придётся его бросить! Он не угонится за лошадьми. Забирай свои вещи, расседлай его и отпусти, а я пока приведу лошадей.
– Постой, а как же мёртвые?
– Оттащим в овраг, да и всё, – пожал плечами француз. – Там их вряд ли найдут, разве что когда падаль завоняет.
– Я не о том. Мёртвых надо похоронить по христианскому обряду, иначе они не наследуют Царствия Небесного, и этот грех будет на нас.
– А с чего ты взял, что эти вот дохлые рутьеры были христианами? – насмешливо прищурился француз.
– А разве нет?
– Понятия не имею. Ты лучше скажи: читать заупокойную молитву над язычником грех?
– Наверное, грех.
– Во-от. Стало быть, грех на грех – и мы с тобой чисты, аки голуби, – фыркнул тот. – Хватит болтать! Бери за ноги вон того и тащи в овраг.
Потом я сходил к тому месту, где дремал ослик, расседлал его и снял со спины мешки. Мне было до слёз жаль расставаться с длинноухим и добрым спутником, но я надеялся, что он не пропадёт – пропитания для осла кругом было достаточно, а хищных зверей в округе вроде бы не было. Я погладил его на прощанье и, не оглядываясь, вернулся к костру. Француз ждал меня, держа в поводу двух лошадей.
– Ездовая скотинка у рутьеров неказистая, но выносливая. Где твои вещи?
– Вот.
– Они будут на этой вьючной лошади. Возьми её в повод. Готов? Поскакали!
– А костёр?
– И опять ты прав! Что-то я сегодня дурак дураком!
Француз взял бурдюк, из которого пили рутьеры, и выплеснул его содержимое на огонь. Костёр зашипел, воздух наполнился смрадом. Похоже, что разбойники пили не вино, а забродившее кобылье молоко.
– Проклятье! Эта вонища выдаст нас с головой! Ну да сделанного не воротишь. Вперёд!
И началась скачка, которую я буду помнить до конца своих дней. Ночь была светлая, но всё равно, быстрая рысь – не тот аллюр, который подходит для бездорожья. Если бы лошадь споткнулась или её нога угодила в рытвину, я бы свалился и неминуемо сломал себе шею. Но, похоже, лошади в сумраке видели лучше людей. Они бежали уверенно и ровно, после двух колоколов скачки я не замечал у них признаков усталости.
– Куда мы направляемся? – спросил я у француза.
– А куда глаза глядят! – беспечно ответил тот. – Лишь бы подальше от трупов.
Пару раз мы переезжали вброд ручьи и один раз долго ехали по воде мелкой речки.
– Собак у рутьеров вроде нет, – пояснил француз, – но бережёного…
На предутреннем небе появились розовые облака, похожие на крылья удивительных птиц, которых я видел на болотистом побережье Массилии. Впереди показалось полуразрушенное строение. Я окликнул своего спутника:
– Эй, послушай! Вон, впереди какой-то дом. Ты, если хочешь, можешь скакать хоть до Тулузы, а я остаюсь здесь и попрошу пристанища у его обитателей, кто бы они ни были.
Француз остановил коня и, привстав в седле, долго разглядывал дом.
– Похоже, он давно заброшен. Вон, угол крыши провалился, вокруг нет тропинок, да и птицы на деревьях не беспокоятся. Ладно, будь по-твоему, остановимся здесь. Надеюсь, мы уехали достаточно далеко, и рутьеры нас не найдут.
Мы осторожно подъехали к дому и убедились в том, что француз прав – он был давно покинут. Да и вообще, это был не дом, а овечий хлев. Дверей и оконных рам не имелось, солома на закаменевшем земляном полу давно рассыпалась в прах. Зато сохранился сложенный из дикого камня очаг, а за домом я обнаружил колодец. Расседлав и напоив лошадей, мы разожгли очаг и поставили на огонь похлёбку. Я заметил, что француз уклоняется от тяжёлой и грязной работы, молчаливо отводя мне роль слуги.
– Послушай, друг мой, – сказал я. – Ты мне не господин, а я не слуга тебе. Если ты намерен и впредь оберегать свои руки от работы, то рискуешь остаться голодным и спать на голой земле.
Француз резко повернулся ко мне, намереваясь выругаться или ударить, как он, видимо, привык делать со слугами, но вовремя сообразил, что это выглядело бы неблагодарностью, и рассмеялся.
– Ты прав, грек! Я так привык, что всю грязную работу выполнял за меня мой жонглёр, что невольно решил взвалить её на тебя. Похоже, придётся обходиться без слуги, пока я не найду себе нового или, вернее, не наберу денег, чтобы платить ему. Хотя, найти приличного жонглёра не так-то просто.
– Кто такой жонглёр?
– Проклятье! Я всё время забываю, что ты чужеземец. Жонглёр – это подручный трубадура, а трубадур – это я. Кажется, я забыл назвать своё имя. Но в этой сумятице ещё хорошо, что я сам не забыл, как меня зовут, клянусь сраными подштанниками господа бога! Эн Юк де Сент Сирк из Керси собственной персоной. Тут мне полагалось бы снять шляпу и раскланяться, но, ты уж прости, шляпы у меня нет, пропала вместе со всем моим добром, обойдёшься и так. Чего хмуришься? Не нравится моя божба? Думаешь, сейчас с неба слетит молния и попадёт мне точнёхонько в дыру в заднице? Ну, думаешь ведь? Да не кривись, как будто у тебя трёхдневный запор! Нет никакой молнии и не будет. Господу, если он вообще существует, до букашек, вроде нас с тобой, нет никакого дела. А вообще, есть у меня подозрение, что и бога-то нет, всё это придумали хитрые и жадные попы, чтобы тянуть денежки из деревенского дурачья.
Трубадур, сидя на корточках, бросал ветки в огонь. Длинные волосы падали ему на лицо и он привычным движением заправлял пряди за уши. Красивым я бы его не назвал, скорее, его лицо было смазливым, из тех, что так нравятся глупым и похотливым женщинам. Правильные черты, тонкогубый рот, льдистые голубые глаза, светлые волосы. Он был хорошо сложён и явно физически силён.
– Позволено ли мне будет узнать имя своего спасителя? – спросил трубадур с дурашливым поклоном.
– Моё имя – Павел. Я целитель. Французы зовут меня Павел Иатрос.
– Целитель? – удивлённо переспросил трубадур. – Вот, значит, откуда твоя трава с сонным дымом. А я-то гадал! Думал, что ты колдун. Подружиться с колдуном – это конечно, хорошо, но опасно. Возьмёт да и превратит с похмелья тебя в крысу! А целитель – это хорошо. Так мы с тобой заработаем гораздо больше. Я буду петь жёнам и дочкам сеньоров сладенькие кансоны и альбы,[20]20
Кансона, альба, сирвента – жанры поэзии трубадуров.
[Закрыть] а ты станешь лечить последствия их любовного томления, ха-ха!
– Как же ты слагаешь стихи, если душа твоя залита желчью? Для тебя что, нет совсем ничего святого?