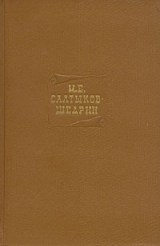
Текст книги "Том 17. Пошехонская старина"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 45 страниц)
Особенно продуктивными для «Пошехонской старины» оказались летние месяцы 1888 года, проведенные на даче, близ станции Преображенская Варшавской железной дороги. Посетивший Салтыкова, после его возвращения с дачи, А. Н. Плещеев писал А. П. Чехову (13. IX. 88): «Что достойно большого удивления – это деятельность Салтыкова. Человек полуразрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил для «Вестника Европы» матерьял на шесть №№, то есть до февраля будущего года включительно, – так, что ему остается еще написать на две книжки журнала, и он кончит свою «Пошехонскую старину» < …>. Этот больной старик, перещеголяет всех молодых и здоровых писателей» [71]71
«Записки Отд. рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», вып. VI. М., 1940, с. 73.
[Закрыть].
История писания и печатания «Пошехонской старины» достаточно полно прослеживается по переписке Салтыкова и сохранившимся рукописям «хроники» [72]72
Исследованию рукописей «Пошехонской старины» с целью анализа «лаборатории» творческой работы посвящена книга: Н. В. Яковлев. «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Из наблюдений над работой писателя). М., «Советский писатель», 1958.
[Закрыть]. Четыре особенности присущи этой истории. Во-первых, недовольство писателя тем, что выходило из-под его пера [73]73
Салтыкову всегда было свойственно некоторое недоверие к силе своего таланта, особенно к его художественным, пластическим возможностям. Болезнь усилила это недоверие.
[Закрыть]. Во-вторых, физические страдания тяжело больного. В-третьих – трудные общественные переживания. В-четвертых, наконец, парадоксально противостоявший этим отрицательным условиям и объективно побеждавший их подъем творческих сил писателя, созидавших шедевр.
Недовольство написанными главами, неверие в высокие оценки своего труда, дававшиеся друзьями и печатью, сомнения в целесообразности продолжения работы – главенствующие мотивы писем Салтыкова периода создания «Пошехонской старины»: «Боюсь, что нескладно вышло и Стасюлевич откажется принять»; « …Стоит ли продолжать?»; « …хотя в октябрьской и ноябрьской книжках «Вестника Европы» и появятся мой статьи, но я сам знаю, что они до крайности плохи, нескладны и бесцельны»; « …я уже далеко не тот, что прежде, и хотя готовлю продолжение, но кажется, это будет последняя статья, на которой я и покончу свое литературное поприще. Выходит нескладно, бесцельно и даже безобразно …»; «Здесь мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят огорчить хворого человека»; «Пошехонская старина» выходит плохо – это. кажется, общее мнение …»
Такими и подобными им признаниями и вопросами, исполненными горечи и разъедающих сомнений, заполняет Салтыков свои эпистолярные послания 1887–1888 годов. Чуть ли не каждая глава «хроники» казалась ему последнею, и он не уставал спрашивать друзей, знакомых, своих редакторов-издателей: хорошо ли он делает, что пишет «это»? не лучше ли бросить? Таково, например, исполненное драматизма его письмо к M. M. Стасюлевичу: «Ради бога, скажите мне по сущей правде, стоит ли продолжать «Пошехонскую старину», ежели продолжение будет не лучше последней статьи [74]74
Главы «Дети» и «Тетеньки-сестрицы». – С. М.
[Закрыть], не будет ли это напрасным трудом, свидетельствующим об упадке таланта? И если мне еще суждено писать (в чем я крепко сомневаюсь), то не лучше ли разрабатывать другой сюжет? Последняя статья мне кажется совсем плохою, насильственно выжатою».
Мукам творческих сомнений сопутствовали и во многом, конечно, определяли их физические страдания. «Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу …»; «Целое лето провел в неслыханных страданиях …»; « …Полчаса пишу, полчаса в постели лежу – так с утра до вечера»; « …Сяду писать, – не успею и несколько строк кончить, как в пот бросает и начинается задышка; пальцы на руках воспалены …»; «Пропадает память, теряю слова, голова как пустая < …>. До такой степени несносно, что по временам плачу»; « …мне худо как никогда, и от писания я, видимо, должен отказаться»; «болезнь моя в последнее время до того усилилась, что я прошу у судьбы одного: смерти» …
Таков другой ряд жалоб, стонов и воплей, наполняющих письма автора «Пошехонской старины» в дни и месяцы ее писания.
Действительно, великое предсмертное произведение Салтыкова создавалось в обстановке нестерпимых физических страданий, почти психопатологической слежки его автора за своим умирающим телом, чуть не ежедневного ожидания последнего конца, глотания лекарств, совещаний с врачами и подготовки к таким совещаниям. Наглядное представление этой обстановки, непосредственное ощущение ее дают рукописи «Пошехонской старины». На полях чернового автографа главы XXIX («Валентин Бурмакин») читаем, например, такие записи Салтыкова о своей болезни, сделанные карандашом: «Дергание ноги, бок болит, голова болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову». Тут же вопрос к врачу: «Вместе ли пилюли с микстурой?» На черновике главы XXX («Словущенские дамы и проч.») новый вопрос для врача: «Отчего трудно прислониться спиной и лечь на спину?» В другом месте той же главы: «Отчего все болит?» Еще в одном месте: «Когда же конец?» …
Однако не только физические страдания и опасения утраты творческих сил и самого разума (Салтыкову по временам казалось, что он идет к безумию) определяли драматизм последних лет писателя. Его жизнь омрачалась также семейным нестроением и, еще больше, глубоко трагическими восприятиями общественной жизни, зрелищем, с одной стороны, торжествующей официальной России – победоносцевско-катковской, а с другой – «пестрого» и «унылого» мира «восьмидесятников», в сердцах которых, по позднейшему слову Александра Блока, «царили сон и мгла».
«Скажу Вам откровенно, – писал Салтыков в июле 1888 года Н. А. Белоголовому, – я глубоко несчастлив. Не одна болезнь, но и вся вообще обстановка до такой степени поддерживают во мне раздражительность, что я ни одной минуты льготной не знаю < …>. Что-то чудовищное представляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди!» И о том же Г. З. Елисееву: «Хотелось бы «Пошехонскую старину» кончить < …> и затем навсегда замолчать. Вижу, как волны забвения все ближе и ближе подступают, и тяжело старому литературному слуге бороться с этим. Негодяи сплотились и образуют несокрушимую силу < …>. Вот с каким убеждением приходится умирать».
И вот – одна из тайн писательской биографии Салтыкова последних лет его жизни, одна из тайн творчества вообще – могучий подъем художественной силы и производительности литературного труда умиравшего «русского Езопа».
Лица, близко наблюдавшие Салтыкова, когда он создавал «Пошехонскую старину», в том числе лечащие его врачи, а среди последних С. П. Боткин, единодушны в свидетельствах, что писатель представлял в это время необычайную психическую загадку. В одном из писем осени 1887 года к П. Л. Лаврову Н. А. Белоголовый, живший тогда в Швейцарии, сообщал своему корреспонденту в Лондон, на основании известий, полученных из Петербурга, в том числе от С. П. Боткина: «Писем за последнее время было мало, и в них интересного только то, что Салтыков работает неутомимо и сам говорит, что его голова переполнена сюжетами и он мог бы наводнить своими работами все русские журналы. Просто непостижима эта способность несомненно затронутого мозга, да еще в 60-летнем возрасте!» [75]75
Письмо из Vevey от 24 окт. <1887 г.>. – ЦГАОР, ф. П. Л. Лавров, п. 36, лл. 99-100.
[Закрыть]
Мучения болезни и трудные моральные переживания довели и без того сверхъестественную возбудимость и раздражительность Салтыкова до пределов, сделавших практически невозможными все формы обыденных сношений его с друзьями и знакомыми. Но в сфере творчества эта гипертрофированная возбудимость и чувствительность привели не к упадку, а к подъему. Оставаясь наедине с собой, Салтыков и в самые тяжелые часы страданий уходил в мир образов, вызываемых его памятью из далекого детства с конкретностью и яркостью почти визионерского видения. Он освобождался от этих миражей или призраков прошлого лишь после того, как силой своего творческого напряжения воплощал их в художественные образы и целые огромные картины. «Представлявшиеся ему в воображении образы, – писал об этой особенности последнего этапа творчества своего друга А. М. Унковский, – не давали ему покоя до тех пор, пока он не изображал их < …>. «А как только напишу, – говорит, – так и успокоюсь». В особенности жаловался он на такое состояние в течение последнего времени < …>, когда писал «Пошехонскую старину». Я и многие лица, навещавшие его в это время, часто слышали от него, что вызываемые его воображением образы из давно прошедшего не дают ему покоя даже ночью …» [76]76
«Салтыков в воспоминаниях …», с. 655,
[Закрыть]
Посетившему его Л. Ф. Пантелееву Салтыков также говорил: «Ах, поскорее бы кончить, не дают мне покоя (персонажи «Пошехонской старины»), все стоят передо мною, двигаются; только тогда и отстают, когда кто-нибудь совсем сходит со сцены» [77]77
Там же, с. 190.
[Закрыть].
Эти слова были сказаны в первые дни 1889 года, а 18 января Салтыков извещал Н. А. Белоголового: «Я кое-как покончил с «Пошехонской стариной», то есть попросту скомкал. В мартовской книжке появится конец, за который никто меня не похвалит. Но я до такой степени устал и измучен, что надо было во что бы то ни стало отделаться».
В мартовской книжке «Вестника Европы» появились две главы «хроники» – XXX и XXXI, из которых вторая оказалась последней. Она была названа «Заключение» и снабжена «постскриптумом» от автора. В нем Салтыков сообщал читателям: «Здесь кончается первая часть записок Никанора Затрапезного, обнимающая его детство. Появится ли продолжение хроники – обещать не могу, но ежели и появится, то, конечно, в менее обширных размерах, всего скорее в форме отрывков …»
Замыслу рассказать, хотя бы и фрагментарно, вслед за детством, также и юность Никанора Затрапезного, а значит, и свою собственную, не суждено было осуществиться. «Пошехонская старина» стала фактически последним [78]78
См., однако, в настоящем томе «Забытые слова» – предсмертный набросок Салтыкова.
[Закрыть]и по существу не вполне законченным произведением Салтыкова. Корректура заключительных глав была подписана им 28 января. Этой же датой помечено окончание работы над «хроникой» в ее журнальной публикации. А ровно через три месяца, 28 апреля 1889 года, смерть прервала жизнь и работу писателя.
* * *
«Пошехонская старина» – многоплановое произведение. Оно совмещает в себе три слоя: « житие» – повесть о детстве (предполагалось и о юности) на автобиографической основе, историко-бытовую « хронику» – картины жизни в помещичьей усадьбе при крепостном праве, и публицистику– суд писателя-демократа над крепостническим строем и обличение духа крепостничества в идеологии и политике России 80-х годов. Первые два слоя даны предметно (сюжетно). Последний заключен в авторских «отступлениях»; кроме того, он задан в подтексте произведения, заложен в идейной позиции автора.
Русская литература XIX века знает несколько автобиографических повествований о детстве, признаваемых классическими. «Пошехонская старина» – одно из них. Хронологически она занимает место после «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова внука» С. Аксакова [79]79
Салтыков не раз признавал и в письмах, и на страницах своих сочинений, вплоть до «Пошехонской старины», силу впечатления, испытанного им от эпически-бытовых полотен С. Т. Аксакова. Несомненно, они входят в генезис салтыковской «хроники».
[Закрыть]и «Детства» и «Отрочества» Л. Толстого и предшествует «Детству Темы» Гарина-Михайловского. Не уступая названным произведениям в художественной силе и яркости красок (хотя и крайне суровых тонов), салтыковсхая «хроника» отличается от них глубиною своего социального критицизма, пронизывающего все повествование. С этой особенностью «хроники» связано и принципиально иное, чем у названных писателей, отношение Салтыкова к автобиографическому материалу. Он используется не только и не столько для субъективного раскрытия собственной личности, душевного мира и биографии повествователя, сколько для объективного обозрения изображаемой социальной действительности и суда над нею.
«Хроника» ведется в форме рассказа («записок») пошехонского дворянина Никанора Затрапезного о своем «житии», – собственно лишь о детстве. В специальном примечании, начинающем произведение, Салтыков просит читателя не смешивать его личность с личностью Никанора Затрапезного и заявляет: «Автобиографического элемента в моем настоящем труде очень мало; он представляет собой просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу».
В одной из первоначальных рукописей эти же указания даны более конкретно и развернуто. «Писать так называемую автобиографию, – читаем здесь, – я счел неудобным, во-первых, потому что автобиографические подробности слишком частны и не имеют общего интереса, а во-вторых, потому что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюсти: свое и чужое, и то, что пережил, и то, что видел и слыхал у других. Повторяю: это не автобиография, а свод жизненных наблюдений, в котором немалое место занимает и вымысел, согласованный с описываемым порядком вещей. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное» [80]80
ИРЛИ, ф. 366, оп. 1, рук. № 239. Об отношении Салтыкова к «автобиографическому труду», то есть все к той же «Пошехонской старине», см. еще в его письме к Н. А. Белоголовому от 24 июня 1887 г.: « …Вы, кажется, ошибаетесь, находя эту работу легкою. По моему мнению, из всех родов беллетристики – это самый трудный. Во-первых, автобиографический материал очень скуден и неинтересен, так что необходимо большое участие воображения, чтоб сообщить ему ценность. Во-вторых, в большинстве случаев не знаешь, как отнестись к нему. Правду писать неловко, а отступать от нее безнаказанно, в литературном смысле нельзя: сейчас же почувствуется фальшь».
[Закрыть].
Салтыков, таким образом, не отрицает присутствия «автобиографических элементов» в своей «хронике», но ограничивает их роль и значение, настаивая на том, что он писал не автобиографию или мемуары, а художественное произведение, хотя и на материале своих воспоминаний.
Действительно, Салтыков отнюдь не ставил перед собой задачи «полного восстановления» – «restitutio in integrum» всех образов и картин своего детства, хотя они и предстояли перед его памятью «как живые, во всех мельчайших подробностях». Вместе с тем биографический комментарий к произведению, осуществленный при помощи материалов семейного архива Салтыковых и других объективных источников, устанавливает, что в «Пошехонской старине» есть много автобиографического, что писатель воспроизвел на ее страницах, и очень точно, немало подлинных фактов, имен, эпизодов и ситуаций из собственного своего и своей семьи прошлого [81]81
Элементы такого биографического комментария см. ниже, в примечаниях к отдельным главам.
[Закрыть].
Автобиографичность «Пошехонской старины» подтверждают, сверх архивных документов, и свидетельства лиц, близко стоявших к Салтыкову и которым так или иначе пришлось критически сопоставлять повествование Никанора Затрапезного с изустными рассказами о себе самого Салтыкова.
«Пошехонская старина» его, – утверждал земляк и друг Салтыкова А. М. Унковский, – эта та самая среда и есть, в которой подрастал будущий сатирик. Действительно, этот уголок губернии <Тверской> был самым несчастным: крепостное право доходило в нем до ужаса …Помещики даже морили себя голодом из экономии» [82]82
«Салтыков в воспоминаниях …», с. 608.
[Закрыть]. «Очень охотно любил он говорить о своем прошлом, – пишет главный мемуарист Салтыкова, доктор Н. А. Белоголовый, – вспоминать свое детство, и значительную часть этих детских воспоминаний я нашел впоследствии воспроизведенной в его «Пошехонской старине» …» [83]83
«Записки А. М. Унковского». – «Русская мысль», 1906, № 6, с. 187.
[Закрыть]
«Едва ли можно сомневаться в том, – замечает К. К. Арсеньев, – что «Пошехонская старина» дает верную картину умственного и нравственного развития Салтыкова, доведенную, к сожалению, только до окончания домашнего воспитания, то есть до десятилетнего возраста» [84]84
К. К. Арсеньев. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова при т. 1 «Полн. собр. соч. Салтыкова», изд. Маркса, с. 12.
[Закрыть]. То же самое утверждает другой биограф сатирика из его современников, С. Н. Кривенко. По его словам, многое из того, что Салтыков лично рассказывал ему о себе, оказалось воспроизведенным с буквальной точностью в «Пошехонской старине» [85]85
С. Н. Кривенко. М. Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1896, с. 12.
[Закрыть].
Насыщенность «Пошехонской старины» автобиографическими элементами несомненна. И все же даже наиболее «документированные» страницы «хроники» не могут безоговорочно рассматриваться в качестве автобиографических или мемуарных. Для правильного понимания «автобиографического» в «Пошехонской старине» нужно иметь в виду два обстоятельства.
Во-первых, биографические realia детства Салтыкова введены в произведение в определенной идейно-художественной системе, которой и подчинены. Система эта – типизация. Писатель отбирализ своих воспоминаний то, что считал характерным для тех образов и картин, которые рисовал. «Теперь познакомлю читателя с < …> той обстановкой, которая делала из нашего дома нечто типичное», – указывал Салтыков, начиная свое повествование – и продолжал: «Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших из рядов оседлого дворянства < …> и видевших описываемые времена, найдут в моем рассказе черты и образы, от которых на них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дворянской жизни был везде одинаков …»
Во-вторых, и это главное, нельзя забывать, что в «Пошехонской старине» содержатся одновременно «и корни и плоды жизни сатирика» [86]86
Н. К. Mихайловский. Соч., т. V. СПб., 1897, с. 235.
[Закрыть]– удивительная сила воспоминаний детства и глубина итогов жизненного пути, последняя мудрость писателя. С этим связана особая позиция автора, позиция двойной субъективности.
«Автобиографическая» тема в «Пошехонской старине» полифонична. Она двухголосна. Один «голос» – воспоминаниямальчика Никанора Затрапезного о своем детстве. При этом маска этого персонажа нередко снимается, и тогда повествователь предстает перед читателем в лице «я» самого Салтыкова [87]87
Такие демаскировки осуществляются ссылками на факты собственной биографии автора, то есть Салтыкова, выходящие за рамки детства Никанора Затрапезного. См., например, с. 33, где Салтыков вспоминает о своей жизни в Ницце, в 1876 г. См. также с. 131, где автор делится впечатлениями от своих наездов «в зрелых летах» в Заболотье, то есть в Заозерье, собственное свое, с братом Сергеем Евграфовичем, имение Ярославской губернии, – и мн. др.
[Закрыть]. Другой «голос» – сужденияо рассказанном. Все они определяются и формулируются с точки зрения общественных идеалов, существование которых в изображаемых среде и времени исключается. Оба «голоса» принадлежат Салтыкову. Но они не синхронны. Два примера проиллюстрируют сказанное.
В главе «Заболотье» автор пишет: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал; не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика». Это – воспоминание, одно из конкретных впечатлений детства. Но дальше следует автобиографическое обобщение приведенного воспоминания, вывод из него: «Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни и что – только пережив все его фазисы – я мог прийти к полному, сознательному и страстному отрицанию его». Это – уже суждение, оценка детского опыта с позиций опыта всей прожитой жизни.
Другой пример – одно из интереснейших автобиографических признаний Салтыкова, сопоставимых лишь с аналогичными признаниями других великих социальных моралистов, Руссо и Толстого. Речь идет о главе V «Первые шаги на пути к просвещению». В ней содержится удивительное свидетельство Салтыкова, совпадающего здесь с Никанором Затрапезным, об обстоятельствах своего гражданского рождения, о «моменте» возникновения в его душевном мире – почти ребенка – сознания и чувства социальной несправедливости мира, в котором он рос. Салтыков считая таким «моментом» те весенние дни 1834 года, – ему шел тогда деаявда год, – когда, роясь в учебниках, он случайно отыскал «Чтения из четырех евангелистов» и самостоятельно прочел книгу [88]88
Рукописный текст содержит существенные варианты в описании характера и обстоятельств знакомства Салтыкова (Затрапезного) с Евангелием. См. их в дальнейшем изложении, а также в разделе Из других редакций. Но сути признания эти варианты не меняют.
[Закрыть].
«Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот, – свидетельствует Салтыков от имени Никанора Затрапезного. – Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня …Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания».
В своих воспоминаниях известный публицист Г. З. Елисеев, близко стоявший к Салтыкову, рассказывает, что, прочтя в «Вестнике Европы» цитированное признание, он заинтересовался, «насколько это сообщенное Салтыковым сведение о таком раннем возникновении в нем самосознания может считаться несомненно подлинным материалом для его биографии». «Мне никогда не случалось видеть людей, – поясняет Елисеев, – или даже слышать о таких людях, в которых бы в таком раннем возрасте являлось такое определенное сознание самого себя и всего окружающего …»
При первом же посещении Салтыкова Елисеев высказал ему свои сомнения по этому поводу. «Но, – пишет он, – Салтыков отвечал мне < …> что именно было все так, как он описал в своей статье». Через некоторый промежуток времени, по другому поводу, Салтыков повторил Елисееву, что «то, что он написал о своем раннем развитии в детских летах < …> действительно было именно так, как он написал» [89]89
«Некрасов и Салтыков». Из посмертных бумаг Г. З. Елисеева. – «Русское богатство», 1893, кн. 9, с. 55–56.
[Закрыть]. Другой современник, также давно и хорошо знавший Салтыкова, А. Н. Пыпин, в свою очередь, также заметил по поводу приведенного признания: «Едва ли сомнительно, что он рассказывает личный опыт» [90]90
А. Н. Пыпин. Салтыков Михаил Евграфович. – Статья в «Русском биографическом словаре».
[Закрыть].
Действительно, нет оснований сомневаться в субъективной достоверности признания Салтыкова. Но очевидно и другое. В этом признании отчетливо различимы два разновременных пласта, каждый из которых является бесспорной автобиографической реальностью.
Хронологически знакомство с евангельскими словами об «алчущих», «жаждущих» и «обремененных» принадлежат восьмилетнему мальчику, с богатыми задатками духовного развития. Ему же принадлежат и воспоминания о том, как он самостоятельноприложил эти слова из проповедей и социальных максим раннего христианского «социализма» к окружавшей его конкретной действительности – к «девичьей» и «застольной», «где задыхались десятки поруганных и замученных существ». Но оценка этих дней как события, принесшего автору воспоминаний «полный жизненный переворот», имевшего «несомненное влияние» на весь позднейший склад его мировоззрения, принадлежит уже не мальчику, а писателю Салтыкову, подводящему итоги своей жизни и деятельности. В этой оценке, в этих словах и формулировках очевиден отпечаток зрелой мысли Салтыкова, с ее крайним просветительским идеализмом, с ее страстной просветительской верой в могучую, преображающую силу слова, убеждения, морального потрясения. Возникновение чувства социального протеста, первых эмбрионов его, Салтыков изобразил как результат «внезапного появления сильного и горячего луча», «извне пришедшего» и глубоко потрясшего его детский, «но уже привычный взгляд на окружающий мир» крепостнического бесправия. Однако дальше Салтыков пишет: «В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоят главные и существенные результаты, вынесенные мной из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года».
Биография Салтыкова не располагает объективными данными об этом раннем этапе в духовном развитии будущего писателя, навсегда оставившем в его памяти такой светлый и благодарный след. Следует думать, однако, что не последнюю роль сыграло здесь то обстоятельство, что в первоначальном воспитании и обучении Салтыкова участвовали не столько дипломированные гувернантки и гувернеры, сколько люди из народа – крепостные мамки, крепостной живописец-грамотей, сельский священник и студент-семинарист. От этих воспитателей и учителей мальчик Салтыков должен был слышать слова, которые показывали ему «человека» в «рабе» и тем самым подготовили его мысль к признанию несправедливости деления окружавших его людей на «господ» и «слуг». Впоследствии он так писал об этом: «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе». Это заявление близко, по сути и духу, по скрытому в нем демократическому выводу, к одному из признаний Л. Н. Толстого. После чтения записок декабриста М. А. Фонвизина Толстой сказал: «Как Герцен прав, отзываясь с таким уважением о декабристах! < …> Как они относились к народу! Они, как и мы (Л. Н. упомянул тут и Кропоткина), через нянек, кучеров, охотников узнали и полюбили народ …» [91]91
Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 25 октября 1905 г. Из издания «Записок», подготовленных к печати в томах «Литературного наследства».
[Закрыть]
Рассказ о чтении Евангелия не раз служил в идеалистической критике источником для утверждений, будто бы Салтыков испытал в детстве религиозную страсть. Но сам автор «Пошехонской старины» отрицал это. Обладавший необыкновенно развитою памятью на все связанное с социальными сторонами действительности, он вспомнил о возникновении в сознании и чувствах не религиозных настроений, а зачатков тревоги по поводу общественного нестроения жизни, ее расколотости и несправедливости. Никаких религиозно-мистических мотивов в рассказе Салтыкова нет. По отношению к религии, как и по отношению к другим формам духовной культуры, Салтыков находился в детские годы в атмосфере сурового, ничем не прикрытого практицизма, чуждавшегося всего неясного, религиозно-мечтательного, иррационального. Религиозность в семье, если не говорить об отце, ограничивалась внешней обрядностью. Такова была и «религиозность» мальчика Салтыкова. « …Надо мной в этом отношении, – свидетельствовал он в одной из черновых рукописей «хроники», – тяготел такой же формализм, как и над всеми окружающими. Я усердно крестился и клал поклоны за обеднями и всенощными, не забывал утром и вечером прочитать: спаси, Господи, папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек, тетенек, и на этом считал все обязанности в смысле веровании конченными» [92]92
Из рукописи № 242: «Глава V («Первые шаги на пути к просвещению»)»
[Закрыть]. В другой же рукописи, также черновой, Салтыков так излагает свои воспоминания о пережитом в детстве духовном потрясении: « …когда я впервые познакомился с Евангелием (разумеется, не по подлинникам, а по устным рассказам) и с житиями мучеников и мучениц христианства, то оно произвело на меня такое сложное впечатление, в котором я и до сих пор не могу себе дать отчет. Это был, так сказать, жизненный почин, благодаря которому все, что до тех пор в скрытом виде складывалось и зачиналось в тайных изгибах моего детского существа, вдруг ворвалось в жизнь и потребовало у нее ответа. Насколько могу определить овладевшее мною чувство теперь, то была восторженность, в основании которой лежало беспредельное жаление …» И дальше Салтыков так характеризует содержание, значение и последствия пережитого им: «В моем детстве это, быть может, единственная страница, на которую выступило довольно ярко поэтическое чувствои благодаря которой мое дремавшее сознание было потревожено. Конечно, это еще не было пробуждение совести < …>, но, как я уже сказал выше, зачатки того жаления, которое, как ни мало осмысленно, все-таки не дает человеку дойти до звериного образа» [93]93
Из рукописи № 236. См. выше, с. 492. Подчеркнуто мною. – С. М.
[Закрыть]. И уже не в художественном произведении, а в эпистолярном документе, в письме к Г. З. Елисееву от 31 марта 1885 года, Салтыков, измученный не только болезнями, но и драматической обстановкой в своей семейной жизни, так вспоминал о «животворном луче», принесшем когда-то « поэзию» в его сердце и осенившем не только его детство, но и последующую долгую жизнь: «Несчастливы будут мои дети; никакой поэзии в сердцах; никаких радужных воспоминаний, никаких сладких слез; ничего, кроме балаганов. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из десятилетнего деревенского детства».
Удивительные, незабываемые слова, написанные Салтыковым на исходе дней о том светлом и поэтичном, что вынес он из своего детства, запомнившегося ему в целом столь сурово и мрачно, принадлежат к наибольшим автобиографическим ценностям «Пошехонской старины». Слова этого признания позволяют проникнуть к первоистокам формирования личности Салтыкова, насквозь проникнутой социальным этизмом и той постоянной устремленностью к высотам общественных идеалов, которую писатель обозначал словами призыва библейского пророка: «Sursum corda!» «Горе имеем сердца!»
Наряду с воспоминаниями о первых движениях в начинавшейся духовной жизни, в «Пошехонской старине» приведено немало мемуарных материалов, относящихся к внешней обстановке детства Салтыкова. Обращение к документам семейного архива Салтыковых, а также к тверским и ярославским краеведческим источникам позволяет установить немало фактов и эпизодов крепостной «старины», которые знал, видел или о которых слышал и на всю жизнь сохранил в своей памяти будущий писатель [94]94
Обзор материалов семейного архива Салтыковых с точки зрения отражения их в «хронике» даны в работах: Е. Макарова. Семейный архив Салтыковых. Обзор. – «Лит. наследство», т. 13–14. М., 1934, с. 445–462. Она же. Реальные источники «Пошехонской старины» (рукопись, 1939 г.); С. Mакашин. Салтыков-Щедрин. Биография, I. Изд. 2-е. М., 1951. Обзор соответствующих тверских и ярославских источников см. в книгах: Н. Журавлев. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии. Калинин, 1939; А. Прямков. Салтыков-Щедрин в Ярославском крае. Ярославль, 1954, и В. Киселев. Салтыков-Щедрин в Подмосковном крае. М., 1970.
[Закрыть].
Психологическую основу портрета «помещицы-фурии», жестокой в отношении своих крепостных людей – тетеньки Анфисы Порфирьевны, Салтыков писал со своей родной тетки, младшей замужней сестры отца, Елизаветы Васильевны Абрамовой, отличавшейся, по судебным показаниям ее дворовых, «зломстительным характером».
В эпизоде превращения мужа тетеньки Анфисы Порфирьевны в крепостного человека, использован нашумевший в 1830-х годах по всей Тверской губернии факт исчезновения калязинского помещика Милюкова, осужденного даже «правосудием» Николая I в ссылку за жестокое обращение с крестьянами; родственники объявили Милюкова умершим, а позднее оказалось, что, укрываясь от наказания по судебному приговору, он жил у них под видом их дворового крепостного человека.
Суровая расправа над тетенькой Анфисой Порфирьевной доведенных ею до отчаяния дворовых девушек – это точно переданная судьба, постигшая дальнюю родственницу Салтыковых, помещицу Бурнашеву. Ее ключница впустила к ней в спальню сенных девушек, и они подушками задушили свою барыню-истязательницу.
Повествование о «проказнике» Урванцове, назвавшем обоих своих [95]95
ИРЛИ, ф. 366, оп. 9, № 126. «Ламакина невестка» – родственница Салтыковых.
[Закрыть]сыновей-близнецов Захарами и разделившем между ними имение так, что раздел этот превратил братьев в смертельных врагов, а их поместье в застенок для крепостных людей, – это подлинная история семьи ближайшего соседа Салтыковых, майора Василия Яковлевича Баранова. Его сыновья-близнецы оба назывались Яковами, и оба были помещиками-извергами. Об одном из них – Якове Баранове 2-м – известный в свое время священник-публицист из Калязина И. Беллюстин писал: «Он был весел и доволен, когда слышал стоны истязаемых им, самое высокое наслаждение его было – вымучивать и долго и томительно жизнь крестьян своих. Распутство его не знало ни меры, ни пределов». В 1846 году Баранов был убит на конюшне своими конюхами и поваром. Об этом акте народной мести отец Салтыкова, Евграф Васильевич, информировал своих сыновей Дмитрия и Михаила. Он писал им 9 декабря 1846 года: «У нас в соседстве совершились неприятности. Баранова, меньшова брата, убили свои люди, и еще Ламакину невестку хотели отравить ядом, в пирог положенным, о чем теперь и следствие продолжается» [96]96
ИРЛИ, ф. 366, оп. 9, № 126. «Ламакина невестка» – родственница Салтыковых.
[Закрыть].
Трагедия Мавруши-новоторки, вольной девушки, закрепостившейся по собственному желанию из любви к мужу – крепостному человеку, близка, хотя и не тождественна, трагедии жены первого учителя Салтыкова – крепостного живописца Павла Соколова. Еще в 1824 году он женился на «вольной» – калязинской мещанке Анне Ивановой. После смерти мужа, в 1834 году, имея на руках двоих детей – крепостных уже по рождению, она из любви к ним отказалась сама вновь получить свободу и стала дворовой женщиной матери Салтыкова, Ольги Михайловны.
Рассказ о «бессчастной Матренке» находит себе не одно, а ряд соответствий в записях метрической книги церкви в селе Спас-Угол, регистрирующих браки «провинившихся» дворовых девушек. По приказу помещиков, отцов и дедов Салтыкова, они отдавались замуж за бедняков-крепостных в отдаленные деревни вотчины.
Приведенные примеры – всего несколько из многих установленных – документально и зримо очерчивают круг тех суровых впечатлений, которые впитывал в себя будущий писатель в годы детства и отрочества. Салтыков действительно имел основание сказать о себе впоследствии: « …Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда < …>. В этом царстве испуга, физического страдания < …> нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли».








