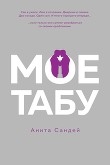Текст книги "За рубежом"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
– Прростого, ррусского сспасиба!.. c'esl bien dit… tu es uri noble coeur, Theodor![42]42
хорошо сказано… ты благородное сердце, Теодор!
[Закрыть]
– Конечно, я знаю, что мой час еще придет, – продолжал первый голос, – но уж тогда… Мы все здесь путники… nous ne sommes que des pauvres voyageurs egares dans ce pauvre bas monde…[43]43
мы всего только бедные путешественники, заблудившиеся в этом жалком мире
[Закрыть] Ho!
На этой угрожающей ноте голос пресекся. Мимо меня, по направлению к Неве, пронесся густой вздох… и все смолкло.
Можно себе представить, как встрепенулось при этих звуках мое русское сердце! Я жадно начал вглядываться сквозь лунные сумерки и после некоторых усилий успел рассмотреть двух "знатных иностранцев", которых лица показались мне несколько знакомыми. Действительно, собравши мои воспоминания, я, наконец, доискался. То были два графа: граф ТвэрдоонтС 7 и граф Мамелфин. Первый из них, в свое время, был знаменит и, подобно прочим подвижникам русской земли, мечтал об увенчании здания; но, получив лишь скудное образование к кадетском корпусе, ни до чего не мог додуматься, что было бы равносильно даже управе благочиния. Что-то необычайно смутное мелькало в его голове, чего ни он сам, ни его подчиненные не были в состоянии ни изловить, ни изложить. Какой-то вселенский смерч, который надлежало навсегда и повсеместно водворить и которому предстояло все знать, все слышать, все видеть и в особенности наблюдать, чтобы не было превратных идей и недоимок. Когда он излагал свои мысли, – излагал беспорядочно, с употреблением неподлежащих выражений, – то никто ничего не понимал, но всякий догадывался, что если дать этому безвыходному кадету волю, то он непременно учинит что-нибудь до того неизгладимое, чего впоследствии ни под каким видом не отскоблить. И, может быть, именно в силу этой неотскоблимости он и держался. Был такой момент, когда казалось, что русское общество одержимо сверхъестественным недугом, от которого может избавить его только смерч. Тот смерч, о котором не упоминается ни в каких регламентах и перед которым всякий партикулярный человек, как бы он ни был злонравен, непременно спасует. Но ТвэрдоонтС был кадет, и не спасовал. Настоящего смерча, положим, у него не вышло, но был ужас, было трясение великое. Все в страхе спрашивали себя: «кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто развязал?» – и не находили ответа. А граф ТвэрдоонтС между тем гарцевал и все твердил одно и то же слово: смерч, смерч, смерч! К счастию, на пути его встретились препятствия. Во-первых, кадетская полуграмотность и сопряженное с нею неумение дать форму смутности обуревающих чувств и, во-вторых, – что важное всего – неумение держаться на высоте, не наполнив вселенной болтовней и хвастовством. Не успел еще Удав прийти на помощь мятущемуся кадету, чтобы формулировать учение о вселенском смерче, как кадет уж шарахнулся. Шарахнулся, как мальчишка, которого за лганье и непотребные шашни исключили из «заведения».
Что же касается до графа Мамелфина, то он был замечателен лишь тем, что происходил по прямой линии от боярыни Мамелфы Тимофеевны. Каким образом произошел на свет первый граф Мамелфин – предания молчали; в документах же объяснялось просто: "по сей причине". Этот же девиз значился и в гербе графов Мамелфиных. Но сам по себе граф, о котором идет речь, ничего самостоятельного не представлял, а был известен только в качестве приспешника и стремянного при графе ТвэрдоонтС.
Эта встреча произвела на меня двойственное впечатление. Прежде всего меня объял священный ужас. Вспомнились стихи:
Так храм оставленный – все храм,
Кумир поверженный – все бог…8
И в то же время как-то само собою сказалось: а ну, как укусит? Хотя у нас на это счет довольно простые приметы: коли кусается человек – значит, во власти находится, коли не кусается – значит, наплевать, и хотя я доподлинно знал, что в эту минуту графу Пустомыслову 9 даже нечем кусить; но кто же может поручиться, совсем ли погасла эта сопка или же в ней осталось еще настолько горючего матерьяла, чтоб и опять, при случае, разыграть роль Везувия? Разве не бывало примеров, что и в оставленных храмах вновь раздавались урчания авгуров, что и низверженные кумиры вновь взбирались на старые пьедесталы и начинали вращать алмазными очами? Но главную роль, повторяю, все-таки играл священный ужас, который заставляет невольно трепетать при мысли: вот храм, в котором еще недавно курились фимиамы и раздавалось пение и в котором теперь живет домовой!
Но с другой стороны, меня так и подмывало устроить какую-нибудь проказу. Раб ведь я, а потому что же мудреного, что меня привлекают только удовольствия вероломства. Потрясти когда-то злонравного, а ныне бессильного идола за нос: что, мол, небось еще жив? Узнать, чем он теперь пробавляется, и достаточно ли одних воспоминаний о смерче, чтоб поддерживать жизнь в этом идольском организме? Толкнуть его как бы невзначай, посмотреть ему запанибрата в глаза, похлопать по плечу… Одним словом, проделать все, что истинно русское подневольное вероломство повелевает. И в конце концов допытаться, действительно ли это "оставленный храм", а не…
И вдруг меня осенила мысль: скажусь репортером от газеты "И шило бреет" и явлюсь побеседовать. Нынче ведь насчет этого строго: явился репортер – хочешь не хочешь, а распоясывайся! Даже если Подхалимов или "наш парижский корреспондент" зайдет, – и тут держи ухо востро! Ежели спросит: где воспитание получил? – отвечай скромно: воспитание получил недостаточное, но, будучи одарен от природы светлым умом, и т. д. Ежели спросит: что означает слово "смерч"? – отвечай: слово сие русское, в переводе на еврейский язык означающее Вифезда… Но, может быть, ты не знаешь, что такое Вифезда? – Вифезда, братец, это купель Силоамская 10. – А купель Силоамская что? – Ах, братец мой, какой же ты…
Обыкновенный партикулярный человек ни за что подобных вопросов не предложит, – не сочтет себя вправе, – а Подхалимов предложит. Подхалимовы – это особенная порода такая объявилась, у которой на знамени написано: ври и будь свободен от меры! Всюду проникнет Подхалимов; придет к Гамбетте – Гамбетту проэкзаменует; потом съездит к Гладстону – и его обнюхает. А то и не ездивши скажет: был. Чем больше к человеку Подхалимовых шляется, тем несомненнее для темного люда, что тот человек славен. А ежели к кому совсем Подхалимов не заезжает, то это означает, что человек тот изображает собой даже не "храм оставленный", а упраздненную ретираду. И в эту ретираду сам "наш парижский корреспондент" не зайдет, а, зажав нос, пробежит мимо. Гм… а что, ежели и в самом деле прикинуться Подхалимовым?
* * *
Сказано – сделано. Не откладывая дела в дальний ящик, я сейчас же отправился в гостиницу и предварил графа о своих намерениях следующим письмом:
"Сиятельнейший граф!
Я – Подхалимов, и завтра, в десятом часу утра, буду у Вашего сиятельства. Нет сомнений, что Вы заранее угадываете значение и цель этого визита. Вы – одна из недавних звезд современного горизонта; я – скромный репортер газеты «И шило бреет». Но в самой скромности я представляю собой силу. Русская публика имеет право знать, как предполагаете Вы поступить с нею в том случае, ежели фортуна вновь улыбнется Вам. Фортуна слепа, сиятельнейший граф! и Вам, больше нежели кому-нибудь, должно быть это известно. Не желая застать Вас врасплох, я даю Вашему сиятельству эту ночь на размышление.
С истинным почтением и проч.
Iwan de Podkhalimoff".
На другой день, в назначенный час, я уже стоял в швейцарской аристократического отеля Jungfraublick (chambres a partir de 4 fr., dej. 2, din. 5, serv. 1, boug. 1, omnib. 1 fr. 50 с.)[44]44
«Вид на Юнгфрау» (комнаты для приезжающих от 4 фр., завтраки 2, обеды 5, прислуга 1, свеча 1, омнибус 1 фр. 50 с)
[Закрыть] и требовал графа ТвэрдоонтС к ответу. Я пришел в черном сьюте, в сиреневого цвета перчатках и в лакированных полусапожках; волосы мои были напомажены, лицо – вымыто. На губах играла улыбка, говорившая, что я обрадован и польщен, но в глазах, на всякий случай, светилась гражданская скорбь. Общее выражение лица внушало доверие. С своей стороны, граф не заставил меня ждать и вышел ко мне, одетый в легкую жакетку и в белый однобортный жилет с светлыми пуговицами, застегнутыми сверху донизу a la militaire.[45]45
по-военному
[Закрыть] Это был мужчина средних лет (между 45 и 50), высокого роста, бравый и нимало не отяжелевший. Выражение его лица я затрудняюсь определить, но знаю, что оно напомнило мне свеженаписанный масляными красками портрет, по которому неосторожный прохожий слегка задел рукавом. Нечто смутное и в то же время… как бы благородное. Но подлинно ли благородное – на этот вопрос, по нынешнему времени, трудно ответить. Ибо бывает благородство, так сказать, самою природой на лице человека написанное, и бывает такое, которое «наводится» на лицо тщательными омовениями, употреблением соответствующих духов и мыл, долгими сеансами перед зеркалом и проч. Как бы то ни было, но он был, видимо, взволнован, хотя, подавая мне руку, ни одним мускулом не обнаружил, что это стоит ему усилий. Кажется, это называется на ихнем языке «выдержкой». С своей стороны, я сжал эту руку с почтительностью, к которой, однако ж, на всякий случай, примешал тонкий оттенок наглости. И тогда между нами произошел следующий colloquium.[46]46
разговор
[Закрыть]
ГРАФ И РЕПОРТЕР 11
ДРАМАТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР ОДНОМ ЯВЛЕНИИ
Действующие лица:
Граф Твэрдоонто, странствующий администратор.
Подхалимов, репортер русской газеты «И шило бреет».
Сцена представляет салон в хорошей гостинице; из окон вид на Юнгфрау.
Подхалимов (в наглом восторге). Ваше сиятельство! сиятельнейший граф!
Граф. Рад, очень рад. Очень рад с вами познакомиться, мсьё (делает видимое усилие, чтоб произнести частицу «де»)… де Подхалимов. Я всегда к услугам прессы. Ведь пресса – это нынче шестая держава, а в том число и русская… «Печатать дозволяется» – так, кажется? (Кличет.) Andre! Vous apporterez un carafon de Gorki pour monsieur…[47]47
Андрей! Принесите господину графинчик горькой
[Закрыть][48]48
Водка горькая, двойная померанцовая, завода Штритера, продается за границей во всех debits de vins (виноторговля) под именем Gorki. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть](К Подхалимову.) Потребляете?
Подхалимов. Бросил-с… Конечно, путешествуя, например, по Волге… ваше сиятельство сами изволите знать… трудно, чтоб воздержаться совсем.
Граф (с чувством). Я понимаю вас!
Подхалимов. А здесь это не в обычае, да притом и тепло-с…
Граф (с возрастающим чувством). Я понимаю вас… de Podkhalimoff! (Подает Подхалимову руку, которую последний принимает, слегка отделившись от стула.)
Минутное молчание, в продолжение которого влетает в комнату муха и садится графу на нос. Граф хочет ее изловить, но убеждается, что это гораздо труднее, нежели уловлять людей. Наконец, Подхалимов успевает переманить муху на свой нос.
Граф. Благодарю вас. Ах, эти мухи! Вы, конечно, знаете стих Пушкина:
Красного лета отрава, муха несносная, что ты…12
Charmant![49]49
Великолепно!
[Закрыть] Кстати: вы были на этом празднике… в Москве? 13
Подхалимов (смущенно, как бы предвидя опасность). Был, ваше сиятельство.
Граф (внезапно вообразив себе, что он вновь призвал к делам. Строго). И вместе с прочими… а? (Машет указательным перстом перед носом Подхалимова.)
Подхалимов (уклончиво). Ваше сиятельство! ведь нынче дозволено-с!
Граф (спохватившись). Да… нынче… я и забыл! А впрочем, я и всегда!.. Pouschkine! quel geant![50]50
Пушкин! что за исполин!
[Закрыть](Декламирует.)
Красного лета отрава, муха несносная, что ты…
Кстати о Пушкине. Я недавно с одним его родственником познакомился… Представьте себе! изо всего Пушкина знает только стих: «Мне вручила талисман»…14 Это… родственник!! А впрочем, довольно об этом; приступим к нашему делу. Прошу предлагать вопросы.
Подхалимов (некоторое время собирается с мыслями). Граф! кто ваши родители?
Граф (изумленно, но покоряясь своей участи). Я происхожу от боковой линии. Это несколько странно, но… Словом сказать, я – граф ТвэрдоонтС! Скажите, однако ж, разве прессе необходимо знать эти подробности?
Подхалимов. Пресса все должна знать, ваше сиятельство. (Вынимает записную книжку и пишет: "найден в корзине на крыльце; сравнить: Moise sauve des eaux 15 .[51]51
Моисей, спасенный из воды
[Закрыть]) Будем продолжать. Где ваше сиятельство изволили продолжать воспитание?
Граф. Я должен сознаться, что воспитание я получил недостаточное… в одном из кадетских корпусов. Но… (хочет сказать нечто в свою похвалу).
Подхалимов. Понимаю. Но впоследствии вы, конечно, постарались восполнить недостаток солидного образования чтением известных авторов?
Граф. Да, я читал довольно много. Всего Поль до Кока, всего Феваля и, наконец, «Nana»… Из серьезных писателей – Цитовича.
Подхалимов. Прекрасно-с. (Записывает: «воспитание получил недостаточное, но, будучи одарен светлым умом, уже в чине поручика решился обогатить оный разнообразным чтением».) Но имеете ли каких наружных пороков?
Граф (выпрямляясь и опустив руки по швам). Без отметин-с.
Подхалимов (осматривает его). Действительно! Но будем продолжать наш опрос. Граф! как вы думаете, обильно ли наше отечество?
Граф (на минуту задумывается, как бы соображая). Что вам сказать на это? Есть данные, которые заставляют думать, что да, есть и другие данные, которые прямо говорят: нет.
Подхалимов. Однако же, граф!
Граф. Признаюсь вам, я никогда не придавал этому вопросу особенной важности. Мне всегда казалось, что для нашего отечества нужно не столько изобилие, сколько расторопные исправники.
Подхалимов. Так что, например, ежели известную местность постиг неурожай, то, по мнению вашего сиятельства, достаточно послать в ту местность двоих исправников вместо одного, и вредные последствия неурожая устранятся сами собой?
Граф. Не вполне так, но в значительной мере – да. Бывают, конечно, примеры, когда даже экзекуция оказывается недостаточною; но в большинстве случаев – я твердо в этом убежден – довольно одного хорошо выполненного окрика, и дело в шляпе. Вот почему, когда я был при делах, то всегда повторял господам исправникам: от вас зависит – все, вам дано – все, и потому вы должны будете ответить – за все!
Подхалимов (умиленный). Ах, ваше сиятельство!
Граф (одушевляясь). Скажу вам откровенно: вся наша беда в том именно и заключается, что мы слишком охотно возбуждаем вопросы о неизобилии. Напоминая голодному об еде, мы тем самым, так сказать, искусственно вызываем в нем мысль о необходимости таковой. И притом, непременно в изобилии. Тогда как если б мы этого не делали, то, наверное, из десяти случаев в девяти самые неизобильные люди сочли бы себя достаточно изобильными, чтоб, ввиду соответствующих напоминаний, своевременно выполнить лежащие на них повинности.
Подхалимов (удивляясь премудрости). Это, ваше сиятельство, в своем роде… идея!!
Граф (хвастаясь). В моей служебной практике был замечательный в этом роде случай. Когда повсюду заговорили о неизобилии и о необходимости заменить оное изобилием, – грешный человек, соблазнился и я! Думаю: надобно что-нибудь сделать и мне. Сажусь, пишу, предписываю: чтоб везде было изобилие! И что ж! от одного этого неосторожного слова неизобилие, до тех пор тлевшее под пеплом и даже казавшееся изобилием, – вдруг так и поползло изо всех щелей! И такой вдруг сделался голод, такой голод…
Подхалимов. Но, конечно, ваше сиятельство…
Граф (играя брелоками). Через месяц спокойствие было водворено.
Подхалимов. Ах!! (Хочет бежать.)
Граф. Успокойтесь, de Podkhalimoff, потому что теперь все это уж сделалось достоянием истории. Но тогда я вынужден был так поступить. Почему вынужден? – а потому просто (смешивает настоящее с прошедшим), что для меня главное – чтоб в пределах моего ведомства царствовало спокойствие. И чтоб никто ничего не говорил. Когда все спокойны – и я спокоен; когда я спокоен – и все спокойны. А ежели при этом все довольствуются тем «изобилием», какое кому предназначено – я своим, вы – своим, то лучше и не надо. Такова моя система. Не дальше, как сегодня, призвав моего секретаря (вдруг вспоминает, что он не более как «достояние истории»)… Тьфу! Продолжайте, прошу вас.
Подхалимов (записывает: «об изобилии России думает, что изобильна, но не весьма; недостаток сей полагает устранить, удвоив комплект исправников»). Граф! какого вы мнения о русском народе?
Граф (постепенно утрачивает стыд). Различного. Русский народ добр, гостеприимен и… легковерен. Таковы его хорошие стороны, но и только. Подлинно добродетельным он едва ли может сделаться, ибо чересчур пристрастен к спиртным напиткам.
Подхалимов. Но вы забываете, ваше сиятельство, что акциз с спиртных напитков представляет собой добрую часть нашего бюджета, и следовательно…
Граф. Не только не забываю, но всечасно о том помышляю. И даже, однажды, быв спрошен по этому предмету, отвечал так: если б русский мужик и добровольно отказался от употребления спиртных напитков, то и тогда надлежало бы кроткими мерами вновь побудить его возвратиться к оным.
Подхалимов. Но, в таком случае, каким образом согласовать ваше требование, чтоб русский мужик был добродетелен, с таким, можно сказать, бюджетным осуждением его на обязательное пьянство?
Граф (разводит руками). Вот это именно и есть… наша ахиллесова пята!
Подхалимов. Но так как и на этой пяте покоятся все наши упования, то выходит, что и во всех исходящих отсюда распоряжениях должна главным образом господствовать ахиллесова нята? Или, говоря иными словами, русский бюрократ…
Граф. Не доканчивайте. C'est terrible, mais… c'est vrai![52]52
Это ужасно, но… это правда!
[Закрыть]
Подхалимов (записывает: «о свойствах русского народа мнения хорошего, но не вполне; полагает, что навсегда осужден пить водку»).
Граф (вновь смешивает прошедшее с настоящим). Много у нас этих ахиллесовых пят, mon cher monsieur de Podkhalimoff! и ежели ближе всмотреться в наше положение… ah, mais vraiment ce n'est pas du tout si trou-la-la qu'on se plait a le dire![53]53
ах, но по-настоящому это совсем не такие пустяки, как об этом любят говорить!
[Закрыть] Сегодня, например, призываю я своего делопроизводителя (вновь внезапно вспоминает, что он уже не при делах)… тьфу!
Подхалимов (почтительно, но не без наглости). Ваше сиятельство! простите меня, но мне кажется, что вы… огорчены?
Граф (с достоинством осматривает Подхалимова с ног до головы). Чем… сударь?
Подхалимов (заискивающе). А хоть бы тем, ваше сиятельство, что вы находитесь в невозможности излить на Россию всю ту массу добра, которую вы предназначили для нее в вашем добром русском сердце?!
Граф (восчувствовав). Вы правы… мой друг! (Подает ему руку.) Au fond, je suis bon.[54]54
В сущности, я добр
[Закрыть] И я люблю Россию… La Russie! Swiataia Rouss! parlez-moi de Гa![55]55
Россия! Святая Русь! что и говорить!
[Закрыть](Хлопает себя по ляжке.) Сколько беспокойных ночей я провел, думая, что бы такое придумать… И представьте себе – всегда и везде один ответ: ахиллесова пята! Не далее как час тому назад я говорил моему другу, графу Мамелфину: да сделаем же хоть что-нибудь для России… И хоть убей! Смотрите! вон он о сю пору ходит под орехами… Но вряд ли что-нибудь выдумает!
Подхалимов (смотрит в окно). Ничего не выдумает, ваше сиятельство. Но, во всяком случае, уже и то приятно, что ваши сиятельства изволите любить Россию и, стало быть, находите ее заслуживающею снисхождения… Не правда ли, граф?
Граф. Ежели вы хотите, чтоб я откровенно выразил мое мнение, то скажу вам: да, Россия виновата. Она во многих отношениях ведет себя неделикатно и, в особенности, не ценит… заслуг! Но я не злопамятен, мой друг! и, разумеется, если когда-нибудь потребуют, чтоб я определил степень ее виновности, то я отвечу: да, виновна, но в высшей степени заслуживает снисхождения. Подхалимов! вы, конечно, имеете понятие об идее, которою я руководился, когда был при делах. Сознаюсь, это была идея несколько суровая. Я хотел все видеть, все слышать, все знать. Разумеется, это было необходимо мне для того, чтоб иметь возможность вырвать с корнем плевела, а добрым колосьям предоставить дозреть, дабы употребить их в пищу впоследствии. Повторяю: это была идея грандиозная, благодетельная, но… чересчур суровая! В настоящее время я понял это и значительно-таки смягчил свою систему. И знаете ли – почему?
Подхалимов. Почему, ваше сиятельство?
Граф. А потому, мой друг, что, думая вырывать плевела, я почти всегда вырывал добрые колосья… То есть, разумеется, не всегда… однако!
Подхалимов (содрогаясь при мысли, что и он мог быть вырванным). Ах, ваше сиятельство!
Граф (восторженно). И в довершение всего, представьте себе: желая все знать – я ничего не знал; желая все видеть и слышать – я ничего не видал и не слыхал. Одно время я просто боялся, что сойду с ума!
Подхалимов. Значит, только напрасно изволили беспокоиться… А впрочем, я полагаю, что и особенно тревожиться тем, что вырвано больше добрых колосьев, чем плевел, нет причин. Ведь все равно, если б добрые колосья и созрели – все-таки ваше сиятельство в той или другой форме скушали бы их!
Граф. Непременно! Только это соображение и утешает меня. Потому что, признаюсь, я порядочно таки в свое время напроказил.
Подхалимов. Но ныне… Как бы ваше сиятельство поступили, если б отечество вновь обратилось к вам и к графу Мамелфину с кличем: «шествуйте, сыны!»?
Граф. Я думаю, что мы предпочли бы сидеть смирно и получать присвоенное содержание. Ах, верьте мне, что в наше время это самая плодотворная внутренняя политика!
Подхалимов. Но ахиллесовы пяты, ваше сиятельство! надо же какое-нибудь насчет их распоряжение сделать?
Граф. Я думаю, что они заживут сами собой. Но, впрочем, разумеется, ежели бы…
Подхалимов. То-то вот и есть, что «впрочем»… Трудно, ваше сиятельство! трудно, стоя на известной высоте, воздержаться, чтоб не сделать хоть маленького распоряженьица! Положим, что ахиллесовы пяты и сами собой заживут, но ведь это когда-то будет! А между тем вашим сиятельствам хочется, чтоб поскорее…
Граф. А что вы думаете… ведь это очень-очень верное замечание! Вы глубоко изучили человеческую душу, Подхалимов! Но если б даже было и так… что ж, я готов! (Неожиданно вынимает из кармана трубу и трубит.)
Рассыпьтесь, молодцы!
За горы, за кусты!
По-ддва в рряд!16
Подхалимов (наскоро записывает: «отечество любит и даже находит заслуживающим снисхождения; но, впрочем, готов поступить и по всей строгости законов». Встает). Ваше сиятельство! не смею больше утруждать вас! Хотя вопросы так и теснятся в голове, но вижу, что ваше сиятельство уже изволите испытывать потребность в иных развлечениях… (Становится в позитуру.) Ваше сиятельство! Позвольте вам доложить! Никогда не проводил я времени так приятно и не выносил таких для себя поучений, как в течение сегодняшнего нашего собеседования! И, мне кажется, если б я мог следовать только влечению моего сердца… (Хочет сделать что-то нехорошее, но только в бессилии машет руками.) Ваше сиятельство! позвольте, во всяком случае, надеяться, что эта беседа не будет последнею?
Граф (пристально смотрит на Подхалимова). Подхалимов! говорите откровенно! вы хотите водки?
Подхалимов (после мгновенного колебания). Па-азвольте, ваше сиятельство!
Приносят графин водки и рюмку. Подхалимов наливает. Занавес медленно опускается.
* * *
Следя за современным жизненным процессом, я чаще всего поражаюсь постепенным оскудением нашего бюрократического творчества. И именно за последнее время как-то особенно обострилось это явление. Прежде, бывало, все распоряжения с «понеже» начинались. "Понеже – например – из практики других стран явствует, что свобода книгопечатания, в рассуждении смягчения нравов, а такожде приумножения полезных промыслов и художеств, зело великие пользы приносит, и хотя генерал-маёр Отчаянный таковой отрицает, но без рассудка. Тогда ради признано за благо: цензурное ведомство упразднить на вечные времена, на место же оного учредить особливый благопопечительный о науках и искусствах комитет, возложив на таковый наблюдение, дабы в Российской империи быстрым разумом Невтонам без помехи процветать было можно". Не длинно, но чрезвычайно хорошо. Или, по протечении времени, наоборот: "Понеже из опыта, а такожде из полицейских рапортов усматривается, что чрезмерное быстрых разумом Невтонов 17 размножение приводит не к смягчению нравов, но токмо к обременению должностных мест и лиц излишнею перепискою, в чем и наблюдения генерал-маёра Отчаянного согласно утверждают. И того ради приказали: Попечительный о размножении Невтонов комитет упразднить, а на место оного восстановить цензурное ведомство в прежних пределах, предписав таковому наблюсти, дабы впредь Невтонам проявлять себя неповадно было". Опять не длинно и хорошо. Видно, что выдумщик не только сам сознаёт мотивы своей выдумки, но желает, чтоб эти мотивы были сознаны и теми, до кого выдумка относится. Было ваше времечко, господа, пожуировали; теперь «времечко» прошло. Почему прошло? – потому что «из опыта и полицейских рапортов усматривается…». Право, хорошо. Напротив того, ныне пишут не длинно, но нехорошо. Оттого ли, что потухло у бюрократии воображение, или оттого, что развелось слишком много кафешантанов и нет времени думать о деле; как бы то ни было, но в бюрократическую практику мало-помалу начинают проникать прискорбные фельдъегерские предания. Ни «понеже», ни «поелику» – ничего уже нет; осталось одно безнадежное слово: пошел!
Но что всего замечательнее, это оскудение творчества замечается именно только в сфере бюрократии – и нигде больше.
Начать хоть с законов. Во всей обширной сфере законодательства вы не только не встретитесь с оскудением, но, напротив, скорее найдете излишество творчества. Прочтите наказы губернаторам, губернским правлениям, палатам государственных имуществ, врачебным управам – чего только тут не предусмотрено? Затем проштудируйте осьмой, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый томы 18 – какое богатство прозорливости, попечительности и даже фантазии! И везде в выноске либо «понеже», либо «поелику». Человеку предстоит только родиться, а там уж и пошла писать. Так было, по крайней мере, лет пятнадцать, двадцать тому назад, а теперь… я не знаю даже, не упразднены ли все эти законы совсем? Знаю, например, что палаты государственных имуществ, врачебные управы, строительные комиссии и проч. упразднены, но между кем распределены все «поелику» и «понеже», которые были на них возложены, – не знаю. Вероятно, если внимательнее поискать, то в какой-нибудь щелке они и найдутся, но, с другой стороны, сколько есть людей, которые, за упразднением, мечутся в тоске, не зная, в какую щель обратиться с своей докукой?
Или возьмите сферу русского адвокатства. Тут что ни шаг, то богатство фантазии, что ни слово, то вымысел. И, к чести сословия нужно сказать, вымысел – всегда мотивированный. Ни один самый плохонький адвокат не начнет защитительную речь ни с "тем не менее", ни с "а дабы" (а граф Твэрдоонто так именно и начнет), но непременно какой-нибудь фортель да выкинет. Особенно ежели по соглашению. Соглашение – святое дело; оно подстрекает адвоката, поддерживает в нем бодрость, обязывает быть изобретательным. Ежели сумеешь убедить судей – вот деньги: ешь, пей и веселись! ежели не сумеешь – вот шиш. В сей крайности поневоле будешь выдумывать. А затем, выдумывая да выдумывая, получишь привычку быть изобретательным и в делах по назначению поручаемых. Тогда как чиновнику – какая корысть? Будет ли он мозгами шевелить или не будет – все одно двадцатого числа наравне с другими жалованье получит. А иногда даже и зазорно мозгами шевелить: пусть лучше не я, а какая-нибудь бестия шевелит! Конечно, можно за эти провинности места лишиться, или награды к празднику не получить, но и тут лазеечка есть: тетенька попросит. А в адвокатском сословии даже самые лучшие тетеньки и те не помогут. Отдувайся, как знаешь, сам…
Об литературе и говорить нечего: известно, что голь на выдумки хитра. Литература живет выдумкой, и чем больше в ней встречается "понеже" и "поелику", тем осязательнее ее влияние на мир. Говорят, будто современная русская литература тоже, подобно бюрократии, предпочитает краткословность винословности, но это едва ли так. Действительно, литература наша находится как бы в переходном положении, именно по случаю постепенного упразднения того округленного пустословия, которое многими принималось за винословность, но, в сущности, эта последняя совсем не изгибла, а только преподносится не в форме эмульсии, а в виде пилюли – глотай! Но если бы даже литература и впрямь захудала, то это явление случайное и временное. Для литературы нет расчета "худать", потому что в ней принцип соглашения с читателями играет главную роль. Хочешь не хочешь, а шевели мозгами, уловляй сердца, убеждай!
Одним словом, везде, куда ни обратитесь, везде вы увидите проникновение возбуждающего начала, которое устраняет преждевременное одряхление. В одной только бюрократической профессии это начало отсутствует. Правда, что все эти "понеже" и "поелику", которыми так богаты наши бюрократические предания, такими же чиновниками изобретены и прописаны, как и те, которые ныне ограничиваются фельдъегерским окриком: пошел! – но не нужно забывать, что первые изобретатели "понеже" были люди свежие, не замученные, которым в охотку было изобретать. То было время насаждения наук и художеств, фабрик и заводов, армий и флотов. И дело было новое, и люди новые – от этого и "понеже" выходило само собой, независимо от надежды на увеличение окладов. А нынче все это примелькалось, прислушалось, приелось. Иной и рад бы "понеже" ввернуть – ан у него с души прет. Вот он и тянет канитель, дела не делает, от дела не бегает. А прикрикнут на него, заставят какую ни на есть выдумку по начальству представить – он присядет на минуту, начертит: "пошел!" – и готов.
Вероятно, в этих видах начали ныне прибегать к комиссиям. Все, дескать, на народе постыднее будет. Но тут опять другая беда: с представлением о комиссии неизбежно сопрягается представление о пререканиях. Одному нравится арбуз, другому – свиной хрящик. А так как в чиновничьем мире разногласий не полагается, то, дабы дать время арбузу войти в соглашение с свиным хрящиком, начинают отлынивать и предаваться боковым движениям. Собирают справки, раздают командировки, делаются извлечения из архивных дел, а "понеже" тем временам спит да спит непробудным сном. Да вряд ли когда-нибудь и проснется, потому что для того, чтоб осуществилось это пробуждение, необходимо, чтоб оно кого-нибудь интересовало. А кого же оно может интересовать? Те два члена, которые на первых порах погорячились и упорно остались один при арбузе, другой – при свином хрящике, давно уж махнули на все рукой. "Нечего сказать, – находка! – рассудили они, – собрали какую-то комиссию, нагнали со всех сторон народу, заставили о светопреставлении толковать, да еще и мнений не выражай: предосудительно, вишь!" И кончается обыкновенно затея тем, что "комиссия" глохнет да глохнет, пока не выищется делопроизводитель попредприимчивее, который на все "труды" и "мнения" наложит крест, а внизу напишет: "пошел!" И готово.
Сознаюсь откровенно: я никак не могу понять, почему пререкания считаются в настоящее время предосудительными. Пререкания в качестве элемента, содействующего правильному ходу административной машины, издавна были у нас в употреблении, и я даже теперь знаю старых служак, которые не могут вспоминать об них иначе, как с умилением. Еще недавно Удав объяснял мне: