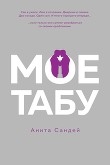Текст книги "За рубежом"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
– Уж так нам их жалко! так жалко! – подтвердила и Матрена Ивановна.
– Истинно вам говорю: глядишь это, глядишь, какое нынче везде озорство пошло, так инда тебя ножом по сердцу полыснет! Совсем жить невозможно стало. Главная причина: приспособиться никак невозможно. Ты думаешь: давай буду жить так! – бац! живи вот как! Начнешь жить по-новому – бац! живи опять по-старому! Уж на что я простой человек, а и то сколько раз говорил себе: брошу Красный Холм и уеду жить в Петербург!
– За чем же дело стало?
– Свово места жалко – только и всего.
– Известно, жалко: и дом, и заведение, и все… – подтвердила и Матрена Ивановна.
– А вам жалко? – обратился я к Зое Филипьевне.
– Мне что! я мужняя жена! вон он, муж-то у меня какой!
– Ах, умница ты наша! – похвалила Матрена Ивановна.
– Вы долго ли думаете в Париже пробыть?
– Да свое время отсидеть все-таки нужно. С неделю уж гостим, еще недели с две – и шабаш.
– Так знаете ли, что мы сделаем. И вам скучно, и Старосмысловым скучно, и мне скучно. Так вот мы соединимся вместе, да и будем сообща скучать. И заведем мы здесь свой собственный Красный Холм, как лучше не надо.
– И преотлично! – разом воскликнули Блохины.
– Я буду вас и по ресторанам и по театрам водить. И все по таким театрам, где и без слов понятно. А ежели Старосмыслову прогоны и порционы разрешат, так и они, наверное, жаться не будут.
Я рассказал им, какую мы утром просьбу общими силами соорудили и какие надежды на нее возлагаем. И в заключение прибавил:
– А в Париже надоест, так мы в Версаль, вроде как в Весьёгонск махнем, а захочется, так и в Кашин… то бишь, в Фонтенбло – рукой подать!
* * *
Итак, осуществить Красный Холм в Париже, Версаль претворить в Весьёгонск, Фонтенбло в Кашин 10 – вот задача, которую предстояло нам выполнить.
С первого взгляда может показаться, что осуществление подобной программы потребует сильного воображения и очень серьезных приспособлений. Но в сущности, и в особенности для нас, русских, попытки этого рода решительно не представляют никакой трудности. Не воображение тут нужно, а самое обыкновенное оцепенение мысли. Когда деятельность мысли доведена до минимума и когда этот минимум, ни разу существенно не понижаясь, считает за собой целую историю, теряющуюся в мраке времен, – вот тут-то именно и настигает человека блаженное состояние, при котором Париж сам собою отождествляется с чем угодно: с Весьёгонском, с Пошехоньем, с Богучаром и т. д. Мыслительная способность атрофируется и вместе с этим исчезает не только пытливость, но и самое простое любопытство. Старое, насиженное, обжитое – вот единственное, что удовлетворяет обессиленный ум. И это насиженное воспроизводится с такою легкостью, что само собою, помимо всякого содействия со стороны воображения, перемещается следом за человеком, куда бы ни кинула его судьба.
Восстановить Красный Холм в Париже положительно ничего не стоит. Нужно только разложиться с вещами и затем начать жить да поживать. Правда, что житье в отеле, сравнительно с Красным Холмом, покажется тесновато, но зато в Париже имеются льготы, которых не найдешь не только в Красном Холму, но и в Кашине. И льготы именно в Краснохолмском смысле, то есть такие, которых на месте не сыщешь, но которые Краснохолмским воображением не отвергаются. Таковы, например: пулИ, дендС, пердрС, тюрбС, славу о которых на всю Россию искони протрубили предводители дворянства. Затем: магазины всевозможного женского тряпья, от которых без ума все предводительши, макадам на улицах, отличное уличное освещение, писсуары и т. д., о которых с благосклонностью отзываются все уездные исправники, как о таких реформах, которые не ведут к потрясанию основ. И в довершение всего, есть для мужчин кокотки, вроде той, какую однажды выписал в Кашин 1-й гильдии купец Шомполов и об которой весь Кашин в свое время говорил: ах, хороша стерьва!
В Париже отличная груша дюшес стоит десять су, а в Красном Холму ее ни за какие деньги не укупишь. В Париже бутылка прекраснейшего ПонтИ-КанИ стоит шесть франков, а в Красном Холму за Зызыкинскую отраву надо заплатить три рубля. И так далее, без конца. И все это не только не выходит из пределов Краснохолмских идеалов, но и вполне подтверждает оные. Даже театры найдутся такие, которые по горло уконтентуют самого требовательного Краснохолмского обывателя.
Когда воображение потухло и мысль заскербла, когда новое не искушает и нет мерила для сравнений – какие же могут быть препятствия, чтоб чувствовать себя везде, где угодно, матерым Краснохолмским обывателем. Одного только недостает (этого и за деньги не добудешь): становой квартиры из окна не видать – так это, по нынешнему времени, даже лучше. До этого-то и краснохолмцы уж додумались, что становые только свет застят.
– Как пошли они, в позапрошлом лете, по домам шарить, так, верите ли, душа со стыда сгорела! – говорил мне Блохин, рассказывая, как петербургские "события" 11 отразились в районе вышневолоцко-весьёгонских палестин.
И он говорил это с неподдельным негодованием, несмотря на то, что его репутация в смысле "столпа" стояла настолько незыблемо, что никакое "шаренье" или отыскивание "духа" не могло ему лично угрожать. Почему он, никогда не сгоравший со стыда, вдруг сгорел – этого он, конечно, и сам как следует не объяснит. Но, вероятно, причина была очень простая: скверно смотреть стало. Всем стало скверно смотреть; надоело.
Как бы то ни было, но, раз решившись воспроизводить исключительно Краснохолмские идеалы, мы зажили отлично. Единственную не Краснохолмскую роскошь, которую я лично себе дозволил, – это газеты. Я покупал их ежедневно и притом самые страшные: "L'Intransigeant", "Le Mot d'Ordre", "La Commune", "La Justice" 12. Что делать! идешь мимо киоска, видишь: разложены, стало быть, велено покупать – купишь. Сначала я боялся, думал, начитаюсь, приеду в Россию – чего доброго, революцию произведу. Однако, с божьею помощью, в короткое время так наметался, что все равно, что читал, что нет. Зато все остальное времяпровождение было воистину Краснохолмское. Часов до 12-ти утра мы исправлялись дома, то есть распивали чаи и кофеи по своим углам. После 12-ти выходили на улицу и начинали, по выражению Захара Иваныча, «кутаться» и «воловодиться».
Брали под руки дам и по порядку обходили рестораны. В одном завтракали, в другом просто ели, в третьем спрашивали для себя пива, а дамам "граниту". Когда ели, то Захар Иваныч неизменно спрашивал у Старосмыслова: а как это кушанье по-латыни называется? – и Федор Сергеич всегда отвечал безошибочно.
– Никогда не скажет: не знаю! – изумлялся Блохин, – и этакого человека… в Пинегу!
В промежутках между кушаньями вспоминали о Красном Холме, старались угадать: рыжики-то уродились ли ноне?
Часа в три компания распадалась. Дамы предпринимали путешествие по магазинам, а мужчины отправлялись смотреть "картинки". Во время процесса смотрения Захар Иваныч взвизгивал: ах, шельма! и спрашивал у Федора Сергеича, как это называется по-латыни. Но однажды зашли мы в пирожную, и с Блохиным вдруг сделалось что-то необыкновенное.
– Она… она самая! – шепнул он мне, указывая на рослую и совершенно рыжую женщину, которая стояла у конторки. – Наша… кашинская!
И не успел я сообразить, в чем дело, как у него уж и глаза кровью налились.
– В Кашине… была? – спросил он ее в упор. Конторщица взглянула на него с недоумением, но по лицу ее пробежала чуть заметная улыбка: ей, очевидно, польстило, что "доброго русского молодца" так сразу прошибло.
– В Кашине… была? – настаивал Захар Иваныч. Насилу мы его увели.
Часов около шести компания вновь соединялась в следующем по порядку ресторане и спрашивала обед. Если и пили мы всласть, хотя присутствие Старосмысловых несколько стесняло нас. Дня с четыре они шли наравне с нами, но на пятый Федор Сергеич объявил, что у него болит живот, и спросил вместо обеда полбифштекса на двоих. Очевидно, в его душу начинало закрадываться сомнение насчет прогонов, и надо сказать правду, никого так не огорчало это вынужденное воздержание, как Блохина.
– Ведь вот и добрый человек, а сколь жесток! – жаловался он мне, – не хочет понять, что нам не деньги его нужны, а душа.
После обеда иногда мы отправлялись в театр или в кафе-шантан, но так как Старосмысловы и тут стесняли нас, то чаще всего мы возвращались домой, собирались у Блохиных и начинали играть песни. Захар Иваныч затягивал: "Солнце на закате", Зоя Филипьевна подхватывала: "Время на утрате", а хор подавал: "Пошли девки за забор"… В Париже, в виду Мадлены 13, в теплую сентябрьскую ночь, при отворенных окнах, – это производило удивительный эффект!
Иногда обычный репертуар дня видоизменялся, и мы отправлялись смотреть парижские "редкости". Ездили в Jardin des plantes[151]151
Ботанический сад
[Закрыть] и в Jardin d'acclimatation,[152]152
Зоологический сад
[Закрыть] лазили на Вандомскую колонну, побывали в Musee Cluny и, наконец, посетили Луврский музей. Но тут случился новый казус: увидевши Венеру Милосскую, Захар Иваныч опять вклепался и стал уверять, что видел ее в Кашине. Насилу мы его увели.
– При тебе только мы и свет узрили! – открывался мне Захар Иваныч, – кабы не ты, что бы мы, приехадчи в Холм, про Париж рассказывать стали?
Насладившись вдоволь Парижем, нельзя было оставить без внимания и окрестности. Разумеется, прежде всего отправились в Версаль. Дорогой я, конечно, не преминул рассказать, какую я, пять лет тому назад, выкинул тут штуку с ЛабулИ. Все так и ахнули.
– То-то, чай, глаза вытаращил, как проснулся! – похвалил меня Блохин.
И, помолчав немного, прибавил:
– Только через тебя мы свет узрили! ишь ведь ты… на все руки!
В Версали мы обошли дворец, затем вышли на террасу и бросили общий взгляд на сад. Потом прошлись по средней аллее, взяли фиакры и посетили "примечательности": Parc aux cerfs,[153]153
Олений парк
[Закрыть] Трианон и т. п. Разумеется, я рассказал при этом, как отлично проводил тут время Людовик XV и как потом Людовик XVI вынужден был проводить время несколько иначе. Рассказ этот, по-видимому, произвел на Захара Иваныча впечатление, потому что он сосредоточился, снял шляпу и задумчиво произнес:
– Стало быть, в эфтим самом месте энти самые короли…
– Именно так, – подтвердил я.
– Все короли да все Людовики… И что за причина такая? – с своей стороны затужила было Матрена Ивановна, но Захар Иваныч не дал ей продолжать.
– Шабаш! – сказал он, – царство небесное – и кончен бал!
Однако ж через несколько минут он вновь возвратился к тому же сюжету.
– И как эти французы теперича без королей живут? Чудаки, право!
– А как живут! Известно: день да ночь – сутки прочь! – объяснила Матрена Ивановна.
– Не иначе, что так. У нас робенок, и тот понимает: несть власть аще…14 а француз этого не знает! А может, и они слышат, как в церквах про это читают, да мимо ушей пропущают! Чудаки! Федор Сергеич! давно хотел я тебя спросить: как на твоем языке «король» прозывается?
– Rex.
– А инператор?
– Imperator.
– А который, по-твоему, больше: rex или imperator?
– Imperator – уж на что выше!
– Ну, так вот ты и мотай себе на ус… да!
Блохин выговорил эти слова медленно и даже почти строго. Каким образом зародилась в нем эта фраза – это я объяснить не умею, но думаю, что сначала она явилась так, а потом вдруг во время самого процесса произнесения, созрел проекте попробую-ка я Старосмыслову предику сказать! А может быть, и целый проект примирения Старосмыслова с Пафнутьевым вдруг в голове созрел. Как бы то ни было, но Федор Сергеич при этом напоминании слегка дрогнул.
А Блохин между тем начал постепенно входить во вкус и подпускать так называемые обиняки. "Мы-ста да вы-ста", "сидим да шипим, шипим да посиживаем", "и куда мы только себя готовим!" и т. д. Выпустит обиняк и посмотрит на Федора Сергеича. А в заключение окончательно рассердился и закричал на весь Трианон:
– Свиньи – и те лучше, не-чем эти французы, живут! Ишь ведь! Королей не имеют, властей не признают, страху не знают… в бога-то веруют ли?
Насилу мы его увели.
На другой день мы отправились в Фонтенбло, но эта резиденция уже не вызвала ни той сосредоточенности, ни того благоговейного чувства, каких мы были свидетелями в Версали. Благодаря Краснохолмскому приволью, Захар Иваныч настолько был уже преисполнен туками, что едва успели мы осмотреть перо, которым Наполеон I подписал отречение от престола, как он уже запыхался. Ни знаменитого Фонтенблоского леса, ни прочих достопримечательностей мы так и не осматривали, потому что Блохин на все предложения твердо отвечал: ну их к ляду! И только дорогой, едучи в Париж, молвил:
– Пожил, повоевал – и шабаш! Умный был человек, а вот… И какая этому причина?!
Во всяком случае, впечатления этих двух дней не прошли для Блохина даром. Тени Людовиков как бы остепенили его; до сих пор он выказывал себя умеренным либералом, теперь же вдруг сделался легитимистом.
Воротившись из экскурсии домой, он как-то пришипился и ни о чем больше не хотел говорить, кроме как об королях. Вздыхал, чесал поясницу, повторял: "ему же дань – дань!", "звезда бо от звезды", "сущие же власти" 15 и т. д. И в заключение предложил вопрос: мазанные ли были французские короли, или немазанные, и когда получил ответ, что мазанные, то сказал:
– Ну, стало быть, не так их мазали, как прописано. Потому, если б их настояще мазали, так они бы и сейчас в этой самой Версали сидели, и ничего бы ты с ними не поделал… ау, брат!
Покончив таким образом с Людовиками, перешел к Наполеону и не одобрил его.
– Знал ведь, что законный король в живых состоит, а между прочим и виду не подавал, что знает… все одно что у нас Пугачев!
И, наконец, до того довел необузданность чувств, что пожелал познакомиться и с Гамбеттой.
– Одно бы мне ему только слово сказать! только одно слово… и аминь!
Внимая Захару Иванычу, все остальные как-то присмирели. Вообще я давно уж заметил, что как только заведется разговор о том, как и кто "мазан", так даже у самых словоохотливых людей вдруг пропадает словесность. Не знаю, понимают ли Краснохолмские первой гильдии купцы, что в это время с их слушателями происходит нечто не совсем ладное, но, во всяком случае, они с изумительным инстинктом пользуются подобными минутами замешательства. Уж на что, кажется, добродушен Захар Иваныч, а посмотрите, как он распелся, как только напал на подходящий мотив! Сразу догадался, что он хоть до завтра калякай, а мы все-таки будем его слушать. И в Красном Холму выслушаем, и в Париже выслушаем. Потому что эти первой гильдии купцы… кто же их знает, что у них на уме! Сейчас он об Старосмыслове печалуется: "что они с ним изделали?", а вслед за тем вдруг по поводу того же Старосмыслова сбесится и закричит: караул! сицилист!
И действительно, начал Блохин строго, а кончил еще того строже. Говорил-говорил, да вдруг обратился в упор к Старосмыслову и пророческим тоном присовокупил:
– А ты, парень, все-таки на ус себе наматывай!
Чуть было я не сказал: ах, свинья! Но так как я только подумал это, а не сказал, то очень вероятно, что Захар Иваныч и сейчас не знает, что он свинья. И многие, по той же причине, не знают.
Часа четыре сряду я провозился на кровати, не смыкаючи очей, все думал, как мне поступить с Старосмысловым: предоставить ли его самому себе или же и с своей стороны посодействовать его возрождению? В последнее время с Старосмысловым происходило нечто очень странное: он осунулся, похудел и до такой степени выцвел, как будто каждый день принимал слабительное. Сверх того, я заметил, что и Капитолина Егоровна, по временам, появляется с красными глазами, как бы от слез. Ясно, что между ними возник вопрос, и именно вопрос о раскаянии. По-видимому, Федор Сергеич готов сдаться; напротив того, Капитолина Егоровна – крепится. И по целым часам ведут они между собой бесконечно тяжкий разговор: как тут быть? – и ни до чего не могут договориться…
Разумеется, самая трудная сторона для разрешения – это материальная. Какие перспективы может иметь учитель латинской грамматики? какую производительную силу представляет он собой? И притом такой учитель латинской грамматики, которому не выдали даже прогонных денег?! Вот, ежели вышлют прогоны, тогда можно, пожалуй, и воспрянуть; но если не вышлют… Но положим, что даже и вышлют – разве можно бессрочно жить в Париже, исполняя поручения на тему Tolle me, mu, mi, mis… Когда же нибудь придется и опять в Навозный с отчетом ехать… И не одному Старосмыслову, и всем придется туда ехать, всем с чистым сердцем предстать. Вот это-то мы и забываем. Гуляем да гуляем, думаем, что и конца этому гулянью не будет, и вдруг рассыльный из участка: пожалуйте!
И охота была Старосмыслову "периоды" сочинять! Добро бы философию преподавал, или занимал бы кафедру элоквенции,[154]154
красноречия
[Закрыть] а то – на-тко! старший учитель латинского языка! да что выдумал! Уж это самое последнее дело, если б и туда эта язва засела! Возлюбленнейшие чада народного просвещения – и те сбрендили! Сидел бы себе да в Корнелие Непоте копался – так нет, подавай ему Тацита! А хочешь Тацита – хоти и Пинегу… предатель!
И ведь отлично он знал, что за это у нас не похвалят. С пеленок заставляли его лепетать: "сила солому ломит" – раз; "плетью обуха не перешибешь" – два; "уши выше лба не растут" – три; и все-таки полез! И географии-то когда учили, то приговаривали: Кола, Пинега, Мезень; Мезень, Мезень, Мезень!.. Нет-таки, позабыл и это! А теперь удивляется… чему?
Ясно, что он Капочке поправиться хотел, думал, что за "периоды" она еще больше любить станет. А того не сообразил, милый человек, что бывают такие строгие времена, когда ни любить нельзя, ни любимым быть не полагается, а надо встать, уставившись лбом, и закоченеть.
Удивительно, как еще Тацита Пафнутьев в покое оставил, как он и его в Пинегу не сослал? Истинно, Юпитер спас!
Ах, надо же и Пафнутьева пожалеть… ничего-то ведь он не знает! Географии – не знает, истории – не знает. Как есть оболтус. Если б он знал про Тацита – ужели бы он его к чертовой матери не услал? И Тацита, и Тразею Пета, и Ликурга, и Дракона, и Адама с Евой, и Ноя с птицами и зверьми… всех! Покуда бы начальство за руку не остановило: стой! а кто же, по-твоему, будет плодиться и множиться?
И все-таки надо как-нибудь подкрепить Старосмыслова в его новом душевном настроении. Не так грубо, как взялся за это Захар Иваныч, а как-нибудь стороной, чтоб ему в самый раз было, да и Капитолину Егоровну не очень бы огорчило. Но как это сделать? Ежели начать с "чин чина почитай" – он-то, может быть, и найдет в своем сердце готовность воспринять эту истину, да Капитолина Егоровна, чего доброго, заплачет. По какой причине она заплачет – об этом двояко можно сказать. Может быть, оттого, что с прежней либеральной позицией жалко расстаться, а может быть, и оттого, что она и сама уж понимает, что музыка ее не выгорела. Но и в том и в другом случае несомненно, что она заплачет оттого, что на сердце кошки скребут.
Но потому-то именно и надо это дело как-нибудь исподволь повести, чтобы оба, ничего, так сказать, не понимаючи, очутились в самом лоне оного. Ловчее всего это делается, когда люди находятся в состоянии подпития. Выпьют по стакану, выпьют по другому – и вдруг наплыв чувств! Вскочут, начнут целоваться… ура! Капитолина Егоровна застыдится и скажет:
– Что ж, ежели все… попробуй, Федя! А Захар Иваныч поощрит:
– Валяй!
Вот оно, какие дела могут из "периода" на свет божий выскочить!
Но тут мысли в моей голове перемешались, и я заснул, не придумавши ничего существенного. К счастию, сама судьба бодрствовала за Старосмыслова, подготовив случай, по поводу которого всей нашей компании самым естественным образом предстояло осуществить идею о подпитии. На другой день – это было 17 (5) сентября, память Захарии и Елисаветы – едва я проснулся, как ко мне ввалился Захар Иваныч и торжественно произнес:
– Бог милости прислал. Прямо из церкви-с. Просим покорно сегодня пирога откушать.
– По какому случаю?
– По случаю дня ангела-с. Хоть и в иностранных землях находимся, а все же честь честью надо ангелу своему порадоваться. В русском ресторане-с.
И вдруг словно луч меня осветил. Все, что я тщетно обдумывал ночью и для чего не мог подыскать подходящей формулы, все это предстало передо мною в самой пленительной ясности!
"Русский ресторан" помещается недалеко от Итальянского бульвара, против Комической Оперы, и замечателен, по преимуществу, тем, что выходит окнами на обширный и притом совершенно открытый писсуар. Из русских кушаний тут можно получить: tschy russe, koulibak и bitok au smetane,[155]155
щи русские, кулебяка, биток в сметане
[Закрыть] все остальное совершенно то же, что и в любом французском ресторане средней руки. Посетитель этого заведения немногочислен и стыдлив. Заходит больше средний русский человек, и не в обычный парижский обеденный час, а так, между двумя и тремя часами. Спросит порцию щей или биток, пообедает, а знакомым говорит, что завтракает. И знакомые тоже обедают, но уверяют, что завтракают. И таким образом, политиканят и лгут совершенно так же, как в России, а зачем лгут – сами не знают. Из «особ» сюда приходят (и тоже говорят, что завтракают) те немногие сенаторы, которые получают жалованье по штату и никакими иными «присвоенными» окладами не пользуются. На Париж-то ему посмотреть хочется, а жалованье небольшое и детей куча – вот он и плетется в русский ресторан «завтракать».
Да, есть такие бедные, что всю жизнь не только из штатного положения не выходят, но и все остальные усовершенствования: и привислянское обрусение, и уфимские разделы – все это у них на глазах промелькнуло, по усам текло, а в рот не попало. Да их же еще, по преимуществу, для парада, на крестные ходы посылают!
Сидит он, этот в штат осужденный, где-нибудь на Васильевском острове, рад бы десять таких жалованьев заглотать, и не дают. Вспомнит, как в свое время Юханцев жил, сравнит свои заслуги с его заслугами и заплачет. Обидно. А всего обиднее, что не только прибавки к штатному содержанию, но даже дел ему на просмотр не дают: где тебе, старику! Вот ужо крестный ход будет, так пройдешься! А между тем он, ей-богу, еще в полном разуме… Хоть сейчас испытайте! Ваше превосходительство! да вы попробуйте!.. Ну, что там пустое молоть!
И чего-чего только он не делал, чтоб из штата выйти! И тайных советников в нигилизме обвинял, и во всевозможные особые присутствия впрашивался, и уходящих в отставку начальников походя костил, новоявленных же прославлял… Однажды, в тоске смертной, даже руку начальнику поцеловал, ан тот только фыркнул! А он-то целуя, думал: господи! кабы тысячку!
Говядина нынче дорогая, хлеб пять копеек за фунт, а к живности, к рыбе и приступу нет… А на плечах-то чин лежит, и говорит этот чин: теперь тебе, вместо фунта, всего по два фунта съедать надлежит!
И вдруг он надумал в Париж… сколько смеху-то было! Даже экзекутор смеялся: так вы, Иван Семеныч, в Париж? А он одну только думу думает: съезжу в Париж, ворочусь, скажут: образованный! Смотришь, ан тысячка-другая и набежит!
И вот он бежит в русский ресторан, съест bitok au smetane – и прав на целый день. И все думает: ворочусь, буду на Петровской площади анекдоты из жизни Гамбетты рассказывать! И точно: воротился, рассказывает. Все удивляются, говорят: совсем современным человеком наш Иван Семеныч приехал!
Но ждет он месяц, ждет другой – нет против штатного положения облегчения, да и на-поди! Господа! да обратите же, наконец, внимание! Анна-то Ивановна ведь уж девятым тяжела ходит!
Вот в этот самый ресторан и привлек нас Блохин. Вероятно, он руководился соображением, что имениннику без кулебяки быть нельзя, а в другом месте этого кулинарного продукта не отыщешь.
Я не буду останавливаться на обеденном menu: Захар Иваныч из всех сил выбился, чтоб сообщить ему вполне Краснохолмский характер. Ради вящего сходства, он даже прихватил парочку тайных советников, из русских ресторанных habituИs,[156]156
завсегдатаев
[Закрыть] которые, должно быть, еще накануне пронюхали, что русский купчина будет справлять именины, и с утра, выбритые и с подвитыми висками, подстерегали нас. Я, впрочем, потому позволяю себе эту догадку, что тайные советники явились во фраках, и как только окончательно уверились, что их пригласили, то вынули из боковых карманов по звезде и возложили их на себя по установлению. За столом тайные советники поместились по обе стороны Зои Филипьевны, причем когда кушанья начинали подавать с одного тайного советника, то другой завидовал и волновался при мысли, что, пока дойдет до него черед, лучшие куски будут уже разобраны. Сверх того, я заметил, что тайные советники всякого кушанья накладывали на тарелки против других вдвое: одну порцию лично для себя, а другую – ради чина. Но так как они поступали таким образом не из жадности, а по принципу, то Захар Иоаныч не только не тяготился этим, но даже упрашивал взять еще по кусочку – на звезду.
Ели и пили мы целых полтора часа. И вот, когда тайные советники впали, от усиленной еды, во младенчество, а прочие гости дошли до точки, я улучил минуту и, снявшись со стула, произнес спич.
– Захар Иваныч! – сказал я, – торжествуя вместе с вами день вашего ангела, я мысленно переношусь на нашу милую родину и на обширном ее пространство отыскиваю скромный, но дорогой сердцу городок, в котором вы, так сказать, впервые увидели свет. Этот город был свидетелем ваших младенческих игр; он любовался вами, когда вы, под руководством маститого вашего родителя, неопытным юношей робко вступили на поприще яичного производства, и потом с любовью следил, как в сердце вашем, всегда открытом для всего доброго, постепенно созревали семена благочестия и любви к постройке колоколен и церквей (при этих словах Захар Иваныч и Матрена Ивановна набожно перекрестились, а один из тайных советников потянулся к амфитриону и подставил ему свою голую и до скользкости выбритую щеку). И вот теперь, когда родитель ваш уже скончался ("царство небесное!" – шепчет Матрена Ивановна), родной город может засвидетельствовать, что ваше яичное производство не только не умалилось, но распорядительностью вашею доведено до размеров, дотоле не слыханных.
Исполать вам, Захар Иваныч! ибо надобно знать, что такое яйцо и какую роль оно играет в жизни человеческих обществ; надобно собственным опытом убедиться, как этот продукт хрупок и каким опасностям он подвергается при перемещениях, чтоб вполне оценить вашу заслугу перед отечеством. Если б приказчики ваши не разъезжали круглый год по деревням нашим, то крестьянин, этот первый производитель яйца, – куда бы, спрашивается, он девался с ним? А с другой стороны, если б вы, ценою неустанных трудов, не переместили яйца из деревни в столицу, каким бы другим равносильным продуктом мог заменить его житель последней? Таким образом, освобождая жителя деревни от продукта, который представляет для него ценность лишь потолику, поколику он служит подспорьем для исправной уплаты податей, вы снабжаете оным жителя столицы, который любит яйцо уже ради яйца и ценит оное, потому что понимает в нем толк. Но этого мало! К яичному производству вы постепенно присоединили производство курятное, а ежели подойдет хороший случай, то не возбраняете себе и скромные операции коровьим маслом. Я знаю, Захар Иваныч, что все эти операции вы производите при содействии любезнейшей супруги вашей, Зои Филипьевны, и почтеннейшей вашей сестрицы, Матрены Ивановны (Матрена Ивановна крестится – и говорит тайным советникам: кушайте, батюшки!), но это приносит лишь честь вашей коммерческой прозорливости и показывает, как глубоко вы поняли смысл старинной латинской пословицы: Concordia res parvae crescunt,[157]157
при согласии удаются и малые дела
[Закрыть] а без конкордии и magnae res dilabuntur.[158]158
великие дела разрушаются
[Закрыть] Поэтому, поздравляя вас с днем ангела, мы поступим вполне согласно с обстоятельствами дела (тайные советники, заслушав этот достолюбезный оборот речи, кивают головами), ежели в этом поздравлении соединим наш сердечный привет и верным сообщницам вашим на поприще яичного и курятного производства. Захар Иваныч! Зоя Филипьевна! за вас поднимаю бокал мой! Плодитесь! Плодитесь смело и беззаботно, ибо в размножении купеческих детей заключается существеннейшее назначение Краснохолмского 1-й гильдии купца! Вы же, милая Матрена Ивановна, яко добрая сестра и будущая тетка, старайтесь, и не имея собственного плода, проводить время с пользою!
Я на минуту остановился, и мы начали целоваться. Сознаюсь откровенно, самым вкусным мне показался поцелуй Зои Филипьевны, а самыми невкусными и даже противными – поцелуи тайных советников, у которых, от старости, и губы как будто изныли, а вместо них остался тонкий рубец, тщательно подбритый снизу и сверху. Когда же обряд целованья кончился, я продолжал:
– Но я не выполнил бы своей задачи, если б, ввиду настоящего умилительного торжества, не упомянул и о другой, вечно присущей сердцам нашим, имениннице – о нашей дорогой, далекой родине. Я не буду говорить здесь о благодеяниям, которые она щедрою рукою изливает на нас: мы все, здесь присутствующие, слишком явственно испытываем на себе выражение этих благодеяний. Одних из нас она произвела в тайные советники; другим в перспективе показывает звание коммерции советника, а в ожидании такового предоставляет пользоваться правами 1-й гильдии купца; перед третьими раскрывает тайны латинской грамматики; наконец, дам наделяет скромностью и свойственными женскому полу украшениями. Но не забудем, что ежели, с одной стороны, отечество простирает над нами благодоющую руку свою, то, с другой стороны, оно делает это не беспошлинно, но под условием, чтоб мы повиновались начальству и любили оное. Ибо, в сущности, что такое отечество, Захар Иваныч (Захар Иваныч оттопыривает губы)? Отечество, Захар Иваныч, это есть известная территория, в которой мы, по снабжении себя надлежащими паспортами, имеем местожительство. Вот что такое отечество. Но я не могу скрыть от вас, Захар Иваныч, что территория, о которой я говорю, нередко изменяет свои очертания, отчасти вследствие военных удач или неудач, отчасти же вследствие дипломатических договоров и конвенций Так, до 1871 года, Страсбург был французским отечеством, ныне же, вследствие парижского договора, он сделался немецким отечеством. Подобно сему, Измаил долгое время состоял нашим отечеством, потом перестал быть оным, а ныне опять сделался таковым. Кто знает, быть может, со временем мы увидим мервских исправников, подобно тому как уже видим исправников карских, батумских 16 и иных? Благодаря этим изменяемостям, любовь к отечеству приобретает несколько абстрактный характер, вследствие чего многие, при упоминании об отечестве, только оттопыривают губы. И вот, для того чтоб мы не оттопыривали губ, но понимали этот предмет во всей его ясности, нам предлагается начальство. Начальство, Захар Иваныч, есть нечто уже совершенно определенное, имеющее границы явственные и непререкаемые: от коллежского регистратора до действительного тайного советника включительно. И в этих границах мы всем должны повиноваться и всех любить. Конечно, горьконько бывает повиноваться коллежским регистраторам, но горечь эта несомненно и с избытком уравновешивается сладостью повиновения тайным и действительным тайным советникам…