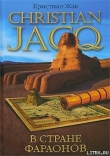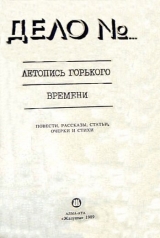
Текст книги "Дело № 179888. Летопись горького времени"
Автор книги: Михаил Зуев-Ордынец
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Михаил Зуев-Ордынец
•
Дело № 179888
Тут ни убавить,
Ни прибавить -
Так это было на земле…
А. Твардовский
Шпалерка
Из темных глубин сна прилетел повелительный, оскорбительно-грубый окрик:
– Твой номер дела?
И я кричу в ответ громко и четко, как полагалось:
– Сто семьдесят девять восемьсот восемьдесят восемь!
Кричу и просыпаюсь с каменной тоской на душе. Опять это началось! Опять я там!..
Прошло четырнадцать лет с того дня, когда я в последний раз выкрикнул этот номер. Но до сих пор не забыл его. И никогда не забуду. Мне кажется, когда придет моя последняя минута, когда я буду делать последний вздох, если и тогда я услышу этот грубый окрик, я с последним дыханием все же крикну громко и четко, как полагалось отвечать:
– Сто семьдесят девять восемьсот восемьдесят восемь!
I
И номер моей камеры в Шпалерке я помню до сих пор – 28, хотя прошло двадцать семь лет. Шпалеркой называли в Ленинграде следственную тюрьму НКВД на бывшей Шпалерной улице. Помню также, что камера моя была на втором этаже, что стояли в ней четыре железные койки с матрацами, но без подушек, простыней и одеял. Это значит, что рассчитана камера была на четырех арестованных, а набивали в нее по двадцать-тридцать человек, а под конец моего заключения дошло до сорока. Когда мы зимой открывали окно, проветривая камеру, на улицу вываливался рыжий вонючий пар. Помню еще, что вместо двери во всю ширину камеры была решетка из толстых прутьев, а в ней узкая дверь. Совсем как в клетках зоопарка. Мы называли нашу камеру – «обезьянник».
Не скрою, камера напугала меня, когда в ночь с 9 на 10 апреля 1937 года за мной лязгнула решетчатая дверь. На меня в упор смотрели угрюмые, мрачные люди. Грязно-серая тюремная бледность лиц, клочкастые бороды, разбойничьи какие-то или пиратские, а головы по каторжному коротко острижены. Вот они: шпионы, диверсанты, террористы, убийцы из-за угла, злейшие враги Советской власти! Боже мой, но почему же я-то здесь? Чего мне ждать от этих тварей?
Не сразу, правда, но все же очень быстро я узнал, какие это «твари» и «злейшие враги». Молоденький, первого года службы, красноармеец обвинялся в контрреволюционной агитации: в полковом клубе, подойдя к карте Испании, он в сердцах выругался: «Вот черт, у Франко территории больше, чем у наших!» Старый печник из Тосно спустил с лестницы приглашенного на свадьбу дочери гостя, уполномоченного НКВД, безобразно напившегося и безобразно пристававшего к невесте. Значит – террорист. Профессор-японовед ходил в шпионах: он несколько раз бывал в Японии и женился на японке. Она тоже сидела на Шпалерке. Профессор-микробиолог «заразил» опасной болезнью малышей в детском доме, где он никогда не бывал и где никто из малышей не умер. Но профессор жил рядом с детским домом. Этого достаточно. Были еще в камере два секретаря райкомов из области, два председателя колхоза и рядовой колхозник, инженеры, рабочие, капитан первого ранга – крупный инженер, специалист по «главному калибру» военных кораблей, китаец из прачечной, немец-коммунист, бежавший от Гитлера в Советски?! Союз, даже начальник милиции, даже епископ Каргопольский и Белозерский Павел, тихий, благостный и вельми ветхий годами, вызывавший у нас улыбку своей седой косицей, перевязанной красной ленточкой.
Не обошлось в нашей камере и без представителей литературного цеха.
До тюрьмы я не был знаком с Адрианом Ивановичем Пиотровским, но знал его по Институту истории искусств, где с наслаждением слушал его блестящие лекции об искусстве Эллады. Человек нежнейшей и чистейшей души, одержимый страстью ко всему истинно прекрасному, знаток античной литературы, тонкий переводчик Аристофана, и драматург, и киносценарист, и поэт, хотя он стыдился своих стихов, написанных в молодости. Человек энциклопедических знаний, он работал и в театре, и в опере, и в литературе, но больше всего в кино. Два поколения ленинградских киномастеров воспитал он. Адриан Иванович добровольцем шел по кронштадтскому льду, а его обвинили в организации вооруженного восстания против Советской власти: в подвалах «Ленфильма», где он работал редактором, нашли кучу железного лома, негодные к употреблению не стреляющие пулеметы и винтовки, оставшиеся после съемки какого-то фильма из времен гражданской войны. Ему грозила «вышка», расстрел, но мужественный, светлый и нежный, как женщина, он беспокоился о других и очень мало о себе.
А мой друг, ленинградский писатель Сергей Безбородов, «вокругсветовец», искатель непроторенных троп и на земле и в литературе, на мой вопрос – за что? – развел руками. Он пробыл два года в Арктике, на полярной станции, и, сходя по трапу на пирс Архангельска, увидел жену с ребенком, бросился было к ним, но тут же, на трапе, его окружили люди в одинаковых серых макинтошах, посадили в машину и, не дав поцеловать жену и сынишку, увезли в Ленинград. Он сидит в Шпалерке второй месяц, на допрос его не вызывали, и не знает он, в чем его будут обвинять.
Я поставил эпиграфом к своим воспоминаниям строки из поэмы А. Твардовского «За далью – даль», а надо было бы дать слова Шекспира: «Это сказка, рассказанная идиотом, полная безумия и шума, лишенная всякого смысла». Сколько чудовищных, преступных нелепостей выслушал я здесь, в этой камере, в какие глубины отчаяния и страха заглянул я! Нет, не страха и не отчаяния даже, а ужаса, угарного, удушающего и обезволивающего. И какие высоты мужества и верности идеям Октября и ленинской партии увидел я здесь…
2
Поднятая моим приходом камера снова начала укладываться. На койки с матрацами никто не лег: позднее я узнал, почему. Ложились на две скамьи около обеденного стола и на грязные вытертые солдатские одеяла, разостланные по цементному, зашарканному за день полу. На полу, на одеялах, всем мест не хватало, остальным приходилось спать сидя, поджав ноги и привалившись спиной к стене.
Я написал – приходилось спать. А спали очень немногие. Лежали и сидели с открытыми глазами или стояли, охваченные нервным ознобом. На допросы вызывали только по ночам. Камера не спала, а притворялась спящей, тревожно вслушиваясь в опасную тишину преисподней.
Прозвенела мелодично связка ключей надзирателя у нашей решетки.
О, звон ключей тюремного надзирателя! О звоне этом можно написать мрачную балладу.
Все разом поднялись, лежавшие сели, сидевшие вскочили. Надзиратель, приблизив лицо к решетке, прошептал медленно, отрывая слова:
– На букву… пы… Есть такие?
К решетке подошли четверо и, тоже шепотом, назвали свои фамилии, начинавшиеся на «П». Надзиратель ткнул в одного пальцем:
– Ты. Выходи!
Вызванного увели. Без шума, без громких разговоров, чтобы в соседних камерах не услышали фамилий. Только задавленный шепот. Позорные тюремные тайны!
Через полчаса снова серебряно прозвенели ключи. На этот раз привели с допроса. Не привели, а притащили и втолкнули в камеру. Он попытался шагнуть, но начал падать, не сгибаясь, как статуя. Он и упал бы плашмя, если бы его не подхватили и не перенесли бережно на койку. Вот почему никто не занимал их ночью. А к койке уже подходил староста камеры главный хирург ленинградской Надеждинской больницы имени Снегирева.
Здесь я сделаю отступление. Я должен рассказать о дорогом, незабвенном нашем старосте камеры – золотом, скромном, душевном человеке и кристальном большевике. Я и сейчас вижу его лицо простого, доброго русского человека, которому легко и приятно смотреть прямо в глаза. Кряжистый, нескладный, заросший окладистой, прошитой серебряными нитями бородой, он был некрасив, но про него, перефразируя Чехова, можно было сказать: в этом человеке все прекрасно. Как он нянчился с нами, приведенными или притащенными с допроса, с нашими синяками, ссадинами, распухшими ногами, остановившимися сердцами, а главное с нашими истерзанными, растоптанными душами. Как он умолял однажды надзирателя отправить в лазарет (а добиться этого было не легко!) старика печника, задыхавшегося в жестоком сердечном припадке. Он кидался то к печнику, прикладывал мокрую тряпку к его останавливающемуся сердцу, то, с той же тряпкой в руках, бежал к решетке. А надзиратель, заложив руки за спину и покачиваясь с носков на каблуки, тянул равнодушно:
– Ничего из этого не выйдет. Не имею указаний.
Тогда доктор швырнул мокрую тряпку на пол и закричал:
– Ведь он же человек! Не по-советски поступаешь, надзиратель!
Надзиратель перестал раскачиваться и засмеялся:
– Человек? Человеков у нас тут нет, а советская власть на вас наплевала. Понял? Наплевала!
Доктор ошеломленно отшатнулся, потом вцепился в прутья решетки и бешено завопил:
– Врешь, собака, врешь, подлец! Не смей, слышишь, не смей, не смей!
Его уволокли в карцер. Вернулся он через три дня угрюмый, притихший. Кое-кому он рассказал о безоконном, залитом водой карцере, где он сидел вдвоем с тихо помешанным, лепившим из своего кала сигары и просившим у доктора прикурить. Кто был этот замученный человек, доктор не смог узнать…
…Доктор начал массировать распухшие, как бревна, негнущиеся ноги притащенного с допроса человека. От койки долетал неясный шепот. Я уловил несколько слов.
– Спокойно, милый, спокойно, – Шептал доктор. – Приказываю немедленно заснуть. Все три дня, поди, не спали?
– Да… трое суток… Я ему яснее ясного доказываю… а он мне… а он меня… – не то всхлипывая, не то задыхаясь, шептал человек с распухшими ногами.
– Начальник паровозного депо, – шепнул сидевший рядом со мной на полу красноармеец. – Паяют ему систематическую порчу паровозов. Диверсию паяют. Надо же!
– А что у него с ногами?
– Выстойка! Придумали же, черти! Трое суток стоял, как бессменный часовой. Упадешь – отлупят и снова поставят столбом. А знаете, как потом ноги болят? Будто кости ломают. Он еще кричать будет от боли. – Красноармеец помолчал. – Или вот еще «баня».
– Что это такое?
– Оденут вас в тулуп, и на выстойку около горячей батареи отопления. Потом горяченьким обольетесь, как кипятком. Баня же! Говорят, даже соль на тулупе выступает. Может это быть, как думаете?
– Не знаю. Думаю, что через тулуп соль не проступит. А еще что у них есть?
– Много всякого разного. Скоро сами узнаете, – красноармеец махнул рукой и начал примащиваться поспать. Но прикорнуть и на этот раз не пришлось. Вызвали на допрос профессора-японоведа. Отмякшее после недолгого сна лицо старика стало сразу каменным. Ни испуга, ни робости на нем не было. Оно стало суровым и презрительно-надменным. Словно перед входом в университетскую аудиторию, он надвинул двумя пальцами рукава пиджака на выбившиеся грязные манжеты, одернул полы, легкими взмахами ладони смахнул с брюк пылинки.
– Довольно тебе ощипываться! – раздраженно шепнул надзиратель за решеткой. – Там тебя не так ощиплют!
Едва ушел профессор, вызвали епископа Павла. Закрестился мелко, часто, прошептал молитву и вышел. Вызвали и еще одного, спавшего на скамье. А камера по-прежнему не спала. Кто-то тяжело вздохнул, кто-то сел, обхватив голову руками и покачиваясь как от невыносимой боли.
А я думал. Я где-то читал легенду о том, как создавались тысячелетия назад циклопические постройки из огромных каменных плит, менгиры, дольмены, кромлехи. Не было никаких машин, даже примитивных. Толпа дикарей, все племя, так внутренне собиралось, впиваясь глазами в гигантскую глыбу и соединяя тысячи воль в единый могучий волевой напор, что камень через какой-то промежуток времени сдвигался и взрывался, как от динамита. И если бы можно было, думал я, собрать воедино мысли, чувства и страстные желания набитых в нашу тюрьму людей, их гнев, возмущение, страх, отчаяние, непоколебимую верность и несгибающееся мужество, если бы можно было собрать воедино и устремить в цель всю эту взрывчатую энергию, рухнули бы ненавистные стены нашей тюрьмы. Но молчит тюрьма, затаив дыхание, слушает подкрадывающиеся шаги надзирателей.
Не надо, однако, думать, что в нашей камере было только уныние, плач, воздыхания и скрежет зубовный. В нашей тюремной жизни, если ее можно было назвать жизнью, все фантастически перемешалось. Измученные, смятые, выпотрошенные люди неожиданно начинали смеяться облегченно и весело удачной шутке или остроте. Мы любили посмеяться надо всем, даже друг над другом и над нашей горькой участью, а больше всего над нашими тупыми, скучными и одновременно звероподобными следователями. Мы любили беззлобно поддразнивать друг друга, изобразить в лицах «разговор шерочки с машерочкой», т. е. наши допросы. В нас не умер вкус к смешному и остроумному, потому что совесть наша была чиста, и никакой вины мы за собой не чувствовали. И еще потому, что мы верили, мы тогда крепко верили, что скоро выйдем на волю и наши близкие, родные, любимые встретят нас цветами.
И вот, когда снова зазвенели ключи надзирателя, инженер-геолог сказал, озорновато косясь на дверь:
– Безобразие! Как в родильном доме, врываются в любой час ночи.
Камера охотно и легко засмеялась шутке, но тотчас смолкла. Привели с допроса профессора-японоведа. Взглянув на его лицо, я чуть было не закричал от ужаса. У него был вырван глаз. Жутко и жалко мигала кроваво-красная пустая глазница. Поняв мои чувства, он успокаивающе улыбнулся:
– Ничего страшного, дорогой друг. У меня был фарфоровый глаз.
– Выпал? – подошел к нему доктор. – Там?
– Да… Меня ударили по лицу. Я нагнулся поднять, а он отпихнул меня ногой и раздавил. Пяткой… Теперь я старый кривой хрыч…
Он вдруг упал на койку навзничь, раскинув сжатые в кулаки руки, как боец, сбитый пулей. И заплакал. Невыносимо было смотреть на скупые старческие слезы, струившиеся из пустой глазницы.
Под утро вернулся и епископ Павел. Он вошел в камеру, как всегда благостно улыбаясь всем нам и пряча руки в длинных и широких рукавах рясы. Волосы его были разлохмачены, как у пьяной бабы после потасовки, и было их меньше против прежнего, и не было в косице смешившей нас ленточки.
– Что, ваше преосвященство, и служителей всевышнего не милуют? – горько пошутил геолог.
– Органы… – покорно вздохнул епископ.
3
Вспоминать – это значит пережить вновь, говорит Бальзак. Страшно и очень больно переживать снова эти долгие, мучительные годы. И все же я решился рассказать о немыслимой беде народной. И не на потребу обывателя, не для того, чтобы пощекотать его нервы описанием ужасов ежовских и бериевских застенков. Я пишу это для нашей молодежи. Пусть знают они, как в застенках их отцы все же выстояли, не продали душу черту трусости и предательства, не перестали верить в нашу революцию и в нашу партию.
Для нашей молодежи пишу я о годах всенародной беды. Тяжелая ноша переоценки многих ценностей легла на ее еще не окрепшие плечи, я хочу помочь ей в решении больших вопросов. Знайте: пройдя через ночи 1937 года, когда кто-то загадочный, безликий и равнодушный к мучительным трепетаньям души и плоти человеческой отнимал веру во все самое святое, в Октябрь, в партию, веру в человека и в самого себя, все же устояли ваши отцы, не надломились и остались коммунистами, честными советскими людьми, просто честными людьми.
Так вот, слушайте, через что прошли, как чувствовали, как верили и как боролись ваши отцы!
Да, все что было.
Было!
Для следователей все средства были хороши, лишь бы подобраться к нашим душам, лишь бы найти в них щель, пусть самую незначительную, и взломать, разрушить душу, выдрать из нее все лучшее и высокое. А поистине лейтмотивом всех наших допросов было:
– Назови фамилии! Кто твои сообщники? Называй всю вашу банду!
Я это по себе знаю, во время таких разговоров взор моего следователя становился плотоядным. Но назвать фамилии, то есть оклеветать невинных людей – сослуживцев, знакомых, друзей – это значит наслать на них непоправимую беду. Ночную беду! Звонок разбудит спящую квартиру. Дверь, открытая вдруг задрожавшими от предчувствия руками. Дверь тотчас захлопнут пришедшие ночные гости, чтобы не вырвался на лестницу и не переполошил весь дом отчаянный женский вопль. А затем «черный ворон», Литейный, поворот на Шпалерную. У вновь арестованного будут требовать, чтобы он «назвал фамилии». И, подумать страшно, когда и где кончилась бы эта жуткая цепочка! Были, конечно, и те, которые называли. Были они и в нашей камере. Но об этом ниже.
И если не действовала «камера пыток» (кабинеты следователей по лексикону камеры), если не согнул человека вечный, тошнотворный, кружащий голову голод (в день 300 граммов хлеба и два раза жидкая баланда), тогда принимались выкручивать не руки, а душу, самые нежные, самые сокровенные чувства человека любящего и любимого.
Я видел, во что превращались люди после такой подлой нравственной пытки. Начальнику паровозного депо, месяц стонавшему от ломоты в распухших ногах и все же несломленному, следователь принялся рассказывать об изменах его молодой жены. Негодяй приводил всевозможные подробности, называл имена и фамилии ее якобы любовников, что трудно было не поверить. А ведь любовь и вера – наиболее незащищенные чувства. Но он молчал, крепился. Вообразите, каких душевных усилий стоило ему это молчание. Но пришел все же день, вернее, ночь, когда терзавшие его чувства вырвались наружу. Камера вскочила от воплей. Дело было летом, окна были распахнуты, и он, вцепившись в прутья оконной решетки, подняв к звездам залитые слезами глаза, вопил, выл от душевной боли:
– Роза, любимая, дорогая, не делай этого!.. Пожалей меня, Роза!..
Полная яркая луна холодно, бесстрастно освещала его лицо, искаженное мукой. Такие лица бывают только у приговоренных к смерти. Я почувствовал, как затрепетало у меня в веках глазное яблоко – говорят, истерика заразительна. Вбежавшие в камеру надзиратели оторвали его от решетки и уволокли. В лазарет, думаете? Нет, к следователю. Теперь от него можно было добиться любой подлости. Так думали ежовские мастера заплечных дел, они верили только в силу человеческого страха и отчаяния, но им неведомы были силы мужества и духовной стойкости советских людей. Начальник депо вернулся в камеру только через пять дней. Мы не узнали, где он их провел, и что с ним делали, но вернулся к нам совсем другой человек. Не было уже злобных выкриков, ненависти, не было даже отчаяния, он пришел с измученной улыбкой, говорил тихим, усталым голосом. Сорванная гайка, подумали мы, теперь верти его в любую сторону. Но мы услышали, как он говорил своему другу-старосте с какой-то роковой беззащитностью, но успокоенно:
– Чтобы утром, проснувшись, не жалеть, что проснулся, надо чувствовать, что ты не сволочь. Вы согласны со мной, доктор? Лучше язык себе откусить!
Мы возликовали. Не пропал человек! Жив человек! Униженный, затравленный, страдающий, а жив, не сдается и не сдастся!
А вскоре наступили дни тяжелых испытаний и для нашего милого старосты. Однажды он пришел в камеру после допроса с какими-то пустыми, неподвижными глазами. Он натыкался на людей, на скамейки, будто внезапно ослеп. Для нашего светлого, лучистого доктора померк свет!
На другой день мы узнали, что для доктора действительно померк свет. Следователь дал ему прочитать протокол партийного собрания больницы. Соратники доктора по партии называли его врагом народа, изменником Родины и партийным отступником. Первичная организация единогласно исключила его из партии, райком, а затем и в бюро обкома утвердили исключение. Он был членом обкома. Документ этот был, к сожалению, подлинным. Зараза страха, трусливых отречений и доносительства в годы сталинского самовластия широко расползлась по нашей стране. Чистые роднички человеческих чувств, советских и коммунистических ленинских идей умело загрязнялись, опоганивались. Доктор, будто с трудом что-то проглотив, дернул кадыком и закончил свой нерадостный рассказ так:
– Стар, видно, стал. Перестаю понимать. Почему это кругом столько подлецов развелось?
Начав рассказ о людях непоколебимой честности, об их нравственной высоте, я попутно хочу сказать не скорбную, а гордую правду о человеке моего цеха. Удивительно вел себя в камере Адриан Иванович Пиотровский, и особенно, когда возвращался с допросов. По-интеллигентски мягкий и с обостренной чувствительностью, присущей природе художника, он должен был сильнее и глубже многих из нас страдать от варварских допросов. Он нередко приходил от следователя со стиснутыми зубами, как малярик, силящийся удержать дрожь озноба, и все же находил силы шутить. Зная, как нужен нам смех, он неторопливо, как-то деликатно, без восклицательных знаков рассказывал об очередном допросе:
– Такой идиот моя машерочка. Я хотел с ним о литературе поговорить. Читали, говорю, наверное, у Куприна…
– О, господи! О литературе с машерочкой говорить! – смеемся мы. – Ну, ну, дальше!
– А он орет: «Какой там еще Куприн? Вот тебе Куприн!» Изволили ударить меня. И руку носовым платком вытерли. Такая чистюля моя машерочка!
Я любуюсь Адрианом Ивановичем. Что-то бесконечно привлекательное в его спокойной, умной улыбке, в неторопливых точных жестах, во всей свободной изящной манере держаться, а ведь его только что оскорбляли, били, недаром он то и дело щупает двумя пальцами нижнюю челюсть.
– Все-таки заинтересовался, спрашивает: «Ладно, давай, что там у вашего Куприна?» Куприн писал, говорю, что прежде у жандармов были обязательно голубые глаза. Подбирали к голубым околышам. Вижу, что эта славная традиция и теперь соблюдается.
Все смеются, а я воображаю, как Адриан Иванович невинно смотрит на голубые глаза следователя, ожидая удара. И удар, конечно, был. Адриан Иванович заканчивает:
– Второй раз машерочка руку платком не вытирал.
Он щурит на меня близорукие глаза и, видимо, неверно понимает выражение моего лица.
– Осуждаете за пошлятину? Но, бог мой, как же иначе с ним говорить? Не так же…
Полузакрыв глаза, тихо улыбаясь от наслаждения, он медленна читает:
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи.
Старца великого тень чую смущенной душой…
Во весь голос надо говорить об этом не крикливом, но гордом мужестве.
А у нас есть, к сожалению, люди, быстро и недостойно забывшие то, «что жизнь прошла насквозь». Очи уже морщатся, уже говорят: да, это было, да, это тяжело, стыдно, но хватит ворошить прошлое и выносить сор из нашей избы. Хватит, хватит!
Нет, не хватит! Ради настоящего и счастливого, разумного, честного будущего обязаны мы ворошить прошлое. Сталинский культ посеял в душах неустойчивых людей ядовитые семена, и до сей поры мы видим ростки этих недобрых семян в труде, в быту, в науке, в искусстве, в человеческих взаимоотношениях.
Мы обязаны расчистить поле нашей жизни, выполоть страх, угодничество, неуважение к человеку, робость слов и робость мыслей.
К Большой Чистке призывает нас Партия!