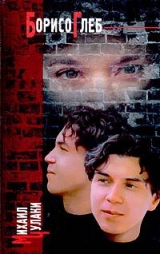
Текст книги "Во имя Мати, Дочи и Святой души"
Автор книги: Михаил Чулаки
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Михаил Чулаки
ВО ИМЯ МАТИ, ДОЧИ И СВЯТОЙ ДУШИ
1
Папуся с мамусенькой принимали постепенно. Капали в белую водку «Красную Москву» – «чтоб ароматерно».
Такой постепенный перегрев у них случается нечасто, но обязательно – на новую Луну. Мамусенька Луну чувствует нутром, как ведьма или волчица. В обычные дни пьют просто и глухо, а на новую Луну наливаются постепенно, вдыхая «ароматерный» дух.
Папуся уже озвучил с деликатной отрыжкой свое неизменное:
– Правомерное принятие – улучшает восприятие.
Рифмы в нем забродили.
Клава на себе знала, чем разброд рифм закончится. Мамусенька первая начнет:
– Клавка вчера со двора не шла. В школе опять училка жаловалась. Себя не жалеешь, в люди ее тащишь, а она – соплюха неблагодарная. Не зря я ее выкинуть хотела, да пожалела сдуру.
Потом и папуся распалится:
– Горблю на нее, а она одно знает: жопой заводной крутить.
– Вот и поучи ее по жопе! – как будто в первый раз догадается мамуся.
Папуся потянется за старым своим ремнем. Еще солдатским.
– Потому что мы не такие были. Старших слушали и родителей радовали. А у этих только сексы и сникерсы на уме! – станет распаляться.
У папуси давно живот как мешок с картошкой и штаны держатся на подтяжках, но ремень он сохраняет специально на Клаву.
Тут уж не убежать. Мамуся хватает Клаву и валит на кровать, лицом в вонючий матрац без простыни. Папуся стаскивает разом и джинсы старые и грубые трусы из дерюги, какие никто в классе не носит. У всех девчонок – гарнитуры, а у Клавы – трусы семейные.
Клава напрягается, ожидая первый удар, но мамуся опытной рукой поглаживает ее попку и кричит:
– Чего затвердела? Расслабься, дура! Когда ебут, расслабляться надо!
Клава покорно расслабляется – и принимает первый удар.
Больно. Очень больно.
Но с какого-то момента и сладко стало делаться. С недавних пор сладость к боли добавилась.
Запыхавшись, папуся лезет всей ладонью с пальцами под Клаву снизу и щупает.
Сладость возрастает, но Клава терпит.
– Сухая еще, – объявляет папуся и хлещет дальше.
Наконец Клава не выдерживает и писается маленькой порцией.
Папуся лезет снова. Шарит придирчиво пальцами.
– Мокрая, – радостно объявляет он, и порка прекращается.
Для Клавы.
– Теперь и тебя, суку, надо! – рычит папуся на мамусеньку.
– Куда тебе! – подначивает мамусенька.
– Известно, куда.
– Поняла, дура? Расслабляться надо! – не забывает мамусенька материнский долг.
И воспитывает личным примером.
Клава всё видит. В упор.
Папуся с мамусенькой засыпают наконец на своей кровати. Как трудились, так и засыпают – в двухъярусной позе. А Клава еще долго не спит. Отползает на свой диван и смотрит в окно.
Вот так – редко, но регулярно ее воспитывают: на новую Луну.
И Бог всё видит, как тоже учит мамусенька. Водит к Спасу и заставляет свечки ставить. Всё Он видит, но ни разу еще Он Клаве не помог.
Но сегодня Клаве не захотелось дожидаться, когда папуся с мамусенькой перегреются и полезут с поркой.
Она пошла боком к двери.
– Куда намылилась?! – заметила мамуся.
– Куда! Побрызгать хочется.
– Смотри. Быстро назад. Станешь на кухне болтаться – убью потом!
На кухне колдует над кастрюлями соседка Антонина Ивановна.
– Чего, Клашенька? Опять бедуешь? Дерутся твои? А бомбочку хочешь? Ликё-ёрную!
Соседка ликерными конфетами зря не разбрасывается. У нее сын Павлик – дурачок. Огромный и бессмысленный. Павлик не говорит, а мычит только, и имени своего не очень понимает. Иногда он начинает «колобродить», и однажды в коридоре, заколобродив, прижал Клаву. И с тех пор Клава с соседкой приспособились в полном согласии: как Павлик заколобродит, соседка зазывает Клаву к себе, Павлик сажает ее на жирные мягкие колени и начинает ползать по ней толстыми пальцами. Начинает сверху и спускается туда же – куда и папусик лезет проверить, сухая ли еще и пороть ли дальше? Павлик спустится, посопит и успокоится. А соседка за это еще и большую конфету с ликером даст – бомбочку. И через мамусю подарки Клаве добавляет – тряпки всякие поношенные, пироги на праздники. Мамуся берет, а про пристрастия Павлика не догадывается. Догадалась бы – убила!
– Не могу сейчас, теть Тонь. Мамусенька ждет.
– Зайди на минутку, Клашенька. Мой совсем – заколобродил.
– Потом, может. Заснут мои.
Клава двинулась к себе. А соседка следом. Как бы случайно – ведь по дороге им из кухни.
Но перед Клавиной дверью соседка резко схватила ее сзади, толкнула к своей двери и вдавила в комнату. А там сразу перехватил дурной сопящий Павлик.
И не вырваться.
Павлик сегодня сопел и ползал пальцами дольше чем обычно.
Павлик хоть и дурной, но добрый, больно ей никогда не сделал, и Клава даже рада бывает ему помочь, тем более, что ей и не стоит ничего. Но сейчас она сидела вся окаменелая и слушала только, что за дверью делается. Расслабиться не могла.
И услышала – мамусенькины крики в коридоре:
– Где Клавка?! Где сука моя?!
Антонина выскочила в коридор, врала громко:
– Шла она! Видала я! На лестницу пошла! Я подумала, ты ее послала. В магазин или куда.
Вернулась довольная:
– К себе пошла. А то бы сюда полезла.
– Она же теперь убьет! – заплакала Клава.
– К утру успокоится. Она с вечера такая, а отдерет ее как следовает твой папаша – и успокоится. Папаша твой может – отодрать как следовает, – засмеялась соседка масляно.
– А где же я ночью?
– С Павликом перележишь. И ему легче – торопиться не к спеху.
Павлик наконец засопел часто – и выдохнул.
Клава знала этот выдох, сама встала. И он не держал.
Но пролежать с этим жирным бессмысленным боровом целую ночь было противно и представить на минутку. Это совсем другое – не то, что присесть к нему на бегу.
Разгрызая подряд вторую бомбочку – расщедрилась ради сыночка колдунья старая – Клава думала.
И когда соседка снова ушла на кухню – доколдовывать над кастрюлями, Клава тихо вышла в коридор, огляделась, не увидела никого – и пробежала к входной двери.
Вышла на лестницу, неслышно защелкнула за собой дверь и пошла вниз. Солидно и неспеша, как взрослая.
А кто сказал, что она не взрослая? Уже полгода как красные дни носит.
2
Вышла она в чем была – в джинсах и свитерке.
Дождя не было, а ветра много. Но май ведь уже, весна, мерзнуть не полагается. Скоро последние двойки растают и утекут – каникулы близко.
Клава пошла на свет: по своей полутемной Маяковке в сторону Невского. На Невском всегда что-то случается.
Но и дойти не понадобилось. Прямо напротив роддома к ней почти прижалась бесшумная тачка. Плавная и блестящая – высокий класс.
Выскочила на панель женщина в коже с перстнями и кулоном.
– Куда пошла одна, пацанка?! Не знаешь, что нельзя маленьким поздно? Марш-марш сюда быстро!
Схватила Клаву за руку и вдернула в машину.
В такую машину и вдернуться приятно.
Клава с теткой плюхнулись сзади.
Впереди рядом с водилой – мужик. Только большие плечи видны.
Тепло и рессоры покачивают. Захотелось задремать.
– Чего шляешься? Куда шла?
– Мать за бутылкой послала, – соврала Клава и испугалась: вдруг проверят, что денег при ней нет.
– Хорошая мать, – вздохнула тетка. – У меня бы ты только за пирожными в магазин бегала.
И спросила мужика – так, будто и не слышала рядом Клава:
– Ну что – подберем ее? Годится?
– А что с нее? В общую кучу если? Для тех, кто эти кильки любит?
– Кильку сейчас многие любят. Не всем лососину жирную.
– Если б девочка.
– А вдруг, – и повернулась к Клаве: – Тебе двенадцать-то есть?
– Четырнадцать! – обиделась Клава. – Я уже большая. Красные дни ношу.
– Килька-то – вон! Почти сардинка. Сейчас все длинные, не разберешь, – и снова к Клаве: – Чего мать-то: за мужиками посылает тебя?
– Нет! Она бы убила!
– Убила бы? Это хорошо. Ну-ка?
И опытным движением разом и расстегнула, и спустила ей джинсы.
– Ну-ка, говорю! Не зажимайся ты!
Клава покорилась ее пальцам, которые проникли глубже, чем это делал даже Павлик, не говоря о папусе.
– Точно! Девочка и есть! Натуральная! А говорят, нравов вовсе не осталось.
Обследование закончилось, но палец задержался. Только он стал по ощущению не медицинский, а совсем другой.
– Смотри, какую рыбку сняли. Килечку-кольпиночку, – обрадовался мужик. – Девочку Федотик хотел.
– Позовешь завтра, – почти пропела тетка в коже странным голосом.
Даже мужик расслышал:
– Ты чё?
– Целочка-прицелочка, – пропела тетка. – Мне тоже редко достаются. Не всё Федотику.
– Тьфу! Вот уж этих штучек не люблю!
– Только Федотик подождет, – пропела тетка. – На такую рыбку еще и старых осетрин найдется! Без ущерба. А Федотик потом.
Машина затормозила. Тетка убрала руку, перегнулась через Клаву, распахнула дверь и резко вытолкнула Клаву наружу – как та была, с джинсами, путающимися в ногах.
Темно и пусто на улице, но Клаве показалось, что ее голизна осветила дома вокруг. И все смотрят сквозь окна.
Тетка наклонилась, потянула снизу одежки.
– Фу, какое трико грубое. Гарнитур для бедных.
И сама всё застегнула на Клаве – как на маленькой.
3
Они поднялись в лифте и оказались в квартире, в какой Клава и не бывала никогда. Только по телевизору видала в мексиканских фильмах. Так с телевизора и завидовать нечего, там всё далеко: за экраном.
Мужик куда-то исчез, а женщина хлопотала вокруг «маленькой гостьи», как она повторяла к большому удовольствию Клавы.
– Сюда. Белесенькая какая. Вот здесь будем спаиньки. Только сначала маленькую гостью помоем и переоденем. Стой ты, – вдруг резко, и снова ласково: – Я всё сама.
Она снова умело расстегивала все молнии и пуговки.
– Женское дело – штанишки снимать, запомни на всю оставшуюся жизнь. Да и в раю, наверное, то же самое: а иначе – какой же рай? Остальное всё врут – и учителя, и политики всякие. Писатели тоже врать мастаки: литературу себе придумали. Штанишки спускать и расслабляться – вот и вся жизнь женская. Будешь штанишки спускать вовремя – будешь жить в любви и кайфе. Вовремя, но как можно чаще. Вот так. И такую писеньку никто еще своим грязным еблом не пропырял. Сейчас помоемся и подмоемся.
Она увлекла Клаву в огромную ванную – куда больше их квартирной кухни. Сверкающую как операционная, где Клаве год назад выдирали гланды. Тут было всё: ванна полукруглая и горшок обычный, и похожее на горшок приспособление с кранами.
Незаметно как-то тетка и сама разделась, оказавшись толще и дряблее, чем показалась на улице в темной коже.
– Зови меня Наташей, понятно?
– Понятно, тетя Наташа, – постаралась Клава ответить как можно вежливее.
– Какая тебе тетя? – тетка как бы в шутку, но довольно больно хлестнула Клаву по щеке. – Наташей. Как старшую подружку твою. Ну-ка? «Я тебя люблю, подружка Наташа» – повтори!
– Я тебя очень люблю, подружка Наташенька, – догадалась Клава расцветить обязательную фразу.
– Вот, молодичка, вот умничка.
Она обливала Клаву шампунем, промывала водой – и ласкала, ласкала непрерывно всеми пальцами, которые словно бы жили отдельной и очень резвой жизнью.
– Хвасталась, что большая, а совсем девочка. Ты и не чувствуешь здесь ничего? Ну, рассказывай! – снова хлестнула по щеке.
Клава припомнила честно:
– Похоже, как когда папуся порол, но не так, – Клава польстила доброй хозяйке.
– Ах он старый садист! Так он такую круглую попочку порол?
– Ага, – с удовольствием нажаловалась Клава. – И мамусенька помогала.
– Вдвоем? А потом?
– А потом папуся драл ее как следует.
– А чем же порол твой старый папуся чертов?
– Ремнем. Но пряжкой не бил, только кожей, – добавила она для справедливости.
– Ух ты какая: целочка, да не девочка. Ну-ка пошли.
Она обтерла Клаву старательно, но как-то торопливо.
– Ну пошли спаиньки. А ты в Спящую красавицу никогда не играла?
– А как это?
– Когда ты спишь и ничего не слышишь. А чего-то с тобой делают, делают... – затянула Наташа мечтательно.
– Не-а.
– Ну, значит, спи. Выпей вот.
Наташа принесла в чашке вроде чая.
Только горького и холодного.
Клава и так хотела спать. А тут и совсем заснула. На такой кровати, на какой и рядом не лежала никогда.
И только едва слышала сквозь сон возню Наташи на себе. Далекую и приятную.
Или кровать такая хорошая?
4
Утром Наташа была сердита, но не дралась и даже не ругалась.
– Ну? Продрыхлась? Надевай вот вместо твоих половых тряпок. В переносном смысле – половых: которыми на кухне полы моют.
Клава робко надела настоящее шелковое белье. Да и шелка на него ушло меньше чем с носовой платочек – больше кружев.
– Вот так, теперь что-то. Сейчас есть будем.
Наташа разгуливала по квартире совсем голая.
– Ну иди. Где кухня, еще не разглядела? Постой. Ну-ка, сними снова.
Клава с сожалением сняла обновки, думая, что их у нее отнимают.
– Не умеешь раздеваться. Надо, ну я не знаю, с оттяжкой. Будто каждым этим кружавчиком подарок делаешь. И одеваться – словно не хочется, да строгая мама заставляет. Давай-ка снова.
Клава старалась понимать и выполнять приказы, чтобы остаться здесь. Чтобы не прогнала Наташа обратно домой – к папусе с мамусенькой. Да мамусенька и убьет теперь.
– Ничего. Надо чтобы с тобой Шурачок поработал. Поставил тебе личный стрип. Он педик, так что твой весенний пейзаж ему до лампочки, но на постановки – талант!.. Ладно, жрать пошли. Кушать пора маленькой девочке.
И поели тоже так, как Клаве не приходилось ни разу. Всё больше лососиной и французскими сырами с прозеленью.
– Ладно. Дело пора делать, – поднялась Наташа. Сиди здесь, никому не открывай, телефон не снимай. Скоро приду. Да плетку хорошую бы не забыть – не одному твоему папочке твоя попочка резиновая понравится, – не то пригрозила, не то пообещала.
Но Клава не испугалась и хорошей плетки. Чтобы остаться здесь, она готова была отрабатывать терпеливой попкой – тем более, после папусиного солдатского ремня. Ночь только провела она в этой комнате с лаковым полом и шелковыми занавесками, провела на огромной кровати, крашенной белой эмалью, пролежала, проспала под атласным одеялом – и перенеслась в другую жизнь, из которой не хотелось обратно туда, где уткнут ее снова лицом в вонючий заляпанный матрац.
Может, Бог и помог ей наконец? Чего Ему стоит? За столько-то поклонов и свечек даже и не дорого Ему встало.
А что здесь точно так же нужна она людям только своей чувствительной писенькой да полосованной попкой – так это настоящее устройство жизни и есть. Везде одинаковое, а когда в школе заставляют учить другое, так это одно вранье. Потому Клаве и неинтересно. И когда собираются у кого-нибудь дома классом или компанией, тоже начинают щупаться, и самые недотроги вроде Светки Озерановой строят из себя, чтобы набить цену, а потом тоже к мальчишкам на колени садятся и хихикают для подъема интереса.
И взрослые прячутся, а делают так же. Мальчишки рассказывают, что физичка Виолетта, которая держится как барыня и брезгливо рассыпает двойки таким как Клава, десятиклассникам даёт, которые уже под метр девяносто вымахивают. «Эскпериментальной физикой» занимаются. Клаве и проверять не надо, она раньше чем себя, папусю с мамусенькой в двухъярусных позах помнит. Все взрослые только этого и ждут целый день.
И единственный вопрос в жизни: на какие простыни тебя положат, в какой ванне подмоют. И куда приятнее снимать скользящие нежные трусики, чем ту дерюгу, которую Клава носила до сего дня, а в этой квартире ее старым трико зазорно даже пол вымыть.
Зазвонил телефон, Клава посмотрела испуганно, боясь что за звонком появятся грубые люди, которым наплевать на нее, которые выкинут ее из этой волшебной квартиры. Наташа – та не выкинет, Наташе уже понравилось ее ласкать, надо только терпеть и исполнять всё, что Наташа захочет.
Наташа наконец пришла. И не одна. С нею явился мужик молодой, но жирный. Чем-то похож на Павлика, только глаза осмысленнее. И разговаривал по-людски, а не мычал.
– Вот она, – небрежно ткнула пальцем Наташа. – Не дикая роза, а дикий бутон. Но ничего, старается.
– Ну покажи ее, – высоким голоском пропел жирный.
– Давай, покажись перед Шурачком, – приказала Наташа.
И сделала рукой – как круг очертила.
Клава поняла, встала на середину комнаты и стала старательно раздеваться. Вспоминая утренние уроки.
– Да, матерьяльчик есть, – снисходительно одобрил Шурачок. – При ее габаритах мы ей поставим лежачий стрип. Лежа-то трудней раздеваться, ерзать по простыне приходится. На ерзе, и поставим. Ну-ка давай.
Клава старалась. Ерзать по шелковой простыне было легко.
– Ага. Вот. И последний штрих: резко выходишь на мостик и за секунду эту успеваешь трусы провести до самых пяток. Вот, ну-ка: ножки широко, резко на мостик – р-раз вниз всю это трихамудию – и раскрываешься вся навстречу страсти. И сразу опала. На миг раскрылась и опала, закрылась, а то не стрип, а гимнастика получится.
Светка Озеранова хвасталась, что она в балетную студию ходит и про тренировки рассказывала – репетиции. И сейчас с Клавой случилась словно бы балетная репетиция.
После четвертого раза ее придирчивый режиссер махнул рукой и пропел почти женским голосом:
– Сойдет для начала. Я свою мизансцену отработал, теперь ты, Наташенька, покажи. Знаешь же, что я твой ценитель навек и даже дольше.
– Только-то, что ценитель, – проворчала Наташа.
– А так и хорошо. Без пота и пятен.
Наташа разделась, без всяких ужимок, словно в бане. Приказала:
– Вертись.
Клава покорно уткнулась лицом в простыни.
– И будто спишь.
Наташа уселась сверху-сзади к ней на бедра, но стало совсем не тяжело, только глубже утонула в податливую постель.
– Некоторым бы только исполосовать такую статуэточку. У нее уже есть прорисовка небольшая. Видишь, папочка по ней ремнем рисует, садист старый. Тут тоже такие приходят. Я замечала: больше тянет, у кого животы поджаристые. Видно, злость застаивается, если слишком талию перетянуть. А по мне бы, сплошной стих: «Шепот, легкое касанье...» Вертись!
Она резко перевернула Клаву на спину и прежним голосом – для Шурачка:
– Или разрисовать всю?
– А сейчас уже целое такое течение – бодиарт: по живому холсту работают. Не женщина – картина. Я даже на выставке был. Три дня работают, три дня выставляют. Жалко, потом смывать приходиться. Шедевры гибнут. Работа долгая, а искусство не вечно. Но все равно – котируются ребята.
– Да, вот так – штрихами, штрихами.
Клава потянулась. Не совсем выгнулась, как учил Шурачок, да и бедра у нее под Наташей стреножены, но потянулась вся, выпятилась животом. Прочувствовала позвоночник.
– Творчески подходит, – засмеялся Шурачок. – Талант в ней на эксгибишэн.
И Клава поняла, что надо изгибаться и дальше.
Наташа стиснула ее снаружи бедрами – и выгнулась сама. Клава увидела только гору живота перед собой, подглядев сквозь ресницы. И почувствовала затылок Наташи на кончиках своих пальцев. Ножных своих маленьких пальчиков.
Получалось, что выгибаться – такое же женское дело, как раздеваться. В рифму сложилось, как у папусика.
– Утешила, Наташенька, – заворковал Шурачок. – Никакой балет не сравнить.
Наташа распрямилась, как всадница, засмеялась:
– Вот так бы и жить, если бы мне папа с мамой наследство оставили. А так приходится самой в жизни крутиться. Для себя одной такую статуэточку не спрячешь.
– Так она и правду сохраненная? – удивился Шурачок – При таком таланте? С другим режиссером она и на сцену подойдет. Да у тебя здесь тоже – камерный театр. У кого это пьеса была – «Таланты и невинности»?
– Хочешь проверить?
– Нет-нет, я ценю в таком постель-балете общие планы, без подробностей. Подробности для мясников.
– С мясниками подождем. Осетрины старые тоже таких ценят. Мяснику она на один раз, а осетрины старые ее у меня хоть год облизывать будут.
Они говорили при Клаве как при кошке, не понимающей человеческой речи.
– Я бы и на них посмотрел когда-нибудь.
– Это как захотят. Некоторые и любят даже. Вот ведь и я не против перед тобой попрыгать. А другие – никак!
– А я в щелку.
– Договоримся.
Наташа с Шурачком вышли. Клава не знала, что ей делать: вставать или лежать. Вставать, вроде, и смысла не было. А постель ласковая. И Наташа, выходит, зря покупной плеткой пугала.
Все-таки помог ей Бог, теперь уже совсем ясно. И ночь в такой постели вместо вонючего дивана, и днем постель-балет, вместо школьной тоски! Лафа.
Вернулась Наташа.
– Спать собралась, молодая и талантливая? Давай, пожрем сейчас. А потом и отработаешь. Даром здесь тебя никто кормить не будет!
Пообедали не хуже, чем позавтракали. А отработки Клава не боялась. Не думала даже за едой.
5
К вечеру пришла толстая тетища разодетая. Платье на животе натянуто – даже страшно.
– Вот и осетрина на тебя, – шепнула Наташа. – Или белуга целая. Всё сделаешь, как скажет. Чего не умеешь – догадаешься. Ты ведь у нас – талант. Сам Шурачок признал.
И исчезла.
– Ну что, девонька, как зовешься? – вытягивая губы засюсюкала осетрина.
– Клава я.
Клава постаралсь улыбнуться, хотя тетища ей не нравилась.
– Ты крашеная – или так?
– Как это?
– Волоски свои перекисью травила?
– Я всегда такая. Как родилась.
– Как из мамки – и прямо сюда, ко мне. Ну молодец, Клавусенька, иди сюда. А ты меня Пупочкой зови. Ну?
– Пупочка ты, – с трудом проговорила Клава.
– Вот так. Еще и понежнее постараемся, да?
– Пупочка, – пропела Клава.
– Ну и помоги мне, Клавусенька, расстегнуться.
Клава принялась раздевать толстуху, со страхом гадая, чего та для себя придумает. Лучше пусть просто выпорет. Дело привычное.
Обнаружилась грудь величиной с двойное коровье вымя. Громадные розовые трусы подошли бы и на слониху. Очень не хотелось их стаскивать с Пупочки этой страхолюдной.
– Ну и трюсики помоги, – пропищала Пупочка.
Пришлось стаскивать и слоновьи трусы. От резинки на животе остался след, будто от тракторной гусеницы.
– А Клавуся что же? Клавуся разве стесняется?
Клава легла, припоминая режиссуру Шурочка, и принялась стаскивать с себя тряпки, ерзая спиной по простыне.
– Ой сосочки... Ой пупочек... – причитала Пупочка.
Клава выбросилась тазом вверх, изгибаясь на мостик, и сорвала последнее прикрытие – туда, вниз, в пятки.
На секунду, забыв, на кого работает, она даже испытала удовлетворение от удавшегося па.
– Ой, писенька, – простонала Пупочка.
И впилась в названный объект губами. Пробилась глубже толстым языком.
Ну, если так – еще ничего. Лишь бы не ответные позы.
– А теперь покажи, – отдышалась толстуха. – Наташенька хвастала, у тебя еще бутончик целый.
Клава продемонстрировала толстухе и эту гордость своей хозяйки. Сама она еще не научилась гордиться собственной нетронутой перепонкой.
Толстуха проскользнула пальцем благоговейно.
– Береги, Клавуся, береги. Сбережешь, буду еще приходить и подарочки тебе оставлять. А теперь перевернись, посвети попочкой.
Клава исправно перевернулась.
– Ой, кто же это так нас посек? Такую попочку нежную?
Вот так же и под душем стыдно показаться после физкультуры.
– Папка порол, – сказала Клава.
– Какой грубый папка. Да как же можно такую нежную попочку так испороть. Ну немножко, ну нежно постегать такую чудную подушечку двойную. Любя.
С каждым словом Пупочка гладила вожделенную двойную подушечку. Гладила всё сильнее, настырнее.
– За что же папка порол эту попку?! Ну, отвечай! С мальчишками, небось, щупалась?!
Клава догадалась, что мальчишек вмешивать не надо.
– Двойки принесла.
– Двойки – пускай. Лишь бы в подоле не принести. А то двойки. С таким папкой жить нельзя, который за двойки подушечку распорол!
– Я от него убежала, – почти правду сказала Клава.
– И правильно. Будешь теперь у Наташи жить? Вот и хорошо. А Пупочка еще приходить будет. Вылечится попочка, можно будет и постегать немножко. Чтобы дурацких мальчишек из головы выгнать.
– Можно и сейчас несильно, – щедро разрешила Клава. – Если Пупочке хочется.
Клава надеялась, что толстуха такой ценой от нее и отстанет.
Ах, Клавусенька, щедрая душа. Хочешь Пупочке своей приятно сделать. Но не надо. Я к этому – так. Иногда если. Лучше Клавуся теперь сама Пупочку приласкает. Язычком своим нежным, да?
И толстуха предоставила свой плацдарм.
Клава же знала, что отказывать нельзя ни в чем. И исполнила старательно. Исполняла – но результат никак не достигался.
– Ну еще! Ну еще же! – уже не сюсюкала, а грозила толстуха.
Язык заболел от напряжения, и Клава тоскливо мечтала об одном: «Да кончи ты скорей, старая свинья!» Но толстуха только ахала слегка и сильнее вжимала в себя Клаву. Приспособилась к тому ж схватить Клаву за уши, и не сдвинуться было, и не передохнуть. Как тут Павлика добром не вспомнить. И папусину порку невинную.
Язык устал и почти не двигался. Клава отчаялась, что толстуха не кончит никогда.
– Не могу, устала, – бормотала она, но бормотание ее не выходило из замкнутого пространства.
Пупочка ритмично дергала ее за уши – всё злее и злее.
Клаве думала, она так и задохнется в жарких влажных джунглях. Жесткие как проволочки волосы лезли в рот. Ме-ерзко! И страшно. На миг Клаве показалось, Пупочка втянет ее в себя – как удав.
Спасаясь, Клава закричала – и впилась зубами в какую-то жирную складку.
– О-ох!. . А-а!. . Клавдия, дорога-га-га, – вдруг зарычала толстуха басом.
Свинья задергалась, наконец. Зарезать бы и тушу опалить.
Кончились мучения.
Вырвалась из п...ды на воздух.
– Ай, Клавушка, ай страстная Клавуся моя, – ворковала толстуха. – Еще приду... Подарочки тебе... Пленочку свою береги... Ну-ка повернись еще... Розочку покажи... А скажи, Клавуся, ты пенки с молочка любишь?
– Не люблю, – искренне передернулась Клава. – Пенки – брр!
– А зря. Я люблю пеночки. У тебя здесь как пеночка на молоке. Самая нежная. Сейчас пеночку слизну. Смотри, береги, чтобы кто с тебя пеночку не снял. Девочка молочная. У меня дочка такая. Нежненькая. Не для того ращу, чтобы мудак с елдаком к ней влез! Ну давай, я тебя одену, куколка моя. Дочку я тоже одеваю. Василису.
Пупочка надела на Клаву белье, и Клава подумала, что отработала сполна авансом полученный гарнитур. Потом толстуха натянула и свои слоновые штаны.
И вывела наконец на кухню, где Наташа в одиночестве смотрела телевизор.
– Хорошая девочка, – сообщила толстуха, не дожидаясь вопросов. – По всей программе оправдала.
– Ну так прекрасненько, – равнодушно кивнула Наташа.
– До свиданьица, – толстуха пощекотала Клаву под подбородком. – Жди свою Пупочку.
И выплыла. Наташа за ней.
Клава присела к столу. Налила фанту из стоящей бутыли. Хватила залпом, как иногда папусик стакан белой – не для правомерного принятия, а от настроения.
Полегчало.
Значит, не важно, что пить – важно залпом.
Ничего, пережила. Зато Пупочка подарки обещала. Может, уже оставила чего.
Вернулась Наташа. Веселая.
– Ну и молодец. Такую осетрину ублажила. Белугу. Талант – везде талант. Под любой клиентурой. Поесть хочешь?
– Ага.
– Сейчас. Устала, девочка?
– Ага, – подтвердила Клава охотно, довольная, что ей сочувствует хозяйка.
И получила нежданную пощечину.
– Чтобы слово это забыла, поняла? Устала она! Ты под хороший трамвай попади! Колымский, настоящий! Бригаду бендюжников через себя пропусти, тогда устанешь! Тут у меня ласки-сказки, поняла? Курорт бесплатный! Ну как, силы есть?
– Есть.
– Устала?
– Нисколечки!
– Вот так чтобы всегда. Еще одна будет гостья к тебе. Только не осетрина. Скорее, стерлядь, – усмехнулась Наташа.
О подарках, будто бы оставленных Пупочкой, Клава спросить не решилась.








