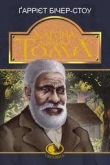Текст книги "Бабушкин спирт"
Автор книги: Михаил Тарковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Покупала Бабушка бутылочку и к празднику, и мучительно выходило, потому что хоть ни Дядька, ни Галька по-простому, то есть без угрозы загула, не умели выпить, но и не уважить их в праздник было нельзя, а тем более оскорбить намеком на их тяжкую повадку. С другой стороны, она понимала, на что подбивает, и так переживала, что подскакивало давление, достигавшее у нее нечеловеческих величин и гробящее глаза, один из которых уже видел еле-еле.
Ни просить, ни тем более требовать Бабушка не умела. Если что-то ей было надо, лекарства ли, просто помощи, прямо не говорила, а кряхтела, стеснялась, намекала окольно, и приходилось догадываться, и это бесило Василия, "в дохлый корень" замученного "семейкой". И особенно неловко ей было перед кочевряжистой фельдшерицей, каждый вызов которой выливался в дело, и никакие доводы посторонних, что это "ее работа", не действовали Бабушка чувствовала себя вечно виноватой перед всем белым светом, и перетерпеть, махнуть рукой было привычнее всего. А уж про вызов санзаданья и говорить нечего, Бабушка переживала, что вызовут, увезут, а все окажется не по-настоящему, и ее заругают, и в другой раз, когда по правде прижмет, уж точно не полетят.
Какое-то вечное беспокойство ее травило, как никотин, от которого к ночи тошно, а с утра и минуты не прожить, и, конечно, Колька был просто страстью. Вот туристы мылись у Василия в бане и оставили майку, и надо попросить, а она не решается, а Васе некогда догадываться, и он срывается: "Мама, ну что? Что? Говори!" Вот отложили Кольке на учебники, а Галька потратила на кофточку, потому что сразу надо выкупить и больше не привезут, и Колька губу прикусил, хотя и неприхотлив, как мужичок, и всякие шоколадки, игрушки его не волнуют, а вот новый ранец или сапоги нужны.
А вокруг все торгуют, и Бабушка, кряхтя и сомневаясь, поддаваясь на советы уже замаранных, решилась, потому что сил не было никаких – так задавила нищета и нерадивость близких, что взяла она у Босой Головы канистру, и начались банки, пластмассовые бутылки, мерная мензурка и стеклянная воронка.
Успех промысла состоял в умении не давать в долг, и, хотя процент допустимых потерь был, умелые коммерсантки сводили его до минимума, покрывая недостачу калымом. Жизнь давно превратилась в неравную войну трезвых и пьяных, и выходило – жить натрезвяк и при порядке беспокойно и неудобно. Даже к неторгующим вваливались, прося на пузырь, насильно суя что-нибудь на продажу, и так сканудили, что хозяин был готов на все, лишь бы гость уволокся. Главным орудием мучителей было терпенье, и понятно, что половина проданного висела на Бабушке в виде долгов, а она только причитала.
Но была в Бабушкиной жизни и радость: прежняя пекариха увольнялась, и благодаря Бабушкиным хождениям и просьбам Гальку взяли, хоть рабочие места и были нарасхват.
Бабушка когда-то сама была пекарихой и при рассказах, как тесто месили в огромном ларе, оживала, и глаза загорались. Радовалась по-детски воспоминаниям и тут же всплакивала горько. Когда пытали, лучше ли, хуже теперешней была жизнь, вскрикивала: "Что т-ты! Конечно, лучше!" – потом осекалась: "Какая жизнь? Волбохала как корова!" – и в конце концов путалась, подтверждая нелепость и лукавство подобных вопросов. Но вообще, как послушаешь, все в ту пору лучше было: и люди, и собаки, а мука настолько великолепная и таких немыслимых сортов, особенно какая-то пеклевбанная, что только диву даешься.
В пекарном деле и впрямь есть от праздника, от чуда, и что-то остро-молодое чуется в закваске и в том, как пекариха ростит тесто и выхаживает, а оно лезет, как потом схватывается, если вовремя поймано, а если дать волю и зазеваться – целый поселок замрет без хлеба. Поэтому, когда разрезают кирпич, будто вскрывают тайну, и глядит ноздреватым рисунком срез пекарихиного мастерства. И хлеб живой, пока свежий и дышит, и когда ломают, дырчатая плоть тянется пружинисто и чуть отдает кислинкой, а позже, перемораживаясь и усыхая, становится обычной и будто опавшей. Так вот в подмогу, в трезвую чистую пользу идет живая природа дрожжей, и если в другую, бражную сторону эту живь направить, совсем другое выйдет.
Хлеб можно взять прямо на пекарне в одиннадцать или потом в два часа в магазине. С ним вечная забота – то не хватит всем, то, наоборот, останется. Черствеет он быстро, а свежий такой вкусный, и хрустящая корка так податливо проминается в пористую мякоть, что с маслом умнешь булку, не заметив. Особенно с чаем, который по утрам пьют с молоком, и оно клубится, расходясь в чае бежевым облаком.
6
Галька тоже торговала, подменяя прихворавшую Бабушку, управлялась с воронкой и мензуркой и корябала в долговой тетрадке, и сама, пропитавшись спиртовыми парами, была как пьяная. Бабка спирт половинила, дробила и, разлитый в бутылки, прятала по углам. Основной запас спустила в подполье старого дома, теперешней Дядькиной мастерской. Дядька чинил старый мотор, в очередной раз надеясь, что от стояния в нем срастется разболтанный коленвал, и, как назло, уронил в подполье отвертку. В ответ блеснуло зеленое пузо пятилитровки, и тут забрел с половинкой вала дальний сосед – тихий, но отчаянный домашний бухарь Минька, с которым Дядька еще ни разу не кувыркался. Надежда собрать мотор, комичность вскрытия бабушкиной заначки с помощью упавшей отвертки, отвисшая челюсть Миньки при виде столь стратегического запаса – все это придало новый разворот жизни, и от неожиданности картины Дядька сорвался, но долго не выдержал и на следующий день к вечеру одыбался и гуд прикрыл.
Доступ к домашнему бухалову придал и Галькиной жизни новый блеск. Бывало, на празднике она гульнет, а потом когда убежит похмелиться, а когда и осядет и перетерпит под Бабкин и Колькин надзор; а тут никуда и бежать не надо: все дома стоит!
Внешность у Гальки из тех, что посередке, – может и на красу скатиться, а может и в страхоту – как постараться. Уже ушла от нее и тонкость молодая, и присадистость в корме появилась, руки, плечи налились, но и бабье засквозило новое, манящее, и сама она как томится этой спелостью, уже чуть горчащей, и все глядит, пьет даль и глаза суховато щурит, веки углит, и рот ее напряженно приоткрыт и смят. Брюки у нее есть в цветочек, короткие до колен, а под ними золотые икры, прогонистые, как две капли смуглой смолы, две стерлядки, сверху выпуклые, а к лодыжкам сходящиеся породисто и сбежисто. В огороде она, перегнувшись пополам, копается, майка задрана, и мужики поглядывают без стеснения, но не видят будущую невесту – все уже известно, бросовая баба. И от уходящего ли времени, от душевной сумятицы все ясней пригорелая забота, вечное раздражение, с которым она говорит, неопрятно шлепая ртом и будто не уважая слова, да и всей жизнью брезгуя.
Время от времени она красила волосы и ходила в запотелом пакете, отчего лицо казалось голым и большим и маленькой – макушка с катышком волос, и на праздник готовилась, красилась серьезно и старательно, а уже в загуле мазалась напропалую, ярко, цветасто и будто напяливая маску. Надевала черную короткую юбку, черный жакетик и черные туфли на каблуках. В пляске белые крашеные волосы то собирала, то распускала, взбивая пятерней, трясла головой, и все прыгала, ходила по кругу, играя голыми плечами, загорелыми и прохладными, и, подбегая к столу, опрокидывала стопарек и неслась дальше по-новому высокая, постройневшая на каблуках. Икрами-стерлядками, и подъемом ног в сбруйке ремешков, и развевающейся химически-белой гривкой, и накрашенным лицом – всем целила она в общее, витринное, и попадала. И, упиваясь этим попаданием, плясала, то вырываясь капризно из жадных рук, то кидаясь в другие и глядя сквозь лица в свои грешные дали.
Колька этого не выносил и мог схватить за руку, оторвать от лыбящегося плясуна: "Мама, ну хватит, пошли!" Переживания его постоянные, он так ими проеден, что говорит о ее пьянке спокойно и по-взрослому. Раз кому-то из женщин угораздило брякнуть: "Коля, иди мать забери из магазина". Мать на развезях стояла в магазине и скандалила из-за бутылки, которую не давали в долг. Коля тащил ее по улице и плакал и грозил, что не пойдет завтра в школу, потому что стыдно, и назавтра вправду не пошел, несмотря на уговоры, и весь день пролежал, как больной. К вечеру ходил осунувшийся, с провалившимися глазами, и Бабушка говорила: "Гляди, парнишку как оборвало!"
На другой день не было ни черного костюма и ни туфель, были обычные калошки, бледное лицо с потемневшими глазами, опохмелка у товарок кислой бражкой и пропадание на сутки-двое в какой-нибудь вечно пьющей избе. На второй день – черные провалы глаз и в опухшем лице тошнотворное что-то и трупное. Веки треугольные, а глаза острые и жгут, как углями. На щеках малиновые сосудики. Бабка стонет: "Да это чё такое-то, я ничё не понимаю, две дочери люди как люди, а эта кобыла стакан увидела и как с хрена сорвалась! Хоть бы за работу держалась, а то нисколь не дёржится, так хоть деньги на пекарне платят, уж ладно припеку нету-ка".
Ночью металась по койке, бормоча несуразицу, скрипела зубами, как ведьма, орала, днем отлеживалась, и Бабка говорила: "Совсем девка запилась, лежит как скелет – одно основанье осталось". Галька приходила в чувство и спала, и сердце, попавшее не в те руки, с верным усердием гнало кровь и билось до конца, и выходило шиворот-навыворот: не дух тянет немощное тело, а тело зачем-то тащит упирающуюся душу.
После гулянок Галя впадала в рьяную уборку, будто из себя выгребая грязь и дурь, и Бабушка отмечала с гордостью: "Убралась вчера". Казалось, чуть что, она убирается, как простоватая зверюха, которую вовсю обложили, а она то в домик, то из домика, то вдруг лапами затарабанит по колесу, а то вдруг опилки выгребать начнет из гнезда и думает, что спасется.
Грубо и хватко отжимала Галя парящее белье на снегу перед баней. Несло слабо ароматцем порошка и мощно – простором, ветром. И на ветру белье особенно сырым казалось, и отжатые наволочки, пододеяльники жгутами лежали в тазу, на них падал снег, и они стыли, а на веревке каменели кровельной жестью Колькины рубашки, штаны в заплатках и покачивались, похрустывая и вымораживаясь. И был свой дрызг и исступление в Галькиных красных руках, засученных рукавах, и проходящему Василию думалось: "Чтоб тебя саму бы, дуру, выжать да на ветер повешать, чтоб, сука, протрбезвилась".
...Поползень, или, по-Бабушкиному, дятелбок, остукивает избу снаружи, перепархивает, косится на Кольку в окно. А Коле задали к празднику звездочку из бумаги сделать, и он показывает: "Мам, посмотри, хорошо получилась?" А мать сидит у телевизора в халате, опухшая, животно полная трехдневной пьянкой, и бросает зло: "Нормально!"
7
К Ваське тянулись решительно все в доме по причине исключительной храбрости этого кота, тем более что бывал он дома не часто, уходя и пропадая неделями независимо от погоды и времени года. Казалось, даже наиболее прельщали его именно самые суровые времена, а лето он переживал со скукой, и никаких особых чувств в его душе оно не вызывало. У этого непобедимого кота была скуластая, в серых шрамах морда, широкая за счет густой и крепкой шерсти на бакенбардах, и уши обтертые, повядшие и отмороженные. Одно почти под корень сносилось и торчало лепестком-клапанком, с серым мертвым ободком. Сам пепельный, бусый, будто опаленный жгучим морозным ветром, снежной далью, никогда под ногами не путался, хвост не задирал, как домашние ластящиеся прихлебатели. Сыто сходящий на конус и полосатый, был он у него вытянут в толстую стрелу, а когда ел, опущен тяжело, как у больших и серьезных кошек, и загнут на кончике.
Уйдя из дому, он мог встретиться в чужом и дальнем месте, продираясь через собачьи порядки к любимой кошке или выдвигаясь на склад рубиться с крысами. Узнающий Кольку по вздоху и шагу, встреченный в походе, даже и сойдясь с ним глазами, глядел сурово и собранно, требуя того же служения, и Колька сомневался, Васька ли это, и вдвойне мучился.
Зато какое было счастье, когда котище врывался, стремительный, как снаряд, и с таким запасом холода в шерсти, будто там помещался целый мир зимний, бездомный, пахнущий морозно дизельными и кочегарками, и от контраста между холодами-опасностями и уютом дома сжималось сердце. Раз приполз с разбитой головой, и его перевязывали, но, едва поправившись, снова ушел в ночь. Иногда слышали низкое и стылое мэ-э-у! Мурчал редко, больше из жалости-обязанности к хозяевам, сипло, со сбоями, будто урчащее устройство было простужено и посохло-потрескалось, как старая гармонь.
Колька обычно засыпал на боку, но при коте – на спине, и кот приходил, тепло и тяжело ложась на груди. И Колька вздымал его дыханием аккуратно, боясь спугнуть, и кот, которого начинало кренить, встречным напряжением перемещал вес, держась, как на палубе.
8
Умирают в деревне каждый год и обычно зимой, будто кто-то подскребывает, подчищает жизнь, и она становится проще, пустее. У Гали две старшие сестры – Татьяна за Василием и Надежда за Женькой. У Жени год назад умер трудяга отец, механик прежней, геройской закваски, запускавший в мороз самые несусветные дизеля и копавшийся в своих очочках на резинке с неживым "вихрюгой" с такой верой в его оживление, что он от этого будто и взревал. Едва отметили годовщину Дедки, как умерла его жена, и вышло за полмесяца: Дедкина годовщина, тети Нюрины поминки и девятины.
Татьяна, Надежда, Галя, родственницы дальние-ближние, просто женщины приходят, и идет работа – режут, рубят, стряпают блины, готовят винегреты, салаты. Селедка-туруханка под шубой, кутья, пироги такие-сякие, чего только нет. Двери настежь – стол накрыт. Все вешают одежду, проходят, едят, поднимают. По три стопочки выпили, закусили и выходят, освобождая место. Слов, речей, тостов никто не говорит. Не принято, не– охота ли, не умеют ли, а главное – и так все понятно. Лучше лопатой ли, пилой помочь. А вот обставить гладко, словами красивыми и прочувственными – этого нет.
За столом словечко за словечко разговорчик о том о сем вполголоса, про сети, что их плесень завалила, или что рябина нынче задавная – соболь на капкан хрен забил. После стола мужики курят в кухне за печкой, там уже поживей разговоры, и Женька тоже поддерживает, не обижается.
Три раза, как по волшебству, накрывался длинный стол в Жениной избе, и проходила вдоль него вся деревня – Дедка и Баба Нюра уважаемые люди были. И три раза подряд с тем же стараньем готовили женщины стол, и казалось, если бы смерть с катушек слетела и еще чаще наведывалась, то сражались бы за память и уважение, пока последняя не рухнула и уж некому бы стало поминки отводить.
А вообще поминки для кого горе, а для кого праздник, место, где можно пожрать и стопаря дармового пропустить, особенно если с похмелюги. Для рыщущих бедолаг по сравнению с буднями – пропитыми, нищими, убогими – это подарок. И не просто нальют три стопки, а еще и винегрету, салатьев, блинков подложат с маслом, всего, чего хочешь. Для таких чем больше смерти – тем лучше. Вечный праздник, вечное застолье. Только и обедали бы.
Зашли как-то два братца, один совсем неживой, а другой уже урвавший где-то пускового стопарьца. Оказавшись за столом, он вдруг развеселился, что-то стал плести, пропустил три рюмахи, пошел покурить, а потом бодренько и свойски вернулся на место, что-то собираясь рассказать и заранее улыбаясь. Надежда его не пустила:
– Поминка все-таки, не пьянка.
Тот лезет. Та железно:
– Сказано – не праздник.
Если б сидел тихо и не шарахался, никто бы и слова не сказал. Второй братец, которого все еще трясло, как пилораму, так и делал. Надежда стояла за спинами и следила за рюмками, как только посуда освобождалась, она наливала, и казалось, ниоткуда из-за спины появлялась молчаливая рука с большой бутылкой. Братец был по уши в себе, все в нем ломалось и отходило. Напряженный, как палка, переживший неловкую смену гостей и высидевший дополнительную стопку, он изо всех сил старался не показать нетерпенья, и когда наконец подняли, засуетился и неверной рукой промазал, не схватил и опрокинул стопку. Сердце его оборвалось, но напрасно, потому что на этой земле всегда нальют, и винегрету подложат, и дрызг на столе подотрут.
– Ну, давайте, мужики, подымайте.
– Ну, чтоб пухом земля...
9
Галька ухитрялась, несмотря на пьянку, наколоть дров в пекарню, притащить на нарточке воду во фляге и нагреть ее в чугунном баке и постряпать хлеб, и хотя он частенько то недоподнимался, то пересиживал, все-таки успевала к роковым двум часам притащить его к магазину, где уже выжидала бабья толпичка, еще благосклонная, но справедливая и всевидящая.
С катушек Галька слетела уже полностью, к шести вечера шла на пекарню, ставила ставку, топила и возвращалась домой к баночке, из которой наливалась смертью с привычным удовольствием, и, уже добренькая, отзывчивая, доливала из банки и доразводила, черпая кружкой из бочки енисейную водицу – такую прозрачную, что казалось, река и домашнюю жизнь силится осветить покоем и смыслом. Живая и чистая вода травилась в банке, бралась дрожью, студенисто завивалась в спиртовом удушье, а спирт, разойдясь, только прирастал собой. И один простор погибал, а другой набухал и ширился и чем сильнее распирал душу поддельной ширью, тем жальчее и безобразней гляделась она снаружи.
Колька все ждал кота, даже ночью спрашивал, не пришел ли, и все ему мерещилось мяуканье. Кот как ушел с осени, так и не появлялся, и Бабушка долго переживала: "И куда запропастился, от ведь своебышник какой". И однажды сказала в сердцах:
– Совсем отрекся!
Утром после тети Нюриных девятин, когда Коля был в школе, а Галя на пекарне, Бабушка вдруг так затосковала, что пошла искать кота. Она вышла на двор вылить ведро, и ей вдруг показалось, что Васька орет где-то рядом, вот точно слышит, но уже из-под крыши соседской стайки, и она подходит, но все глушит свист ветра. Порыв севера проходит, и она думает пройти еще дальше по улице, до дома тетки Дарьи, где живет Васькина знакомая кошка, – раз уж вышла. Ветер попутный, но очень холодный и при неловком повороте задувает в рот, как в неживой предмет, поет, как в бутылку, и дыхание загоняет назад, достигает до сердца, и Бабушку мутит. Тут бы передохнуть, да у Дарьи замок. Затряслась земля, и проехал с возом трактор и вовсе задавил грохотом, забил глотку солярным выхлопом, снежной пылью стеганул мокро и стыло. Поползли заснеженные хлысты, кедрины с иголками, и сук здоровенной листвени, вспарывая снег, едва не подкосил Бабушку. Сук проехал дрожа, и дрожь этого судорожного и тяжелого скольжения передалась Бабушке. Она повернула назад, но трактор так изнохратил дорогу и порыв окрепшего ветра так толканул в глотку, что стало ясно – без перекура не дойти и поэтому проще доковылять по ветру до пекарни. И Бабушка пошла, превозмогая одышку и опираясь на палку, вспоминая свою работу на прежней пекарне и греясь мыслями о пухлом и хрустящем хлебе.
10
На тети Нюрины девятины Галька набралась и к ночи оказалась в одной бедовой избенке. Там, совсем пьяная, валялась в темноте, и кто-то ею пользовался, потом провалилась в сон, потом кто-то еще забрел и на нее взгромоздился, она дернулась: "А? Кто? Кто?" – а навалившийся успокоил рабочим баском: "Да свои!" Утром Гальку, еще пьяную, разбудили, и она потащилась на пекарню, где из нее с потом стала выходить водка, оставляя на погибель. Что-то она напортачила с тестом, перебухала воды, а потом, когда посадила хлеб, не выдержала и отбежала в поисках опохмелки и вернулась за несколько минут до прихода Бабушки, которую поразил горелый запах, едва она, переводя дыханье, отворила дверь.
Галька с черным взглядом, с тошнотворно бледным лицом и крупными каплями пота на лбу металась по пекарне. Урчал, вращаясь, армейский барабан-автомат, и она судорожно вынимала из него счетверенные формы. Хлеб из них выполз и по четыре булки спекся уродливой черной крышей. Галька со страшным грохотом выколачивала его о железный стол, но он так пригорел, что не вываливался, и она ставила его стойком на пол, как мебель. Тот, что удалось выколотить, лежал пачками, держась на корке, как на грибной шляпке. Спаянные горелой крышей сиамские близнецы не желали расставаться, и, когда Галя пыталась разломить живую и уродливую плоть, корка тянулась дальше и рвала бока. Бабушка, отбросив палку и что-то восклицая, резала ножом. Кое-какие кирпичи были не так черны и бесформенны, а некоторые безобразны корка содрана и торчит голое пористое мясо.
Галька, задыхаясь, собирала их в мешки и таскала в нарточку. Пока везла в магазин – там уже стоял народ, – Бабушка вытрясала оставшиеся формы и пилила спекшиеся хлебные пачки, а когда допилила, села на чурку и несколько раз пропела:
– Что же я наделала...
11
Детская бригадка по стариковской подмоге долго собиралась к Бабушке. Обсуждали, как лучше: сначала спросить, что ей нужно, или сразу принести. Кто-то сказал: может, ей конфет купить? Может, воды притащить? Да нет, Дядя Слава из тайги вернулся. Наконец собрались, постучали. Самый здоровый малый здесь оказался самым робким и, переминаясь, выдавил:
– Глафира Прокопьевна! Мы это... Вам помочь пришли, может, чё убраться надо или воды принести?
Бабушка, чуть оторвав голову от подушки, ответила слабым и сырым голосом:
– Ничего, ребятишки, не надо. Я помирать буду.
Бабушку полуобездвижило. Фельдшерица добилась санзаданья, и наконец вертолет прилетел. Бабушка никуда не хотела ехать, и ее хором уговаривали родные, фельдшер и врач – молодой грубосколоченный малый в халате. В крытом дворе толпились мужики, нести решили на носилках, чтобы на "Буране" не растрясти.
Колька изо всех сил смеялся, лыбился, надел шапку Дядькину задом наперед: "Смотри, Дядя Слава!" Тут и на молодого кота нашло, стал носиться с диким видом, прижав уши, топыря хвост, то взмывая по столбу, то заходя боком, непонятно кого скрадывая. Бабушку уговорили. Постелили на брезентовых носилках, с койки переложили на одеяло и, когда разворачивались по комнате, несколько раз остерегли мужиков, чтоб не ошиблись: головой-то вперед. Бабушку мутило, кружилась голова, на одеяле она провисала, и ее почти сложили, но вот уже сени и носилки.
Морозно скрипели шаги. Бабушка лежала на носилках, и мимо проплывала деревня, которую она не видела и по которой она будто шла искаженным неверным шагом, и по колыханиям носилок и скрипучему отзыву проезжаемых стен догадывалась о знакомых поворотах. Завернутая в одеяло, отгороженная его краями, она видела только небо, ее словно вложили в него, и даже солнце освещало ее по-другому, чем остальных идущих. Вокруг внизу громоздились стайки, избы, бегали собаки, кто-то пронесся на "Буране", обдав выхлопом, а потом вдруг все решили, что солнце слепит Бабушку, и Галька побежала домой за черными очками. Она долго догоняла и держала очки наготове, и они некоторое время плыли рядом с Бабушкиным лицом, а потом медленно легли на него и, призванные защитить от слепящего неба, только подчеркнули его бездонность. Солнце ей и не мешало, а оправа только холодила, но Бабушка чуть приоткрыла в благодарности рот.
Дядька в эти дни был необычно собранный, серьезный и окрепший. Что-то угловатое и сильное появилось в его лице, и даже хорош он стал по-новому в своей заботе, если позабыть про сумрачность, скорбность век и притушенных глаз. Он догнал Бабушку уже на полпути к площадке. Руки ее лежали на груди. "Все хорошо, мама, я с тобой", – быстро сказал Дядька и взял их своей большой кистью. Они ответили крепко, почти вцепившись, и пальцы ее улеглись в его руке, как в гнезде. Так в три руки и дошли они до вертолета.
Все эти дни она была при смерти, как при работе, а страшно было остальным, каждый из которых хоть и делал свое дело, но не простирал Бабушкиного нутра на себя, и даже основательный Василий не допускал происходящего до головы, поскольку при своей капитальности мог бы и не сдюжить. И все от страха и жалости не понимали простоты и нестрашности Бабушкиной заботы именно потому, что у всех было их сотни, а у Бабушки одна.
Все изо всех сил старались нести получше и сосредоточивались на мелочах, на которые в обычное время не обратили бы внимания. Здоровым мужикам, видящим все через мозоли, тесно было в этих тихих минутах и странно думать о рукоятке носилок, и они переспрашивали, мол, не пора ли перехватиться, и тот, кого спрашивали, понимал, что хоть это не ноша, но что и товарищу надо прикоснуться, причаститься, понести Бабушкино исхудалое тело.
12
Кольке казалось, что Бабушкина смерть – нелепый переплет, из которого только он ее может вызволить, расколдовать, и что ей обязательно надо поскорей вернуться. И действительно, на расстоянии смерть не доходила, и думалось: вдруг она не умерла, а, осуществив крайнюю мечту Дядьки, впала в оцепененье до лучших времен.
Бабушку никак не везли обратно, тянулась какая-то катавасия с вертолетом, но в конце концов и он вылетел. Было это уже ночью, погода стояла премерзейшая, с низкой облачностью и почти ураганным северо-западом. Из-за плохой видимости вертолет шел Енисеем и совсем низко. Последний прямой плес летел долго и медленно, километров за пятнадцать был слышен ненормально тяжелый звук двигателей и лопатящий перестук – ответ лопастей на удары ветра. То, что случилось дальше, вызвало всевозможные толки, из которых наиболее правдоподобной выглядела уренгойская версия. Что, дескать, в Подкаменной почему-то вместо туруханского экипажа в вертолет засел залетный уренгойский, не знающий площадок.
Вертолет с пылающими фарами зашел на посадку и уже завис, взбивая белесое облако, и его завивающиеся края почти поглотили машину, когда резким ударом северо-запада ее кинуло на деревню, и она, прочертив колесом в метре от Дядькиной головы, чудом выровнявшись, взмыла вверх, едва не завалившись на провода. Не заходя на второй круг, вертолет улетел в Туруханск, потом под утро снова появился над деревней, сужая круги. Грозно грохоча и пикируя, он трижды заходил на посадку, но улетел в Подкаменную, так и не сев, словно почерневшие и взъярившиеся небеса не желали отдавать Бабушкино тело земле. Только в обед он снова прилетел и, без приключений сев, вернул покойницу, проболтавшуюся между небом и землей шестнадцать часов.
Потом копали могилу, пилили "Дружбами" землю, и было ощущение мерзлой и неподъемной ее тяжести, грубости и огромности, несоразмерной с человеком, который, оказывается, совсем тонко на планете живет, а чуть копни, вот она, сыра земля, холодная и простая. Странно бывает стоять по пояс в подвале, когда голова среди уюта, а внизу сырой холод, и сыпучий срез со следом лопаты, и корешок травинки. И что-то есть свербящее в этом корешке, будто глядишь на жизнь из-под низу, и потому так хорошо, выбравшись на свет, протрезвиться – оказывается, земля человеку дана, чтобы небу служить.
Когда попрощались и поцеловали неузнаваемое, геологически-спокойное Бабушкино лицо, Надежда шепнула что-то Андрею Иванычу, человеку пожилому, уважаемому и виды видавшему, и тот чуть выдвинулся навстречу могиле, помолчал и сказал: "Ну что, Глафира Прокопьевна... Прожила ты жизнь долгую, трудную, вынесла то, что не дай Бог кому вынести. Все мы знаем, работала как проклятая, детей растила, а теперь вот видишь, как... провожаем тебя. Прости, если что не так... Прости всех нас, и пусть будет пухом тебе земля".
Одному мальчишке поручили прибить крышку к гробу. Пока прощались, он теребил в руках гвозди и молоток и волновался, что гвоздь не воткнется в твердое дерево, отскочит или согнется, а все будут смотреть, как он подведет, а оказалось, там дырочки уже под тканью приготовлены, и никто не смотрел, и все воспринимали то, что он делал, как должное. И как-то благодарно в нем стало за эти заранее пробитые дырочки, за то, что не пытали его взглядами, а верили, и на всю жизнь запомнил парень эти похороны и в следующий раз уже не боялся, а делал как взрослый.
На поминках снова был длинный стол, и снова перед этим целый день резали, рубили, месили и варили женщины, и снова приходили, тихо раздеваясь, пристраивая шапки и рукавицы, люди, и, сев на освободившееся место, аккуратно подцепляли кутью и макали блин в блюдце с маслом. Дядька сидел на кухне и курил с мужиками, собравшимися на выход, Татьяна и Галя дежурили за спинами. Зашли два братца, помогавшие копать могилу, а потом прибежал Страдиварий со своими вечно безумными глазами, и его как-то по-особенному чуть не под руки усадили, а он, дрожа всем телом, опрокинул стопку и начал есть. Ел он даже не жадно, но как-то свято, как ест собака после ста верст пробежки. И сидел за столом не как Братцы, у которых лишь водка на уме, а как человек, у которого неприкаянность лишилась различимого предела.
Колька лежит, на груди качается кот Васька. И хоть Бабушки нет, и маму с работы выгнали, и Дядька опять прикрикнул, а все почему-то не замирает в нем и сама собой нет-нет да и народится радость, и теперь вот не может заснуть, и все в нем светится, живет, искрит новая жизнь, и представляются то дяди Васино веселое лицо, то удочки налимьи непроверенные, то снег и солнце.
Долго еще ждать Кольке, и долго будет томить тоска, изводить снегом и неподвижностью, черно-белым контуром снежной деревни, пока не настанет весна, не обтает угор и первая овсянка не перевяжет кровоточащую душу серебряной песенкой.
Сидя на столбике, она вяжет свой узелок, но ее родниковое ликование умиляет лишь до тех пор, пока не понимаешь, с какой протерозойской отчетливостью и отрешенностью кладет она в теплеющий воздух свою руладку, звучащую уже не как детский щебет, а как исповедь рода, ни разу не погрешившего перед Богом.