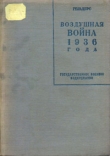Текст книги "Прекрасные изгнанники"
Автор книги: Мег Уэйт Клейтон
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Ки-Уэст, Флорида
Декабрь 1936 года
В детстве, то есть во времена, когда следовало быть белой без примесей и непорочной, как чертова лилия, протестанткой, я была слишком высокой для своего возраста, нескладной девочкой и вдобавок наполовину еврейкой. Но и это еще не все. Моя мама, очаровательная блондинка, которая не знала недостатка в поклонниках, выбрала в мужья умного, интеллигентного врача, мало того что лысого, так еще и пруссака, который совершенно не вписывался в стандарты светского общества Сент-Луиса. Впрочем, Мэти не нуждалась в одобрении окружающих. Она предпочитала людей, с которыми не скучно, а наш папа был именно таким. Отец считал жену во всем равной себе, на что не были способны другие мужчины. У нас за ужином собирались либеральные умы, вне зависимости от цвета кожи, и посылались к черту все, кто считал, что белый не должен впускать в свой дом черного через парадный вход. Мы были прогрессистами, а это считалось скандальным и предосудительным. Мы были Геллхорнами. В начале века, еще до того, как было введено всеобщее избирательное право, и когда я только пошла в школу, родители предостерегали своих дочерей от общения со мной и с моей мамой – опасной радикальной суфражисткой, считавшейся их вполне респектабельной приятельницей, пока не стала брать свою дочку на митинги, которые – о боги! – сама же и организовывала.
Вдобавок ко всем этим несчастьям я, долговязая и неуклюжая, раз в две недели посещала кружок бальных танцев, где погружалась в особый враждебный мир. Разумеется, я вовсе не была великаншей среди карликов, просто к тому времени уже переросла сверстниц, а ребята еще со мной не сравнялись, так что, когда мы танцевали, их глаза находились на уровне моей подающей надежды груди. Они были мальчишками и понимали разницу между сильным и слабым полом, хотя ни один из них еще не бредил любовью, как бредили мы, девчонки.
Моя лучшая подруга, с которой нас вместе записали на бальные танцы, страдала не меньше, хотя, в отличие от меня, она была пухленькой, огненно-рыжей и веснушчатой. Наши родители, видно, представляли, что их дочери будут отплясывать фокстрот с приличными кавалерами, однако на самом деле все получилось иначе: мы – сорок с лишним девчонок – вынуждены были стоять вдоль стены в пропахшем потом спортзале и смеяться собственным шуткам, в то время как дюжина прыщавых пацанов решали, кого из нас выбрать. Мы с подружкой сначала так надеялись. Но мальчики, один за другим, проходили мимо и выбирали себе другую прыщавую девочку, которой посчастливилось больше, чем нам. Странным образом те девочки даже спустя годы, когда мальчики сравнялись с нами по росту и по желанию влюбляться, все равно соответствовали им больше, чем мы.
После первых унижений – вальсирования с другой невыбранной девочкой и отказа родителей забрать нас из кружка – мы, пока наши одноклассники бежали в спортзал, прятались в раздевалке. Вечера напролет мы дышали запахами сырых шерстяных пальто и шепотом обсуждали неотесанных парней и девчонок, которых они предпочли. Как будто мы вовсе и не хотели, чтобы эти мальчишки держали наши потные ладони, или в танце наступали нам на ноги, или пытались нас поцеловать, пока инструктор показывает другой парочке шаги и наклоны.
Я никого так не любила, как свою маму, и никем так не гордилась, но когда тебе восемь и в школьном буфете никто не подсаживается к тебе за столик – это закаляет на всю оставшуюся жизнь. Не думаю, что густые светлые волосы и голубые глаза могут как-то помочь тринадцатилетней девочке, которая прячется в раздевалке и только начинает осознавать себя как личность, пусть она и понимает, насколько скучны эти мальчишки, которые вместо свидания в субботу вечером предпочитают разглядывать комиксы или мучить бедных лягушек.
Вот почему, даже когда я выгляжу лучше некуда и, длинноногая, светловолосая и голубоглазая, вхожу в какое-нибудь помещение и все взгляды мужчин обращаются в мою сторону, у меня неизменно возникает такое чувство, будто они восхищаются не мной, а какой-то самозванкой, которая никогда не пряталась от мальчиков из кружка бальных танцев или от одноклассниц в школе. Я всегда была уверена в том, что, стоит лишь повнимательнее ко мне приглядеться, и вся правда мигом выйдет наружу: любой сразу увидит мой безвольный подбородок, длинный нос и «лысые» брови, поймет, что волосы у меня вьются, только когда влажно, а в остальное время они прямые, как фермерские поля в окрестностях Сент-Луиса. Я никогда не считала себя привлекательной и поняла, что заблуждалась, только состарившись, когда рассматривала старые фотографии, но было уже поздно.
Ки-Уэст показался мне лучшим местом в Америке, это было именно то, что я искала, – пристанище, где можно начать работу над новым романом. Там я купалась в море и познакомилась с молодым шведом. Он был тот еще бездельник, но с ним было весело: днем мы плавали, а вечерами танцевали. Поэтому, когда Альфред с Мэти уехали обратно в Сент-Луис – у брата закончились каникулы в университете, – я еще на пару недель, чтобы поработать над книгой, сняла номер в отеле «Колониаль» на Дюваль-стрит.
В тот день, когда я проводила маму и брата, Хемингуэй пригласил меня на ужин в их с Полин похожий на свадебный торт особняк на Уайтхед-стрит. Я должна была приехать пораньше. Эрнест обещал показать мне сад, где мы, не докучая гостям, могли бы поболтать о своих литературных делах. Хемингуэй славился тем, что щедро делился опытом с коллегами, но не думаю, что захотела бы познакомиться хотя бы с одной писательницей, которая воспользовалась его щедростью. Так или иначе, упускать такой шанс было нельзя.
Мы сидели на скамейке в тени гостевого дома, который служил ему кабинетом, и Эрнест держал на коленях белую кошку. Он сказал, что недавно купил рыбацкий катер, а потом начал объяснять, как следует писать, взяв для примера эпизод с ловлей рыбы.
– Капли воды на леске, что натянулась, как веревка на виселице… Или как их сбрасывает только что вытащенная из моря рыба… Вот что ты должна держать в голове. Запоминай звуки, свет, все, что тебя возбуждает, злит или пугает. А потом записывай в деталях, так чтобы читатель один в один почувствовал то же, что ощущаешь и ты сама.
Я же в тот момент заметила шесть пальцев на лапе у кошки и ничего, кроме омерзения с примесью жалости, не почувствовала. Было в Эрнесте и в его привязанности к этой кошке что-то странное, будто он чувствовал себя виновным в ее изъяне или воспринимал его как свой собственный. Я отвернулась и посмотрела на виднеющийся над верхушками пальм маяк, на павлинов и на фламинго, которые расхаживали по кромке воды. Я понимала, о чем он толкует, и в то же время не могла этого понять.
Мне хотелось ответить: «Я не прошу учить меня, как надо писать. Просто скажи: хорошо я это делаю или плохо?»
Мне хотелось попенять ему за книгу «Кросс по снегу» и за то, что он высмеял моего бывшего возлюбленного Бертрана де Жувенеля, французского журналиста, с которым Хемингуэй познакомился в Париже и которого упрекал в излишней простоте стиля. На самом деле Бертран умел выражаться красиво, а Эрнесту, прежде чем язвить, стоило бы посмотреть на себя.
Однако я сочла за благо помалкивать и лишь протянула руку к кошке и потрогала ее странную лапку. Я понимала, что, если не перебивать Эрнеста, если позволить ему говорить о том, что я и без него знаю, он постепенно дойдет до таких вещей, о которых я даже не слышала или же слышала, но была в них полным профаном, – например, о рыбалке. Я знала, что все это может пригодиться, когда я буду писать.
– И не забывай о погоде, – объяснял Эрнест. – Погода чертовски важна.
– Жарко и душно, вот какая сейчас погода, – сказала я, убирая со лба волосы, которые еще не высохли после дневного купания с моим шведским приятелем.
– Душно? Только если ты несчастлива, Марти. А как ты можешь быть несчастлива, если танцуешь по вечерам, а днем плаваешь в море? Любительница танцевать вроде тебя скорее назовет погоду влажной.
– А откуда ты знаешь, что я танцую по вечерам? – с деланым равнодушием спросила я, хотя на самом деле это меня очень интересовало.
– В Ки-Уэсте ничего скрыть нельзя, даже не надейся.
Я рассмеялась:
– Тогда, возможно, слово, которого мне не хватает, – «жарко»? Подойдет для сюжета «преступление на почве страсти».
– Любовь – отличная тема для романа, как и убийство, – кивнул Эрнест. – А теперь представь: любовь и убийство во время войны. Один день во время войны обеспечит больше действия и эмоций, чем целая жизнь в мирное время.
К концу недели Хемингуэй за то, что я вечно приходила на наши послеобеденные встречи с мокрыми волосами, наградил меня прозвищем Русалка. А еще он дал мне почитать отпечатанный на машинке черновик романа о контрабандистах, которые возили ром с Кубы. Оказалось, что жизнь у них не менее захватывающая, чем на войне.
– «Война и мир» нашего времени, вот как я это задумал, – сказал Эрнест.
Редактор и соучредитель «Эсквайра» предложил ему соединить сюжеты двух рассказов воедино и переработать их в роман.
– Ки-Уэст и Куба, – объяснял Эрнест. – Богатые и бедные. Контрабанда, коррупция и секс. Эта история вернет меня к моим корням.
За его бравадой скрывалось что-то еще. Когда мужчина так бахвалится, скорее всего, он пытается убедить в собственной значимости себя, а не кого-то другого. «И восходит солнце» – потрясающий роман, а «Прощай, оружие!», пожалуй, по праву можно назвать шедевром. Но что Хемингуэй написал после двадцать девятого года? Три книги, которые не вызывали особой симпатии у критиков и продавались лишь ненамного лучше, чем моя первая книга.
Признаюсь вам откровенно: я была в восторге от романов Эрнеста, но вот его рассказы порой ставили меня в тупик. Там он зачастую выводил своих героинь в роли этаких мелких зануд-моралисток. В новом романе Хемингуэя тоже было полно всякой лабуды вроде той нарциссической мути, которая в 1933 году похоронила сборник рассказов «Победитель не получает ничего». Правда, его коллеги по литературному цеху – Джон Дос Пассос, усиленно маскировавшийся под алкоголика-сердцееда, и Фрэнсис Скотт Фицджеральд, который взял Эрнеста под крыло, когда сам уже стал знаменитостью, а Хемингуэй еще был никем, – получали от критиков отзывы и похуже. Однако следовало признать: сборник, который должен был стать канатом, сплетенным из крепких волокон-историй, расползся в разные стороны. Но стиль Эрнеста – энергичный, краткий и поэтичный – остался неизменным: он все так же точно и безошибочно использовал слова.
Если вы читали Хемингуэя, ваш собственный стиль неизбежно менялся, и не важно, хотели вы этого или нет. Я была в восторге от диалогов из последней книги, в чем ему и призналась.
– Чертовы критики, – сказал Эрнест, – хотят, чтобы я стал капитаном болельщиков коммунистов, но это всего лишь один из дерьмовых закутков мира Дос Пассоса.
– Как ты планируешь закончить книгу? – спросила я.
– Мой герой получит пулю в живот при ограблении банка, но я все еще не нащупал старое доброе чудо, которое поможет мне с финалом.
– Старое доброе чудо?
– Чтобы поставить точку, без чуда не обойтись. Вот так, Студж[3]3
Студж (англ. stooge) в данном случае означает «марионетка», «партнер комика».
[Закрыть].
Студж? Правда, Эрнест произнес это с таким теплом в голосе, словно получить подобное прозвище – большая честь.
– И кто же, по-твоему, дергает меня за ниточки? – поинтересовалась я.
– Ну, тот парень, который вьется вокруг тебя на пляже, наверняка думает, что он.
Ну что же, Студж так Студж. На мой вкус, это ничем не хуже Русалки. Я сама давала друзьям и родственникам прозвища, которые далеко не всегда были лестными. Швед – это понятно кто. Мой любимый учитель из Бир-Марна – Тичи, а своего бывшего из Парижа, Бертрана де Жувенеля, я звала Смуфом.
– А я уверена, что главный комик – это я, а Швед – мой подставной, партнер, подающий реплики из зала.
Эрнест рассмеялся:
– Писателю, чтобы быть смешным, надо хлебнуть приличную порцию гадостей.
Ну, я-то столько гадостей хлебнула, что могла писать смешные истории дни и ночи напролет.
– Я уже скоро добью эту книгу, – заявил Эрнест. – Просто надо еще разок съездить в Гавану, там я смогу окончательно расставить все по местам.
Потом он попросил показать ему мою рукопись, это меня испугало и одновременно воодушевило: ну как же, Эрнест Хемингуэй заинтересовался моей работой. Это побудило меня саму отнестись к ней с максимальной серьезностью, и при ближайшем рассмотрении я вдруг обнаружила, что никакой это не роман, что все мои герои просто слоняются по городу и ни с кем из них не происходит ничего примечательного, на их пути даже шестипалая кошка не попадается. И в результате я выбросила к черту всю эту прогнившую чушь. Боже, это было настоящей пыткой, но я это сделала и начала писать новую историю. Я постоянно прокручивала ее в голове: и когда плавала в море, и когда разговаривала с Эрнестом.
По вечерам я танцевала со Шведом, а потом в одиночестве лежала в кровати и, пока влажный воздух смягчал мои легкие, мою кожу и мое отчаяние, молила своих богов, которые все сильно смахивали на печатную машинку, дать мне силы написать книгу, помочь перенести историю на бумагу так, чтобы она оставалась при этом такой же живой, какой была пять минут назад в моем воображении. Утром меня будили лучи палящего солнца. Оно заливало своим светом мое длинное тело, а у меня в голове, как каша в котелке, продолжал вариться сюжет будущего романа. Я нацелилась написать красивую и жесткую историю и чувствовала, что книга получится отличная: главное – сделать все как надо.
Ки-Уэст, Флорида
Январь 1937 года
Однажды у Хемингуэя за ужином собрался полный стол: Томпсоны и я, Полин с Эрнестом и двое их сыновей – восьмилетний Патрик по прозвищу Мышонок (не по годам серьезный, весь в отца) и ясноглазый пятилетний Гиги (мне сперва послышалось «Пигги»), которого на самом деле звали Грегори. Мальчики были просто чудесными, я даже подумала, что неплохо будет когда-нибудь завести детей при условии, что они окажутся такими же славными. У Эрнеста был еще один сын, Бамби, он жил с его первой женой Хэдли, которая была очень дружна с Полин. В обществе любили иронизировать на тему того, как набожная католичка смогла увести чужого мужа и при этом сохранить добрые отношения со своим суровым Богом, хотя, впрочем, богатым все позволено. Вот только на самом деле Полин вовсе не уводила Хемингуэя.
Все шло хорошо, вечер начался с коктейлей в гостиной, правда без «Папа добле». Эрнест пил виски, а я «Куба либре», потому как смешать ром с колой и соком лайма – дело нехитрое, а мне не хотелось лишний раз утруждать хозяина. Когда же Эрнест занялся приготовлением какого-то экстравагантного коктейля для Полин, для чего потребовалось открыть новую бутылку шампанского, я пожалела, что не заказала что-нибудь более утонченное, но промолчала: не хватало еще выглядеть дурочкой, которая сама не знает, чего хочет. В общем, я потягивала свой напиток и слушала Полин. Жена Хемингуэя носила короткую стрижку «под мальчика» и, подобно мне, почти не пользовалась косметикой. Она была женщиной остроумной, из тех, кто за словом в карман не полезет, что позволяло нам вместе посмеиваться над забавными островитянами, хотя, не скрою, осознание собственного превосходства и вызывало у меня некоторые угрызения совести.
После коктейлей мы прошли через холл в узкую столовую с бледно-желтыми стенами и арочными проемами, которые всегда пропускали солнечный свет и даже вечером заставляли забыть о зиме. Когда мы устроились в креслах с кожаной обивкой за массивным деревянным столом, Полин принялась рассказывать о переменах, которые они с Эрнестом планировали провести в саду.
– Мы хотим все кардинально поменять и устроить бассейн там, где сейчас у Эрнеста боксерский ринг. Представляете, первый бассейн с морской водой…
– Это твои планы, Полин, – перебил ее муж. – Ты хочешь притащить сюда землекопов с экскаваторами и бетоноукладчиками, чтобы они здесь грохотали с утра до вечера, а я бы на все это время забросил писательство. Но не забывай, Файф: жена счастлива при счастливом муже. Так что лучше не мешай мне работать.
Томпсон предпринял попытку понизить градус разговора:
– Полин говорит, что комната, где вы планируете развесить головы антилоп, на которых ты охотился в Африке, – это будет нечто.
– Не хватало еще всю жизнь угробить, выбирая аксессуары для сада и обстановку для дома, – заявил Эрнест. – Можно всю жизнь просидеть здесь, в Ки-Уэсте, а реальный мир останется где-то за бортом.
– Дорогой, – примирительно произнесла Полин.
– Испания, вот где сейчас должен быть настоящий писатель. Я должен поехать в Испанию.
Возможно, Хемингуэй, затеяв этот разговор за ужином, просто хотел позлить супругу. Порой я даже думала, что он и меня приглашает, лишь бы только ей досадить. Эрнест усадил меня справа от себя, и, когда наклонялся ко мне и говорил что-нибудь вполголоса, Полин, которая сидела в конце стола с Томпсонами по флангам, приходилось напрягать слух.
– Он и так уже пожертвовал деньги на санитарные машины и оплатил поездку двух добровольцев, – сказала, обращаясь ко мне, Полин. – По-твоему, Марта, этого недостаточно?
Понятно, что она хотела перетянуть меня на свою сторону, чтобы мы выступили единым фронтом и не позволили Эрнесту покинуть Флориду.
Надо было, конечно, поддержать ее, хотя бы из приличия. Мне очень нравилась Полин. Она открыла для меня двери своего дома и приняла тепло, чуть ли не как родную. Но беда в том, что я была слишком принципиальной и совсем не умела говорить то, что сама не считала правильным. А потому я промолчала.
– Напрасно стараешься, Полин. Студж ты все равно не завербуешь, – заметил Хемингуэй. – Она тысяче снобов в Рокфеллеровском центре прочитала лекцию, объясняя, что писателям сейчас следует всячески «рекламировать и продавать демократию», обращаясь в художественной форме к своим читателям, или мы закончим, как нацисты.
Полин склонила свое утонченное лицо к привезенному из Парижа подсвечнику так, словно это было распятие в какой-нибудь средневековой церкви с деревянными скамьями и подушечками для коленопреклонения, а на голове у нее был белый кружевной платок. Она перестала попрекать мужа, и он смягчился – ровно на эти несколько секунд.
– Республиканцы, старик, вовсе не святые, – сказал Томпсон.
– Естественно, не святые, – согласился Эрнест.
Однако на стороне республиканцев выступил бы тогда любой здравомыслящий человек. Через пять лет после падения монархии, после того как испанцы избавились наконец-то от тирании короля и Церкви, консервативно настроенные генералы попытались свергнуть законно избранное правительство Народного фронта и установить в Испании диктатуру. Генерал Франсиско Франко, вождь мятежников, имел тесные связи с нацистской Германией и фашистской Италией. В стране началась гражданская война, в которой националисты сражались с республиканцами – защитниками демократии.
– Да, они расстреливают священников и епископов, – продолжил Эрнест. – Против фактов не попрешь. Но с другой стороны, почему священнослужители поддерживают мятежников?
– Церковь вне политики, – запротестовала Полин.
– В Испании все вовлечены в политику, Полин, – сказала я. – Этим летом в Штутгарте нацистские газеты без конца писали о кровожадном отребье, которое нападает на силы закона и порядка, и называли законно избранное правительство красными свиньями. Но у нацистских газет есть один плюс: они помогают определиться. Если Гитлер ратует против чего-то, можно смело выступать «за».
– Если выбирать между патриотами-рабочими и землевладельцами, которые только о себе и думают, то я выступаю на стороне народа. В общем, я за республиканцев, – заявил Эрнест.
– Даже несмотря на то, что сам охотишься вместе с богатыми землевладельцами и охотно пьешь их спиртное, – вставила его жена.
Хемингуэй громко посмеялся над собой и примирительно сказал:
– Даже если так, Полин, даже если так.
Она посмотрела на меня:
– Студж, а ты и правда полагаешь, что Эрнест недостаточно делает для Испании?
Это прозвище предполагало ироничное и одновременно доброе отношение, но в интонации Полин чувствовался намек на неприязнь. К тому времени я уже успела понять, что Эрнест приберегал самые колкие прозвища для тех, кому симпатизировал больше других. Своего издателя Чарльза Скрибнера Хемингуэй за глаза именовал Скрибблс[4]4
Скрибблс (англ. scribbles) в переводе означает «писанина», «каракули».
[Закрыть]; правда, заставил меня пообещать, что если я вдруг познакомлюсь с ним, то никогда не произнесу это слово в его присутствии.
– Полин, – ответила я, – в Бадахосе фашисты загнали тысячу восемьсот пленных республиканцев на арену, где проводится коррида, и расстреляли их из пулеметов. Если Гитлер, этот мерзкий психопат, действительно пришлет им на подмогу пару дивизий, война охватит всю Европу, а то и весь мир, можешь не сомневаться. Как можно оставаться в стороне?
– Но для мира будет лучше, если Эрнест продолжит писать свои романы, – возразила Полин.
– В Испании для писателя тьма сюжетов, – сказал Хемингуэй.
– Твой редактор ждет рукопись романа о кубинском контрабандисте, – напомнила ему супруга.
– Ладно, спешить некуда, война еще не скоро закончится, – признал Эрнест. – А в Мадриде сейчас холодно, как в морге.
Он снова рассмеялся, и все за столом последовали его примеру. Включая и меня, хотя я не могла понять, куда подевался мой вдумчивый собеседник, с которым я разговаривала в саду, мудрый, дальновидный человек, который сокрушался, что уже почти не осталось времени на то, чтобы как-то отодвинуть нависшую над Европой угрозу. Неужели для его исчезновения хватило парочки коктейлей перед ужином?
– Поступай как знаешь, Эрнест, – с натянутой улыбкой произнесла Полин, – ты ведь всегда делаешь только то, что хочешь.
Тут я подумала: пожалуй, слухи о том, что у Хемингуэя был роман с двадцатидвухлетней женой богатого американца с Кубы, вполне могли оказаться правдой. Швед рассказывал мне, что Эрнест с любовницей играли в «Кто первым струсит». Он разгонялся на ее спортивной машине, а она не просила его сбросить скорость, даже когда автомобиль заносило на обочину. Впрочем, Полин была умной женщиной. До того как выйти замуж за Эрнеста, она работала журналисткой, писала для «Вог». Она все понимала, но предпочитала не замечать того, что не считала нужным. А не замечала она очень многого: и того, что мы стоим на пороге войны, и того, как сильно мы хотим нежиться на солнце, смеяться и любить, пока еще есть время.
– Вот закончу роман – и сразу в Испанию, – сказал Хемингуэй. – А пока, черт возьми, буду продолжать посылать республиканцам деньги!
– Это просто гениально, Эрнест. – Миловидная Полин поджала губы и на секунду стала похожа на крысу. – Вперед: рискуй жизнью ради горстки недовольных испанцев, а мы с Патриком и Гиги будем здесь умирать от беспокойства. И Хэдли с Бамби тоже.
Эрнест встал, с грохотом отодвинув стул, и пробормотал себе под нос:
– К черту все, хватит уже прикидываться несчастной овечкой! – Он потрепал Патрика по волосам. – Вот ты у нас молодец, Мышонок, ты всегда спокоен. Хороший пример для Гиги.
Сказав это, Хемингуэй потрепал по волосам и Грегори тоже, а потом вышел через арочный дверной проем. А я про себя предположила, что он, должно быть, направился обратно в бар «Неряха Джо» к своим собутыльникам.
Мы с Хемингуэем сидели на скамейке в саду. Я как раз закончила читать последние страницы рукописи романа о кубинском контрабандисте с правками, сделанными его характерным круглым почерком, и теперь говорила Эрнесту, как это гениально, и тут он наклонился ко мне и поцеловал в лоб. Просто на долю секунды прикоснулся губами.
– Дочурка, какая же ты славная.
Я физически ощущала его взгляд. Дочурка… Глаза у Эрнеста были карими и теплыми, а у моего отца – голубыми и холодными. Голос Эрнеста был низким и мягким, а у папы, который всю жизнь говорил с немецким акцентом, резким, не допускающим возражений, как камни, которыми Полин хотела украсить их чудесный сад.
– Не преувеличивай, Папа Хэм, – игриво возразила я, но получилось не очень естественно.
– Ты хорошая девочка, Студж, – серьезно сказал Эрнест, так, словно мог заглянуть мне в душу, словно, читая странички из моей рукописи, узнал обо мне больше, чем я хотела ему открыть.
– Вряд ли, ведь я никогда не делаю того, что следовало бы сделать, – возразила я.
Эрнест наклонился и подхватил на руки пробегавшую мимо кошку.
– То есть то, что считают правильным другие люди, а вовсе не ты сама, – уточнил он. – И впредь поступай так, как считаешь нужным. Главное – быть искренней и говорить правду.
– С искренностью у меня все в порядке, Эрнестино, вот только благодаря этому меня не раз называли конченой эгоисткой.
– Конченой эгоисткой?
Это было определение моего отца, а еще он утверждал, что если я хочу серьезно заниматься литературой, то должна писать, а не капитализировать свои золотистые волосы. В результате я засела в Нью-Хартфорде и писала четыре месяца кряду, ни на что не отвлекаясь, и даже папа не смог подвергнуть критике мою вторую книгу – «Бедствие, которое я видела».
– Сколько людей, столько и мнений. Не принимай это близко к сердцу, Дочурка, – сказал Эрнест.
Он столкнул с коленей кошку с уродливой лапкой, приподнял мой подбородок и посмотрел в глаза так, будто понимал, что я все еще думаю об отце, который так и не дождался, когда я вернусь в Сент-Луис и попрошу прощения за ту муть, которой забила свою голову, и за то, что к двадцати семи годам выдала только две никчемные книжки.
Мы одновременно обернулись, заметив какое-то движение в конце садовой дорожки. У дверей в кухню стояла повариха с полотенцем в руке. Я, поняв, что мы не одни, испугалась, а Эрнест отреагировал на ее появление равнодушно, как будто она была пустым местом.
– Ты хорошая девочка, и хватит уже так переживать из-за своей книги, – заключил он. – Ни к чему понапрасну себя накручивать. Просто пиши, Дочурка. Сядь и пиши.