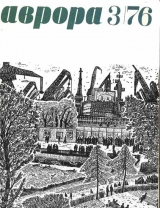
Текст книги "Тропинка на Невском"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Майя Данини
Тропинка на Невском

Коптилка
Еще город – светлый, теплый, довоенный, совсем мирный – был душистым, чистым, многолюдным. Еще шли по городу легкие, нарядные женщины и, проходя, овевали, дурманили тонкими духами, и когда шарф или лента от шляпы вдруг касались моей щеки, я ревниво думала: «И я, и я скоро буду носить такую шляпу, такие туфельки – невесомые, белые, как скорлупки»; еще сверкали натертые до блеска стекла, кое-где уже залепленные бумагой, но еще многие вместо банальных переплетов клеили на стекла тонко вырезанные пальмы или листья рододендрона, корабли или другую какую-то дребедень, а женщины, привыкшие есть мало и совсем не есть хлеба, говорили: «Пусть карточка на хлеб, это на пользу», – и ушивали платья.
Город был красив особенной красотой – это был город насторожившийся, но еще не совсем военный. Пышное, роскошное лето цвело настурциями, кипело фонтанами, полыхало пионами и розами. Яркие пустынные вечера спускались на город, и вспыхивали в небе прожекторы, светилась лупа, мерцали звезды и змеились в лунном свете аэростаты.
Большой проспект Васильевского! Большой проспект, зеленый коридор, цвел так торжественно, так властно, что каждый желтый одуванчик был величиной с малярную кисть, которую окунали в позолоту, да так и забыли; каждый лист клена горел звездой и протягивал свою лапу.
Проходили дожди, и вспыхивали снова огни цветов на окнах и на бульварах – все было солнце, солнце, красивое лето. Оно незаметно чуть захолодело.
Только что разглядывала тюльпан – яркий, с голубой серединой, редкий тюльпан, и вот уже всюду – астры, астры, последние холодные цветы, уже доцветали настурции и посыпались березы молодой позолотой.
Город тихо плыл по осени. Он пустел, и тем прекраснее было все кругом.
Город пустел, он становился похожим на дот. Уже не было нарядных витрин, уже тяжелые кирпичные стены заслонили стекла, не сияли витражи Елисеевского, не пестрели легкие зонтики над витринами – город щетинился, укрывался. Спрятались памятники, шпили, погасла ясная свеча кораблика иа Адмиралтействе, город стал похож на танк, но все еще полыхало солнце и светилась лупа.
Уже слышны были разрывы, все чаще выла сирена, все плотнее – туманы, но город еще был таким, как прежде. Он и после – долго – был таким, как прежде, но уже Большой проспект не стал тем, что был, и долго после войны весь город был запущенным и обветшалым, долго видны были следы обстрела и блокады.
Близился ноябрь, и вот под праздник, в особенно светлую и лунную ночь, началась тревога, которая сразу, сразу показалась не простой тревогой, а тревожной тревогой, странной.
Мне она не была страшна. Я еще не понимала страха, писала дневники, а в них было все, кроме войны. Рассказы о лете, о лошадях и мальчике, с которым была в приятельских отношениях, о девочках, о том, что и кто говорил.
Иногда мне казалось, что я пишу рассказы, но выходило, что я пересказываю чужие повести, и даже целые куски Тургенева и Толстого легко укладывались в мой рассказ о моих героях – таких же, как я, шестиклассниках. И в этих дневниках, когда я после перечитывала их, только одно место было про блокаду: «Коптилка не горит, писать трудно. Вытащила фитиль – он обгорает, окунула в керосин – погас. Гаснет, гаснет… Если сейчас погаснет, мы все умрем, а если не погаснет – все останемся живы… Горит ярко».
Как помню этот странный свет коптилки, и запах керосина, и тусклый огонек на конце маленького флакона – горит, горит, меркнет, гаснет совсем. Опускаю фитиль – не горит, поднимаю – вспыхивает и снова гаснет. И уже невозможно читать, нельзя писать – так тускло она светит, как уголек. И я гляжу на нее, гляжу, и тяжелая тоска наползает на меня вместе с темнотой – вот-вот все погрузится во тьму, все остановится, и я задумываю – будет или нет коптилка гореть. Гляжу на нее и уже ничего не делаю с ней, не ковыряю ее булавкой, не обжигаю себе пальцы, вытягивая фитиль, ничего не делаю – гляжу, загадала… И вдруг она вспыхивает и горит ровным, ярким огнем, трепеща на потолке сполохами света, и снова я могу читать и писать, я улыбаюсь и смотрю на этот огонек – гори-гори ясно!
Этот огонек в ночи и в вечера, этот огонек, тонкий луч – надежда, тепло, свет – заронил во всех радость, поселил силы: выживем!
Он вспыхнул впервые в тот день бомбежки: красивый день – полный ужаса и красоты.
В тот день кто-то принес бутылку вина, и все гости были так рады! Еще был свет, еще были картошка, шпроты и конфеты, и в предвкушении ужина все оживились и острили – ждали, когда откроют бутылку. Ждали, глядели на пробку, а уже выла сирена, но никто не уходил в бомбоубежище – это было еще не принято в Ленинграде. В Москве все и всегда уходили, в Ленинграде – редко, уже потом, когда каждый день бомбили, только тогда, но в тот день, когда завыла сирена, – еще шутили, никто не двинулся из-за стола. Вошел гость – и грянул залп.
– Вошел – и пробка в потолок! – сказал гость, и все еще смеялись, когда другой и третий выстрел действительно – как бомба в потолок! Еще смеялись, но уже кинулись к окнам и тут же замерли. Гул самолетов – страшнее бомб, страшней зениток, свист пуль, снарядов, бомб – и тяжелые раскаты.
У всех еще были улыбки, забытые случайно на лице, у всех еще были лица для стола, для гостей – приветливые лица, а в окне уж© бесновались сполохи огня, прожекторы, трассирующие пули, снаряды – все светилось, все сверкало, и это сверкающее, горящее, воющее, гудящее надвигалось на нас. И грянула бомба – рядом, зашатался дом, полетели стекла, погас свет; еще и еще – и столб пламени, дыма, пыли ворвался в комнату.
Никто не крикнул в доме, все так же, когда утихла тревога, улыбался последний гость, повторил: «Вошел – и пробка в потолок», – но никто не смеялся вслух.
Сидели возле темного стола, и кто-то сказал: «Надо смастерить коптилку!» – и принялся мастерить.
Кто-то ушел на пост, кто-то ушел совсем – и поздно, поздно загорелась коптилка. Кто мог думать, что она не спрячется окончательно – сколько дней, сколько лет! – будет стоять тут на столе и освещать сначала этот стол под скатертью, потом голый стол, который на ночь превращался в кровать для кого-то, потом не станет и стола – коптилка переедет на окно, а стол сожгут? Кто думал, что коптилка переживет того гостя, еще нескольких гостей, переживет многое и многих и возвестит мне, что я – я! – останусь жить, и осветит мой дневник, в котором не хотелось писать про войну, блокаду, трупы, раненых, а хотелось писать про лето и дачу, купанье и ссоры с моей подругой…
Тропинка на Невском
Тропинка среди сугробов – на Невском, узкая тропинка между сугробами – протоптана одним человеком, от силы – двумя, так что трем не разойтись, – кто помнит эти тропинки, этот ход среди огромных сугробов, и всюду по сторонам – снег, горы снега! Маленькие горки, обледеневшие, – это тротуары, чуть побольше горки – троллейбусы, и огромные горы ледяных потоков, деревянных щитов и снега, снега – дома. Невский – весь из таких увалов, весь из пригорков, и внизу, как в ущелье, – тропинки, тропинки, а над этим снежным и ледяным белым нагорьем – белые провода, пушистые, воздушные и тяжелые в одно и то же время, и прозрачное прекрасное небо. Кто помнит это?
Мой Невский – стройный и строгий, лепной и ничем не украшенный, мой Невский, который я знала еще тогда, когда не могла выговорить слова «Невский», уже его любила, когда шли вдоль него к Екатерининскому садику – гулять, а потом пить чай с пирожными в «Норде» или «Квисисане», мой Невский, который я знала вдоль и поперек, который после, в ГДР, в Польше, ревниво сравнивала со всеми прекрасными городками – какой он, не померк? Мой Невский, Нева с тонкой акварельной линией домов и яркими, огненными стеклами на закате, мой Невский, моя Нева – все тогда было ледяной горой снега, все было однообразно, и даже нож Адмиралтейства не сверкал, а спрятался под чехлом и густым инеем и выглядел так, будто это была не та игла, которая всегда в конце улиц светилась как лучик, а теперь мерзла и коченела, вытягивалась вверх, как жерло пушки.
Тропинки на Невском – и скорбные тонкие усы троллейбусов…
Теперь, когда я сижу за машинкой, и парк влажно дышит в окна, и тишина, тепло, и ясная ночь течет за окнами – такая дивная, осязаемая, свежая, будто южная ночь! – мне хочется отвести это видение скорбного города, Невского, который был весь в сугробах.
Господи, какое нежнее, бережное ощущение красоты и строгости, особенной подтянутости случалось мне испытать, когда я ступала на край гранитного памятника Глинки, когда заглядывала в глубину его зеркальной поверхности и там видела себя, и театр, и консерваторию, видела прохожих и трамваи, видела небо, и яркие звездочки гранита сверкали мне так ясно и прелестно, что казалось, будто небо – здесь, в этом памятнике, будто он весь из звезд, из колючих иголочек инея и света! И этот памятник был олицетворением Петербурга, его красоты, хоть и не очень своеобразной, но тем не менее – привычной и прекрасной с детства, а раз с детства – то священной, своей красоты, которую предать – грех.
Когда теперь едешь по городу и ему конца нет – можешь ехать час или два, можешь ехать очень долго – на электричке, на метро, на трамваях – и все город н город, то странно подумать, что тогда, в блокаду, город весь сузился до размеров нескольких остановок, так что час или два ходили только пешком, и то в сторону Выборгской, иначе некуда было.
Ходили много – почему-то надо было куда-то, хоть и не хотелось совсем выходить из дому, не хотелось дышать морозом, видеть тоскливые лица, к которым, правда, привыкли, но все равно угнетали лица, фигуры людей, угнетало все, особенно то, как человек шел, садился в сугроб – и все знали, что из этого сугроба он не встанет больше. Чаще всего к нему подходили, поднимали, заставляли идти, но иногда никто не подходил, и человек сидел, смотрел на проходящих стеклянными глазами и постепенно засыпал, засыпал…
Вереница людей, проходивших по этим тропинкам, людей знакомых и не очень знакомых, потому что они часто стояли в очередях за хлебом, в одних и тех же очередях, или сидели в бомбоубежище вместе со мной, или просто жили по соседству, – вереница людей запомнилась мне, и если очень захотеть, то можно и теперь воскресить их облик в памяти, их облик и поступки, только их самих уже не воскресить…
Сколько погибло близких, родных, знакомых и яе очень знакомых, сколько? Сколько выжило в самые грозные дни холода и голода, но умерло сразу после войны? Но были и такие, которые вопреки всему выжили. Знала: у них ничего не было – ни особых запасов, ни посылок с фронта, но они выжили, как выжил наш нижний сосед…
Сосед
Это был человек угрюмый и даже неприятный, человек, который не ходил, а бродил. Он был стар и замкнут, как будто его совсем не касалось все, что происходило вокруг, он ничего не замечал. Голод, не голод – ему не было дела, он шел мимо, как ходил всегда, один-одинешенек, и казался нам всем неприятным, и тоска исходила от него – потому чурались его, он нес неприятность.
Даже боялись. Никто никогда не приходил к нему, никто никогда не разговаривал с там, и не знали, что у него в комнате, что он делает. Казалось, умри он – ничего не останется после него, кроме старого пальто, старых калош и заношенной шапки. У него не было детей, не было друзей, родных. Кто мыл ему окна, кто вытирал пыль – казалось, что никто, но окна не были грязными, хотя никто не видел, когда он мыл их, впрочем, никто в те годы и не заглядывал в его окна. Знали, что существует человек, а кто он, чем занят – никто не знал.
Когда все стали вдруг общительней, узнали друг друга в бомбоубежище, когда все вдруг переместились и жили в первых этажах, он не стал общительней, он не переместился – все так же, как и прежде, он поднимался к себе на пятый этаж, все так же медленно шел к себе и не останавливался на ступеньках, даже если нес воду или что-то такое в сумке. Он медленно и твердо шел к себе и не оглядывался по сторонам, не здоровался ни с кем.
Поверх его шапки появился шарф – в морозы, потом вместо ботинок – валенки, и в любую погоду, в самые страшные морозы он шел вниз утром и вверх вечером. Он шел – и казалось, его ногами было протоптано много тропинок – к воде и в Невскому, его ногами были примяты сугробы, и сквозь них непременно он уходил и приходил.
Постепенно его пальто обвисало на нем, постепенно он уходил в шапку все глубже – она будто проваливалась на уши, и он становился похожим на дятла, на тот странный рисунок, который остался у меня с детства в памяти: гоголевский Нос в шинели ходит по Невскому, один Нос, что торчит из шинели; теперь, в блокаду, этот Нос, торчащий из воротника, встречался мне постоянно, часто я видела все тот же Нос – правда, к нему, кроме пальто, прилагались ноги, стоявшие так нетвердо, так шатко, но тем не менее они могли нести пальто и Нос под шапкой. Страшное это видение не было комическим, не было оно и аллегорическим – оно было только печальным, но тот человек, неприятный и стоявший твердо, был все-таки комическим. Почему он ходил домой и из дома, когда все, уже все или жили на работе, или только дома, или у кого-то, кто мог приютить поблизости к работе? Что было у него дома? Вряд ли сохранились у него ценные вещи, да и то эти ценные вещи можно было унести, но он ходил, топил печь, он ходил в самые лютые морозы, в самые страшные морозы – и ни разу в жизни не опоздал, ни разу в жизни не свернул с пути, ходил и ходил.
Я вернулась из эвакуации, проходила по нашей улице – а первым увидела его.
Он нисколько не изменился, он все так же ходил в своем пальто и страшной шапке, он все так же был худ и угрюм, но когда я поровнялась с ним, он вдруг поздоровался со мной и даже улыбнулся: он – мне, все еще не очень взрослой, мне… Он меня узнал или спутал с мамой – я была в мамином пальто и маминой шляпе, но он даже церемонно поклонился и остановился.
– Я рад, – сказал он, – что вы живы. Я не думал, что вы живы.
– Я тоже рада, – запинаясь сказала я, и стало не очень понятно, чему я рада – тому, что он жив, или тому, что я осталась жива.
Я бы не запомнила этого человека, я бы не запомнила того, что он поздоровался со мной, но я пришла в одну лабораторию и там увидела портрет этого человека, я увидела его лицо – это был он, несомненно он, его портрет висел над столом сотрудницы – не слишком крупный портрет, не слишком важный портрет: такие портреты вешают упрямые дамы, которые назло всему начальству и всем на свете помнят и ценят людей, которых знали как лучших, самых лучших из всех сотрудников, хотя те не имели ученых степеней, наград, часто не имели даже трудов, но были, были и останутся тут висеть, пока упрямая сотрудница не умрет сама.
И она рассказала мне все об этом человеке: он сохранил для лаборатории коллекцию кактусов. Он укрывал их своими одеялами, он топил для них, он, казалось, сохранил их дыханием своим.
С какими трогательными подробностями рассказывала строптивая сотрудница о нем – какой дотошный он был, какой поразительно последовательный, как он трудился всю жизнь и что помогло ему спасти коллекцию кактусов: кактусы помогли ему пережить блокаду, а он – кактусам! И она показала мне коллекцию, которая теперь была огромной, роскошной и вся произошла от тех крошечных кактусов, которые спас он.
– Он умер совсем недавно, – сказала она, – в шестьдесят седьмом году, то есть прожил еще двадцать лет после блокады, и вот эти кактусы собрал уже после войны – он собирал их повсюду, он знал их все, не было вида, который был бы ему неизвестен; он не только выписывал из других стран, он их буквально из-под земли добывал.
Зима
Странное дело – в тот год будто не родилась капуста, белая, красивая, ровная капуста, а родилась только хряпа, зеленые, твердые, огромные листы капусты, которые разрослись, распластались по земле, – их собрали, засолили, и всю блокаду была только хряпа, а капусты не было вовсе. Откуда она взялась – хряпа – в таком количестве? Не знаю, но только она, ее дивный вкус остался на зубах до сих пор, так что, увидев на базаре зеленую мелкую хряпу, я сразу покупаю ее и с восторгом варю щи из хряпы, ем и радуюсь, будто это деликатес, которого не достать нигде.
Так помнит все тяготы войны существо человеческое, хотя голова давно забыла все и не помнит никаких подробностей о тех временах.
Ну, скажем, разве кто-то может сейчас вспомнить облик человека, который много времени страдал от голода и питался клейким хлебом, дрожжевым супом и хряпой? Человек, который теперь худ или очень сухощав, совсем не похож на того человека. Бели очень хотеть представить себе того истощенного человека, то надо увеличить сухого серого богомола, которого все равно надо еще слегка помучить, – тогда можно понять, как выглядели люди в блокаду. Это были и не люди, а сухие тени, без всякой жизни, без пола, с одним только упорством – выжить, с одним только моторным рефлексом – двигаться, делать что-то, не останавливаться.
Хотелось бы теперь, подобно Бомбару, произвести эксперимент – голодать и холодать, жить на ста пятидесяти граммах хлеба – сколько? Сколько мог бы выдержать теперь человек – в спокойном, обычном виде? Уверена, что человек может жить более трех месяцев на такой диете, он мог бы выдержать и все девятьсот дней на этом пайке, но люди не выдерживали и трех-четырех месяцев, особенно те, кто был в одиночестве. Кто не хотел умирать, тот выжил, кто не мог больше сопротивляться, тот умер.
Видела старух, которые совершенно спокойно переносили голод, спокойно могли поделиться последней чечевицей, сухарем, видела таких, кто ничем не делился, ничего не отдавал, наоборот, ел довольно много – все менял, все доставал и все равно умирал.
Так отчетливо запомнила стены домов – они были удивительными, особенно гранитные шлифованные плиты облицовки и мрамор под льдом. Сначала стены покрывались искристым инеем, потом коркой льда, потом еще инеем… Вдруг все это оттаивало, и город становился стеклянным, из окон свисали сталактиты, ледяные водопады, и все это сверкало, змеилось, играло на солнце. Город становился ледяным, он мерцал, как стекла в калейдоскопе. Город был опутан белыми змеями толстых от инея проводов – кто помнит эти провода? Они с каждым днем становились все толще и толще, уже толщиной в руку – так нарастал иней. Сугробы завалили город – и узкие тропки на Невском между ледяными домами и замерзшими троллейбусами. Какое это было зрелище! Какая смертная красота!..
С каждым днем все больше и больше мороза и инея – можно было наблюдать одну стену дома, кусок неба с проводами, одну решетку, которая, казалось, шевелится от инея, будто она живая, ползет и вычерчивает на блеклом небе узор, будто мальчик Кай пишет слово вечность.
Просыпалось утро – темное, холодное, едва начинался день – в изморози, в холодном, желтом тумане, который постепенно розовел, и брезжило солнце, зеркальный шар, круглое зеркальце – оно едва выбивалось из тумана, не рассеивало его, только золотило.
Зима являла свою мощь, свою лютую красоту – она была жестока и прекрасна, она казалась мне снежной королевой в своем плаще: если отвернуть плащ, он заиграет пестрыми лучами, а сверху блестит, как накатанная лыжня.
Этим нельзя было любоваться, это все было страхом запоминания, ужасам смерти, который у меня, тринадцатилетней, должен был остаться в глазах, чтобы после, в тепле и неге роскошного летнего дня, теперь, явиться только красотой.
Весь ужас и (все счастье, смерть и надежда жить – все вместе было в этой зиме.
Апрель – ни капли тепла, ни капли с крыш, все тот же холод, ледяной, застывший туман – и только в конце апреля стена оттаяла и лед стал отваливаться вместе со штукатуркой. Не только снаряды и бомбы – зима рушила дома. Она воевала – почему?
Почему в тот год и в финскую войну зима воевала, лютовала, почему от нее люди гибли больше, чем от голода и бомбежки, почему замерзали люди?
Помню послевоенные сиротские зимы – без снега, без холодов, только дождь и слякоть, только холодная мгла. Бесцветные, серые зимы, посылавшие простуды и кашли, и – те зимы, сверкающие и жестокие.
Овсянников
Помню негромкий разговор тетки и соседки нашей Генриетты:
– …Она приезжала и привезла ему посылку, но знаете, для чего приезжала? Просить развод – и они развелись, кажется. Нашла время для разводов…
– Они всю жизнь разводились, это просто бедствие.
– Наверно, снова не развелись.
– Нет, развелись на этот раз – у нее уже муж есть в Вологде, она ведь там… Какой-то начмед или что-то в этом роде.
– Нет, она сама начмед.
– Ну, значит он начдив.
Тетка и Генриетта усмехались. Они жалели Овсянникова – его жена в такой год, в блокаду, приезжала разводиться. После паузы Генриетта сказала:
– А я знаю, из-за кого они всю жизнь разводились, я ее знаю, ту его Лауру, музыкантшу. Это Нина Анатольевна – вы ее знаете?
– Конечно, – сказала тетка. – Моя сестра училась с ней, они очень давно знакомы, и ее родители были знакомы с моим отцом. Это было семейство прекрасное.
И при этих словах – вдруг – столько лет не виделись! – вошла Нина Анатольевна.
– Боже мой, боже! – сказали обе. – Нина! Мы только что о вас вспоминали.
Нина Анатольевна была еще в хорошем пальто – это было в ноябре, не позже, еще в нарядных туфлях, но уже на голове топорщился какой-то платок, серый платок, подобный рогоже, платок, который после стал вечной формой для всех ленинградцев, серая, бесцветная, тягучая тряпка, – и откуда они взялись в таком количестве, будто их выдавали по карточкам! – все женщины в городе – в ватниках и таких платках, и она уже была в таком платке – сама серая, сникшая, усталая. А она была прежде особенной, легкой, изящной, элегантной дамой, которая мне так была мила, которую я любила втайне – и смущена была когда-то, давно, в первый день знакомства с ней.
Теперь она пришла и села, молчала довольно долго, потом сказала:
– Я получила похоронную, Николай Иванович погиб под Мгой. Их разбомбило. Я слышала давно об этом, но только вчера получила похоронную. И Ваня ведь на фронте и нет вестей…
Ее стали утешать и рассказывать о том, как похоронные бывают ошибочно посланы, ее старались отвлечь, но она была сосредоточена на своем горе и повторяла, качая головой:
– Я виновата, ах, я, я!
Генриетта с теткой переглядывались:
– Ну что вы, что вы, в чем вы виноваты?
– Я плохая была жена, никогда не относилась к Николаю Ивановичу так, как он этого заслуживал, я виновата, и вот он погиб.
Они долго говорили с ней, и постепенно она отошла, даже стала улыбаться, сняла свой платок, и волосы ее, слежавшиеся под платком, снова стали пушистыми, как прежде, когда я не могла надивиться, глядя на нее. Мне так нравилась ее прическа, когда она приходила к нам, встряхивала головой, садилась против света – и светились маленькие подволоски над волосами, будто пушинки одуванчика, а волосы лежали так воздушно, так ловко, как лежали они – мраморные – на мраморных головах греческих богинь, но в ней, в Нине Анатольевне, не было ни греческой красоты линий, ни особенных красок, ни дивных глаз, а была она просто легкая, невесомая, женственная и победная и влекла своей этой победностью так сильно, что даже мы – девочки, и тетка, и Генриетта ощущали ее власть на себе.
Нина Анатольевна была вечной женственностью, влекущей и победной, и даже в ноябре, тогда, в горе, в своем платке, она была еще хороша, все равно хороша. Спустя несколько месяцев она уже не была собой, была просто тенью женщины, была как все – никакая. Индивидуальные качества блокада стирала, смешивала мужчин и женщин, стерла лица, осталось одно лицо для всех – лицо голода и упорства выжить.
Но тогда еще было светло, она согрелась, пила кофе, и тут, будто невзначай, тетка сказала:
– А вы знаете, что Виктор Викторович живет у нас?
И она сразу откликнулась:
– У вас, Виктор Овсянников?
– Да, здесь, – отвернувшись нарочно, будто за полотенцем, подтвердила тетка.
Генриетта глядела в чашку с кофе.
Нина Анатольевна невольно поправила волосы, и этот ее жест был красноречивее всяких слов, но тут же она наклонила голову набок и стряхнула с себя то, что уловили все мы, будто хотела сказать: «Ах, боже мой, до этого мне нет дела. Я могу сейчас стирать грязные бинты в госпитале, могу рыть окопы, во не могу видеть Овсянникова».
Она этого не говорила, но уклонилась от дальнейших разговоров на подобные темы, только спросила:
– А почему он не в армии?
– Он на заводе, его не пускают.
– А он хотел? – мстительно – за мужа, за сына – спросила она.
Генриетта пожала плечами, и разговор прекратился. Нина Анатольевна еще посидела немного и встала, чтобы идти. Ее удерживали и говорили, что надо остаться, но она качала головой: она живет в консерватории, и там дежурства, а идти не так уж далеко – и пошла к дверям, но в дверях буквально столкнулась с Виктором, столкнулась даже неловко, будто нарочно.
Они стояли – и мы все стояли, и ей теперь уже совсем неловко было уйти и оставаться она не могла. Они говорили в передней, потом на лестнице, куда она вышла и он за ней следом. Но скоро он вернулся, вернулся и улыбался.
Когда он вышел за ней, то Генриетта сказала:
– Ах, Ловлас!
– Ловласов слава обветшала, – откликнулась тетка, но вернулся Овсянников, и все замолчали, глядя на него: он невольно улыбался, он, усталый, грузно осевший, уже старый, вдруг осветился, улыбался – он забыл даже спросить, где чечевица.
Вероятно, она сказала ему что-то хорошее, вероятно, она поняла по его виду, что нет нужды теперь играть роль властительницы, что все равны перед голодом и страсти растворяет война и блокада, вероятно, она переломила себя, а может бьггь и она его любила? Он ведь был остряк, и, пожалуй, очень недурен собой, и ему ли было вечно любить ее, хоть и победную?! Но ведь бывает же так, что и победитель побежден своей победительницей. Так или иначе она пришла к нам еще и еще раз, и надо было видеть, как они оба просто и бесхитростно держались друг с другом – им было необходимо видеться.
В те дни шла лихорадка бомбежек, лихорадка эвакуации завода, на котором работал Вик. Вик., как мы его звали. Он пропадал так часто, не возвращался, а она приходила к нам и ждала его, спрашивала его, сидела с нами, и в один вечер, когда уже нельзя было ей идти, пришли дежурные и сказали, что его завод весь разрушен, что там отрывают людей, а завод был близко, и она ушла на завод, туда.
Потом – много раз – в бесконечном однообразии темных дней и ночей, дней без света, в ожидании утра, когда можно идти за хлебом, она и он рассказывали, как все было.
Она пришла на завод и стала помогать растаскивать завал, который был, правда, во дворе завода, но ей казалось, что он там засыпан. Она спрашивала о нем, но никто не отвечал и не знал, где он, и она растаскивала вместе со всеми, как все, раскапывала заваленных под грудой обломков.
Они все работали до утра, почти в темноте, и она, как все, таскала балки, и ей кричал кто-то: «Бери, поднимай!» – и она не узнавала голоса, такой это был чужой, властный, грубый голос, и наконец рассвело и люди вышли из убежища – целыми, а его не было там, но она взглянула на того, кто кричал ей «Бери!», и узнала его. Он кричал ей, а она, до сих пор гордившаяся тем, что по слуху определяла все модуляции голоса великих певцов – когда те пели, в молодости или в старости, в зрелые годы или в юности, – она, она не различила за всю ночь его рядом с собой, его, которого искала…
А потом начались темные, бесконечные дни, и они были рядом – оба без всяких притязаний, без жизни, просто – рядом. Какая ирония судьбы – два человека, которые давно ждали минуты соединения, ждали, шли друг к другу, ошибались и снова ждали, – два человека соединились почти что на небесах, в невесомости голода, холода и блокады, соединились они, он – насмешник и человек почти циничный, она – победительница, очаровательница! – соединились, чтобы все равно остаться врозь.
Но они не погибли, выжили, хотя и расстались в Ташкенте – совсем расстались, как ни жаль мне было, да и тетке и Генриетте тоже – всем нам было жаль, потому что каждый человек, воспитанный на сладких сказках о вечной любви и торжестве добра, ищет эту сказку, этот бродячий сюжет в других, ищет для себя, чтобы утешиться, – он живет в каждом здравомыслящем, трезвом человеке – сюжет счастливой любви.


