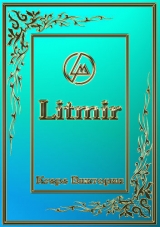
Текст книги "Люба"
Автор книги: Майя Фролова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Глотни, подкрепи свои душевные силы.
Люба глотнула. Вино было сладковатым. Попробовала – ничего страшного, только тепло прилило к ушам. Она протянула бутылку «богу» и взглянула на него. Лицо не показалось таким противным, как тогда во дворе. Он подтолкнул ее к стене, вроде приказал: будь здесь! Люба отошла в тень, встала у стены, а бутылка пошла по кругу: к ней прикладывались, делали глоток, передавали дальше. То и дело отворялась дверь, и кто-нибудь входил в подъезд, волоча сумку с продуктами или ребенка. Бутылка исчезала, в подъезде повисала напряженная тишина, кое-кто отворачивался к стене, чтоб не узнали. Но взрослые торопливо проходили мимо, и было видно, что им неприятно и боязно, и никто не замедлил шага, не вгляделся, не заговорил. Кто-нибудь буркнет под нос, уже войдя в безопасную зону, возле лифта: «Безобразие, опять свет погасили!» – и юрк за дверцы.
На Любу внимания больше не обращали, ни о чем не расспрашивали, но по тому, что бутылка еще раз попала ей в руки, она почувствовала, что ее вроде приняли в «свои».
Кто-то высунулся из подъезда и объявил, что дождь кончился; все потянулись на улицу. Любу никто не позвал, и она осталась одна.
Вернулась домой, сняла злополучные туфли. Заснуть долго не могла: как же к ней теперь будет относиться компания? Ни о чем не расспросили, ни с кем отдельно не познакомили. Просто пожалели из-за дурацкого падения? А может, все же не против, чтоб она была с ними? В одном ведь доме живут, кое-кто и в одном подъезде. Для деревни такие соседи вроде родственников. А тут каждый за закрытой дверью – как в своей деревне.
Слышишь этих людей, да не видишь. Какие у них лица? Если кто на помощь позовет, не будешь знать, к какой двери бежать, кого выручать. А ребята не хотят, как взрослые, в квартирах отсиживаться. Они хотят вместе собираться, у них свои дела, свои разговоры. Вот и сколачиваются компании: по крайней мере – не один.
Как у нее будет дальше с компанией, Люба не знала, но решила, что теперь это зависит от нее самой. Осмелится ли она подойти к ним или так и будет из-за занавески выглядывать?
Нужно осмелиться, нужно! Она же хочет характер воспитать, волю. Вот и воспитывай, момент подходящий.
Люба осмелилась, подошла к лавочкам. Может, потому, что ребят было не густо, в основном девчонки. Подходила несмело, сторонкой. Если скажут что-нибудь грубое, пройдет мимо, вроде и не к ним, а в соседний дом. Но со скамеечки послышалось лениво-равнодушное:
– Привет, Черепаха!
Кто-то подвинулся. Люба села. Все, прозвище уже получила, теперь для всех во дворе она – Черепаха. Ну и что? В компании у каждого прозвище, таков порядок. Раз ей дали прозвище, значит, приняли.
Но все равно она была как бы в сторонке. Чего-то вроде ждала, надеялась, волновалась: как к ее появлению отнесутся «боги», особенно тот, один. А они и не заметили. Глаза ее «бога», как двух других, лениво проскользили по скамейкам: «Привет, Чебурашки!» Взмах руки – со скамейки поднялась высокая девчонка в коротких джинсиках, толстых, в разноцветную полоску «подколенках», как называла бабушка гольфы, кроссовках, коротенькой стеганой безрукавке. Здесь царила своя мода, свой шик, но все это доступно Любе: такие гольфы она свяжет запросто, безрукавочку выстегать ей тоже легко, вот кроссовки – сложнее, их надо покупать, да и не достанешь, в «моду вошли. Что модно, того и не купишь.
Легкая, длинноногая девчонка – Люба ее давно приметила, про себя называла «Балерина», – привычно надела шлем, обхватила «бога» руками – плеснулись из-под шлема светлым парусом волосы, и они умчались в синие сумерки.
Девчонки на скамейках завистливо замерли. Выходит, и здесь, как в классе, не все равны, и здесь кого-то выделяют, катают с ветерком, кто-то распоряжается, выбирает. А кто-то лишь обрамляет собой «выдающихся», ждет своей очереди, да, видно, не дождется. Зачем ей в таком случае компания, где она будет чувствовать себя той же серой мышкой, что и в классе? Опять ни с кем не познакомилась, из обрывков фраз уловила только, что девчонку, которую умчал на мопеде «бог», зовут Анжелой, а прозвище – Барахолка. При таком-то имени, при такой-то внешности – Барахолка? Тогда уж Черепаха – совсем не обидно.
На другой вечер ее снова потянуло к скамеечкам. Ей вроде хотелось что-то постигнуть: то ли ребят этих, то ли себя возле них. Что их сплотило, почему им вместе интересно, почему ее тянет к ним? Почему они так равнодушны к ней? Придет – подвинутся, уйдет – никто не окликнет, не остановит. Иногда Анжела (язык у Любы все же не поворачивался назвать ее Барахолкой), снизойдя, небрежно бросала «богу»: «Проветри, засиделась», – кивала на какую-нибудь девчонку. «Бог» не возражал, девчонка надевала шлем, громоздилась на сиденье, страху никто не выказывал, никто не пищал, никто не отказывался от лихой езды, а Люба думала: вдруг ей кивнут, что тогда? Действительно, один раз «бог» кивнул ей:
– Садись, Черепаха, прокачу с ветерком, это тебе не виражи в вестибюле делать.
Все опять засмеялись, а она на какое-то время оказалась в центре внимания. Но сесть на мопед не могла – в колготках, в платье. Униженно пролепетала:
– Мне нужно переодеться, – хотя прекрасно знала, что переодеться не во что. Но после этого показываться в компании без брюк нельзя.
В тот же вечер принялась кроить вельвет, опять же от бабушки подарок – понимает бабушка свою внучку! Брюки получились отличные, суженные книзу, слегка с напуском, сверху мягкие защипы. Люба крутилась перед зеркалом, Аллочка восхищалась ее умелыми руками, брюки ей тоже очень нравились.
– Эх, сюда бы еще «лейблочку»! – воскликнула Люба, похлопав по карману.
И опомниться не успела, как взяла Алла лезвие и начала отпарывать фирменную этикетку со своей джинсовой юбки.
– Зачем? – вяло протестовала Люба. – Все равно видно, что не фирмовые. – Но очень ей хотелось появиться перед компанией в брюках с этикеткой. Шитые ли, купленные ли втридорога у спекулянтов, не так уже важно: лейбла затмит глаза, самое важное – она.
Люба надпорола карман, аккуратно встрочила черную полоску с золотыми, такими авторитетными и желанными буковками. Маленькая деталь преобразила брюки. Теперь-то уже она прокатится с ветерком, преодолеет страх перед скоростью и ненадежностью мопеда? Она бросилась целовать Аллочку, но та отстранилась, сказала неожиданно:
– Не ходи к ним, Люба, зачем они тебе?
– А я и не для них вовсе… – растерялась Люба. Значит, Аллочка приметила ее сиденье на лавочке с компанией.
Мама недовольно ворчала: куда это ты повадилась по вечерам? Аллочка звонила, спрашивала, где ты. А ты умелась из дома – и ни звука. Кончай мне эти гулянки!
Люба взорвалась:
– Хватит, насиделась дома! И к Аллочке вашей я не привязана, чтоб из-за нее каждый вечер дома сидеть!
– Что ты говоришь, Люба? – удивилась мама.
– А что? – сорвалась-покатилась Люба. – Не маленькая я уже в девять часов спать ложиться! Не заметили, что выросла? Вон ребята и девчонки не взрослее меня до одиннадцати во дворе гуляют.
– Не сметь! – почти взвизгнула мама, и лицо ее пошло пятнами. – Не вздумай в компанию эту затесаться, люди про них такое говорят – слушать страшно.
– А ты и не слушай! Нормальная компания, мне нравится. – Люба не могла унять свое раздражение.
– Получишь! – вместо мамы коротко сказал отец и выразительно положил свои большие руки на стол.
– Бить будете, что ли?
– Заслужишь, так и получишь! – Высказавшись, отец на Любу больше не смотрел, уткнулся в газету. Люба обиженно пошла в свою комнату.
– Смотри, Люба, не ерепенься. Отец молчит до поры до времени, а уж сорвется – не остановишь, – предупредила мать.

Люба чувствовала: есть в компании нечто, куда она не допущена. Как понять, как проникнуть в это «нечто»? С Аллочкой тоже отношения стали напряженными. Сколько мечтала о подруге, а появилась – и ты от нее уже зависишь.
Ясно, что до высшего уровня в компании ей не дотянуть. Чем там они занимаются, когда она в свое «детское» время уходит домой, ей еще не ясно, но ясно, что компания требует денег, а их у Любы нет и быть не может.
Во-первых, все девчонки в компании красятся. Не будешь краситься – вот ты и хуже других. Но один тональный крем – три рубля. Люба потолкалась у парфюмерного прилавка и очень реально себе это уяснила. Дешевенькую помаду, за рубль, все же купила. Брови можно подвести черным карандашом, щеки подрумянить той же помадой, на пальце растереть и слегка коснуться щек.
Когда она все это проделала перед зеркалом, то поняла, для чего придумали косметику. На ее бесцветном, однотонном лице сразу выделились губы, у них, оказывается, совсем неплохая форма. И брови ничего – ровными, слегка утолщенным к переносице полосками, выщипывать не нужно.
В компании ее стараний не заметили: здесь все красились ярко. Думала, возвращаясь домой, губы и брови вытереть платочком, но забыла и сразу налетела на мамин негодующий вопрос:
– Это еще что за новости?
Люба решила защищаться: вон и в классе девчонки подкрашиваются, слепая мама, не видит, что ли? Сказала вызывающе:
– Между прочим, и тебе не мешало бы косметикой пользоваться. Погляди на свое лицо. Можешь ты себе хотя бы помаду да карандаш для бровей купить?
– Мне, может, и не помешало бы, возраст, – вдруг согласилась мама, – а тебе для чего лицо молодое портить?
Люба потащила маму в свою комнату, усадила на стул под лампочкой. Почувствовала себя не дочкой, а старшей подругой. И мама вдруг расслабилась, подчинилась, покорно подставила лицо.
– А ты у меня ничего, мамулька! – сказала Люба ободряюще, стараясь отогнать вдруг нахлынувшую щемящую нежность к матери.
Лицо у мамы еще не старое, доброе, наверное, ее любят дети, с которыми она занимается. Добрый человек – для других, к себе же безразличен, это тоже на лице написано. Красивое бы платье маме, прическу, эту самую косметику и немножко уверенности.
Подкрашивая, Люба в маминых чертах находила что-то свое: те же губы с ямочками, ровненькие бровки. Эх, крему бы тонального, затушевать усталость, бледность, немного розовой смуглоты на щеки, шею.
– Мамочка, купи крему тонального! – жалобно попросила она. – Очень нужен!
– А сколько стоит? – соглашаясь, спросила мама.
– Три рубля.
Мама только вздохнула.
Люба поднесла к ее лицу зеркало – гляди. Мама не просто смотрела на себя, она себя осматривал; каким-то особым женским взглядом, какого раньше Люба у нее не примечала.
В комнату заглянул отец.
– Вы что тут делаете?
Мама испуганно прикрыла лицо зеркалом, но Люба отняла зеркало, подняла маму со стула, подвела к отцу, спросила задорно:
– Узнаешь свою жену? То-то… Между прочим, мог бы маме и помаду импортную подарить, и духи хорошие. Чем мама хуже других?
– Кто сказал, что хуже? А если помада нужна или духи какие, пусть сама купит. Деньгам она хозяйка…
Люба решила из пуха, который бабушка начешет с козы в этом году, связать не кофточку ажурную для себя, как собиралась, а косынку маме на плечи, пушистую, с зубчиками, – белое всем к лицу, пусть ее мама покрасуется. Бабушка права: своими руками все-таки можно кое-что сделать.
Этот вечер только на мгновение сблизил Любу с мамой, порыв незнакомой ей прежде нежности испарился. В доме шла привычная жизнь: родители – сами по себе, Люба – сама по себе. Ежевечернее сидение с компанией – хоть на краешке, хоть часок! – стало потребностью. Люба все не могла понять, чего же не хватает в ней, почему она до сих пор для компании чужая. Не гонят, не обижают, иногда просто не заметят. Если бы не уходить ей так рано!
И вдруг повезло: родителей пригласили на какое-то торжество в заводской Дом культуры, пойти нужно было обязательно, так как отца собирались чем-то там наградить. Любе наказали не скучать, позвать Аллочку. Пообещала, но звать Аллочку не стала. Вот он, долгожданный вечер свободы, наконец-то ей не нужно мчаться домой к девяти, наконец-то она проведет с компанией весь вечер!
Она идет со всеми вдоль шоссе, правда, сбоку и немного сзади, но идет, и это главное. По ту сторону шоссе – жилой массив, их громадина дом как сверкающий зигзаг молнии, вокруг него дома-башни еще повыше. По эту сторону, где вышагивает компания, сразу от тротуара начинается огромный сад, оставшийся от совхоза, отброшенного разрастающейся столицей. Видно, сад собирались сделать парком: и аллеи проложены, и скамеечки поставлены, матово блестят фонари, но пока это доброе намерение охватило лишь прилегающий к цивилизации район, а дальше шли заросли, буераки.
Компания направлялась к неосвещенным дебрям, по пути приветствуя другие компании, клубящиеся вокруг лавочек: здесь друг друга знали, соблюдали правила общения. Законное место Любиной компании было свободно: четыре скамейки с гнутыми ножками, удобными спинками, задвинутые в тень раскидистой яблони.
Расселись, по кругу пошла бутылка с вином и пачка сигарет. У Любы не было желания пить. Но бутылка, переходя из рук в руки, вроде бы связывала их, соединяла. Все делались похожими: крикливыми, хвастливыми, что-то менялось в лицах, и лица эти не нравились Любе. Не хотелось, чтоб и она кому-то виделась такой – с глупой ухмылочкой, крикливым ртом, неуправляемыми руками… Но, выпив пару глотков, она уже не думала о том, как выглядит со стороны, веселилась вместе со всеми. А вот сигарету не брала. Может, и смогла бы закурить, не закашляться – все же немного потренировалась дома, а здесь ведь курили не дешевую «Приму» – импортные, те самые, что по полтора рубля пачка. Подумала: кто-то эти сигареты и вино покупал, платил за них, все брали легко, независимо.
Люба деньги уважала, доставались они не просто – хоть в бабушкином хозяйстве, хоть на работе у родителей – требовались труд и время. Видела она, конечно, и в школе, что у ребят деньги водятся и тратятся беспечно: на мороженое, пирожные, на те же сигареты. Сама Люба могла покупать лишь то, без чего не обойтись: книгу для занятий, готовальню, тетради. В кино сходить или в театр, если культпоход, ей тоже давали.
Водились деньги и у Аллочки, но ведь она в доме за хозяйку, ей и то купить нужно, и другое, Люба не замечала, чтоб Аллочка швырялась деньгами впустую.
Разговор в парке был более откровенный и громкий, чем во дворе, где все же оглядывались на окна и проходивших мимо взрослых. Говорили о дисках, обсуждали какую-то драку, последнее кино, детектив с выстрелами и ревущими мотоциклами, жестокими мужчинами, затянутыми в кожу, – тот же шлем, очки вместо лица. Как видно, это было идеалом компании – сила, скорость, беспощадный удар, чтоб смести с дороги препятствие, даже если это человек. В пылу разговора употреблялись хамские, привычные здесь словечки, они били Любу по ушам, но она подхихикивала, как все. Неловко, а не остановишься: рот уже независимо от тебя растягивается в ухмылку.
Вскоре Любе снова повезло: родители уехали к бабушке на субботу и воскресенье за картошкой и прочими припасами, дровишек напилить-наколоть, сена привезти с дальнего покоса. В другой раз Люба и сама рвалась бы с родителями: с друзьями старинными повидаться, помериться, кто как вырос да поумнел, на теплой печке, где каждая трещинка в трубе знакома, лениво поваляться, козу Туську старинным деревянным гребнем вычесывать, пироги с бабушкой затеять, кидать березовые чурки в пылающую печь, чтоб живое пламя опаляло лицо… Но будет ли еще такая возможность – на два дня бесконтрольно дома одной остаться?
Люба поняла: компания требует определенного уровня – знания дисков с записями модных ансамблей, умения легко включаться в разговор, острословить, быстро среагировать на чью-то реплику, ответить, не обижаясь на грубость. А главное, нужны деньги, хотя бы на мелочи: пепси, фанту, мороженое, сигареты. А игровые автоматы… Можно один раз, другой сделать вид, что случайно оказалась без денег, а дальше?..
Компания вынуждала к активности, иначе так и будешь в вечной униженности. Где взять денег? Попросить у бабушки? Но бабушка и так отдает все, что может. А где берут другие? Потершись около компании, она и об этом узнала. Самый примитивный и непопулярный способ, доступный в основном мальчишкам, – подбирать бутылки под кустами и в подъездах домов, разгружать вагоны. Но этот примитив для тех, кто не умеет проворачивать других делишек. Компания занималась перепродажей каких-то вещей (не отсюда ли и прозвище Анжелы?), какие-то общие деньги связывали лидеров, какие-то дела, в которые Люба не была посвящена.
А ей этого и не нужно. Рада, что с краешку прилепилась, не гонят. Но без денег плохо, тут даже с краешку не продержишься долго. Что же делать? Чтоб хоть какая-то мелочь звенела в кармане, Люба и в кино перестала ходить, завтраки себе покупать. Хоть двадцать-тридцать копеек швырнуть в фасонную шапочку, когда на бутылку складываются, – все же какое-то право возникает быть при них.
Не каждый вечер Люба во двор выходит, нужно ведь и пошить, и повязать, никто для нее нарядов не припас. Безрукавочку себе выстегала по всем правилам, на груди ромбики цветной шерстью прошила, пушистые кисточки на шнурочках прицепила. Даже Анжела пару раз взглядом любопытным по Любе прошлась, обнову приметила.
К юбке бахрому кружевную вывязала, гольфы толстые, пестрыми кольцами связала. Не фирма, конечно, но вязание с красивыми узорами всегда в моде. В такие вечера, когда дома делом занималась, звонила Аллочке, та приходила, вместе вышивали, мама подсаживалась, говорили о том о сем, никаких претензий Аллочка Любе не высказывала, но была сдержанна, разговаривала в основном с мамой. Люба испытывала неловкость перед подругой, злилась, мысленно оправдывалась: почему она должна проводить все время с Аллочкой? Ее интересуют и другие девочки и ребята, пусть бы и Аллочка шла с нею к ним. Но представить Аллочку в компании, слушающей все эти разговоры и шуточки, отпивающей из бутылки свой глоток, шаркающей лениво по тротуару, небрежно расталкивая прохожих, было невозможно.
А Любе уже нравится видеть, что кто-то и ее опасается, обходит, уступает дорогу только потому, что она при компании. Шла бы одна – кто бы ее заметил, кто бы шарахался в сторону? Сама шарахалась бы от каждой встречной тени. Пожалуй, это было главное, что держало Любу при компании, – появившаяся уверенность в себе. Люба смело, насмешливо смотрела в лица прохожих, с удовольствием ловила во взглядах испуг, намеренно выставляла локоть – задеть, толкнуть…
Как-то, ввалившись в игровой зал, возбужденная вином, прогулкой по бульвару, где при их появлении со скамеечек испуганно взметались парочки, компания победоносно оккупировала автоматы.
…Люба почувствовала чей-то взгляд, подняла голову, увидела по ту сторону автомата насмешливые глаза, ослепительные зубы: школьная «троица» со свитой мальчишек. Люба поспешно нажала рычаги автомата – мимо. Больше монеток нет, нужно отходить, уступать другим. А другие – это «троица», они уже направляются к Любе: отодвинься. Опять ее, бесхарактерную тетерю, унизили. И кто? Все та же ненавистная «троица», которая отравляет жизнь в классе.
«Троица», однако, приметив Любину компанию, не храбрилась тоже. Хотя и в окружении мальчишек, заоглядывались, быстро перешли на освещенный многолюдный тротуар, юркнули в подъезд.
На следующий день в классе Люба демонстративно направилась к своему месту по тому проходу, где «троица» что-то горячо обсуждала. Люба подошла, остановилась сзади. Пусть будут ей благодарны, что вчера она прикинулась, будто они ей незнакомы, а то «боги» сбили бы с них спесь.
Люба прошагала к своему месту, вскинув голову, напружинив плечи – не горбиться! Спина ее, затылок были очень выразительными: и впредь уступайте! Видели вчера? Поняли?
– Лучше уступить, ведь эти, вчерашние, еще и с четверенек не поднялись. Человеческим языком не объяснишься, – произнес вполголоса кто-то из «троицы».
По классу прошелестело, что Люба «в той компании». На доске кто-то написал: «Рожнова получила рожно». Плевать! Раньше не замечали, хоть разбейся, теперь заметили, всполошились. Им-то какое дело, в какой она компании!
По дороге из школы у них с Аллочкой произошел неприятный разговор.
– Когда придешь домой, посмотри на себя внимательно в зеркало, – сказала Аллочка.
– А что? – Люба испуганно тронула лицо.
– У тебя в лице появилось нечто нахальное.
– Ну и что? Тихоней разве лучше быть?
– Может, и не лучше, только ты такая мне не нравишься.
– Не нравлюсь? Ну и не надо. Ты мне тоже, может быть, не нравишься!
Аллочка ничего не ответила, замедлила шаг, отстала. Распаленная Люба почти бежала. Подумаешь, лицо нахальное, не нравится ей! Ну и пусть не ходит, сидит в своей шикарно квартире одна, а Любе теперь не скучно, у нее друзья.
Друзья? Ни к кому бы из компании этого слова не приложила, он там не произносилось, там царствовало другое – «свой». И опять сомнение: свои ли они для нее? А она им своя?
Люба даже рассердилась на себя: почему она не может жить легко просто, как другие? Вся перекорежилась от разных мыслей и сомнений.

Компания была чем-то взволнована, что-то явно замышлялось. «Боги» со своими девчонками отходили к кустам, шептались, смотрели на часы. Но остальных не посвящали.
Появилась бутылочка. Люба приложилась тоже: подумаешь, один глоток! Для веселья выпить не страшно, а даже нужно: перестаешь стесняться неизвестно чего, забываешь, что ты некрасивая или в одежде у тебя что-то не так. После бутылочки рассиживаться на скамейке не стали, поднялись, пошли гурьбой. По тому, что шли быстрее обычного, было ясно, что впереди какая-то цель, какое-то событие.
И действительно, направились не по знакомому маршруту – на бульвар, к кинотеатру, – а в жилой массив. Прошли мимо светящихся башен-домов и оказались в более уединенном и затемненном месте: школа с темными окнами, рядом детский садик и ясли.
В детском саду и яслях часть окон была освещена, но задернута шторами. Здесь работала Любина мама, и Люба знала, что детишек, которые живут в детском саду круглосуточно, уже уложили спать, нянечки убирают комнаты. Любина мама, чтоб подработать, иногда подменяла ночную няню, и раньше Люба частенько заглядывала в детский сад, возилась с ребятишками, помогала укладывать, приводить в порядок их шкафчики, наклеивать в альбомы рисунки.
А сейчас Люба стоит за забором, как разбойник, прячется за куст, вздрагивает от каждого шороха. Ее поставили здесь и наказали смотреть во все глаза и во все стороны. Если кто-то появится, она должна прошмыгнуть к другому такому же караульщику у калитки, а тот передаст об опасности дальше.
Что же они там затеяли? Почему не объяснили, а взяли за шиворот – карауль! Все-таки она человек, уважать надо. Если бы поставили караулить у какого-нибудь магазина или ларька, было бы понятно: пошли грабить. А что брать у детишек в детском саду? Что там интересного?
Мимо быстро прошагала Анжела, махнула: выходи, все в порядке. Возбужденные, веселые, снова сошлись на скамеечках, но Любе уже некогда было вникать в намеки на какие-то события, она и так задержалась дольше обычного, что дома говорить, как объяснять – неизвестно. Когда она поднялась, чтоб уйти, к ней подошел «бог», протянул какую-то бумажку.
– Возьми. Заработала честно.
На ощупь Люба поняла: деньги. В подъезде разглядела – рубль. За что? Может, ее просто испытывали, хотели поглядеть, не сбежит ли, не струсит? Но разве за это платят?
Рубль спрятала, дверь открыла своим ключом, стараясь не греметь: авось удастся проскользнуть без объяснений. В комнате родителей горел свет, но никто не вышел. Обрадованная Люба, переодевшись в халат и тапочки в своей комнате, уселась на деревянном диванчике в кухне, поджав ноги, с книгой на коленях, будто давно тут сидит, читает.
Отец вышел с сигаретой в руке. Хмуро спросил:
– Ты что стала приходить так поздно?
Люба общалась с отцом в основном через маму и знала, что объяснять нужно не ему, а ей. Поэтому не ответила, спросила сама:
– Мама уже легла?
– На работе, – буркнул отец. – Заболел кто-то, просили подменить.
А если бы мама увидела ее в кустах возле забора? – испугалась Люба. Совсем рядышком были… А вдруг «боги» со своими подружками обидели маму, пока Люба стояла «на карауле»? Да нет, не может быть, все было тихо… И все же зародилось беспокойство, вроде стала причастна к какой-то беде, вдруг нависшей над их домом.
Долго сидела впустую над книгой, все ждала от мамы звонка. Но звонка не было. Значит, все в порядке, успокоила себя Люба и пошла спать.
В школу ушла, так и не повидав маму. А, вернувшись, застала ее в слезах. Мама уже наплакалась одна, ей хотелось выговориться, и, как только Люба открыла дверь, мама заговорила, выходя из кухни, всхлипывая, как девочка:
– Представляешь, вчера какой-то мерзавец залез в окно подсобки, пока мы убирались в комнатах, и выгреб из наших сумок все деньги. А вчера был аванс, и за переработку мне начислили!
Люба уронила сумку с книгами, уткнулась матери в плечо – спрятать лицо, укрыться от всего несправедливого и пакостного, что обрушилось на нее.
Так вот из каких денег ей выделили «честно заработанный» рубль! Вот откуда у них деньги, которые они тратят так бездумно! Пошарили, разнюхали, вытащили. Им что, они не работают, не знают, как зарабатывает мама да другие нянечки – сколько там в детском саду платят. С детьми тяжело, да еще ночные дежурства…
Люба достала рубль, порвала на мелкие клочки, бросила в унитаз и спустила воду. С компанией покончено!
Но через несколько дней ее встретил у школы «бог» с мопедом. Ожидал у ворот, кивнул – садись. И она села на глазах у ошарашенных одноклассников, повесив сумку с книгами через плечо, обхватила «бога» за талию, гордо откинула голову.
Мопед не вилял, «бог» вел его осторожно: понимал, что она – впервые и ей слететь на землю перед всей школой нельзя. Не для того ведь он за нею приехал. А для чего?
Это выяснилось скоро. «Бог» привез ее к скамейкам под яблоней. Законное место их компании было таким нечистым, загаженным окурками, конфетными обертками, пробками от бутылок, что Люба содрогнулась от отвращения. «Бог» поднял очки на шлем, на лице его играла привычная ухмылочка.
– Почему не приходила? – Он злобно выкатил на нее глазищи с белесыми ресницами.
Люба опустила глаза в землю, неопределенно пожала плечами. Было ей очень неуютно наедине с «богом» в безлюдном месте.
– Ходи, а то подумаем, что продала нас…
Эти безобидные слова, сказанные обычным голосом, таили реальную угрозу. Противиться Люба не сможет, придется ходить, куда денешься, порвать и уйти не хватит характера.
– Приду, – ответила Люба, так и не подняв глаз. – Дома у нас… неприятности.
Но ее «неприятности» бога не интересовали. Крутнулся на мопеде и умчал, оставив Любу одну в ненавистном ей теперь месте.
Домой идти не хотелось, не покидало чувство вины, и не только потому, что стояла «на стреме», пока там кто-то шарил по сумкам, а потому, что не могла сказать, кто это сделал. Милиция, конечно, тоже не сообразила, мало ли сомнительных компаний шатается по микрорайону. Может, и таскали кого-нибудь в детскую комнату, но маминых денег не вернули…
Теперь она старалась изо всех сил, от всей домашней работы освобождала маму. Родители не переставали возмущаться, негодовать на милицию. Люба должна была поддакивать им, возмущаться тоже. Чувствовала себя так, будто сама украла эти деньги, жалела маму, которая не столько о деньгах горевала, а переживала все как личную обиду, оскорбление.
– В душу наплевали, мерзавцы. И кто только воспитывает таких? Ясно, что мальчишка залез, взрослый в то окошко не протиснется. И сообразил ведь, что аванс получили, есть чем поживиться!
Что было бы, если бы мама знала, кто стоял за кустами, кто караулил! Любе становилось то жарко, то холодно. Наверное, Мокрица в окошко пролез, есть в компании такой тонкий да длинный.
Отец успокаивал маму:
– Будет тебе убиваться, переживем.
– Переживем, конечно, – соглашалась мама, – но обидно!
Люба слов для утешения не находила. Впервые в жизни испытывала настоящий стыд и угрызения совести. Все, что мучило ее до сих пор, оказывается, пустяки. Хорошо, что люди не научились чужие мысли читать. Не видят, не знают ее родители: через семью пролегла глубокая трещина. Они – по одну сторону, дочь – по другую. Лишила она себя права переживать боль и беду вместе с ними.
Был момент, когда Люба готова была броситься к маме, рассказать, покаяться, но – удержалась и тут же испугалась своего порыва: метнет! Ведь это не только ее касается, придется выдать компанию, родители побегут в милицию, и такое заварится! Три дня не показывалась в компании, и то «бог» вон какие глазищи ненавистные на нее выкатил…
Сегодня придется идти, отсиживать пару часов на краю скамеечки. И вино глотать, купленное на деньги, украденные у ее матери.
Компания уже веселилась под яблоней. Любу приветствовали традиционно: «Привет, Черепаха!» – два-три голоса, остальные не прерывали своих разговоров.
У компании было любимое развлечение – травля парочек. Люба еще ни разу не участвовала в этом, только слышала про такую забаву. Теперь парочки не загуливаются до темноты в саду, предпочитают освещенные скамеечки на аллеях поближе к шоссе. Но вдруг двое вышли из темноты. Шли, держась за руки, тесно прижавшись плечом к плечу. Светлел шарфик на шее у девушки да белые полоски кроссовок.
Нет, не удастся им пройти незамеченными. Компания уже увидела их, затаилась, подпуская ближе. Люба знала, как все это произойдет. Парня оторвут от девушки, будут держать их за руки на небольшом расстоянии и унижать на глазах друг у друга: парня – поколачивать, девушку – щекотать, щипать, расстегнут куртку, заглянут, что под ней.
Парень и девушка будут просить, уговаривать: не трогайте, мы же вас не трогаем, не мешаем. Если есть деньги, протянут сами на ладошке: возьмите да отпустите. Но деньги у них без того выгребут, а ребят отпустят, только когда надоест забава. Дадут обоим пинка, предупредив, чтоб не забредали в эту сторону. И они побегут, спотыкаясь, под гогот и выкрики веселящейся братии, часто – в разные стороны, позабыв друг о друге.
Но эти не просили, не унижались. Парень, хоть и тоненький и невысокого роста, оказался сильным и ловким. Будь он один, стряхнул бы с себя наглые руки и врезал как следует, но он норовил оградить, защитить девушку, дать ей возможность убежать, даже крикнул: беги!
Она не побежала, не могла его оставить, тоже думала не о себе. Вцеплялась в волосы, царапалась, пиналась, хватала за куртки – оттащить от него.
Забава превратилась в настоящую драку, все распалились. Анжела сорвала с девушки шарфик, повязала себе на голову, концы болтались у глаз, она кружилась, выкрикивая что-то невразумительное, хватала девушку за волосы, плевала на оголяющуюся шею. Девушка мотала головой, вырывалась, поднимая голову, пытаясь разглядеть, что там вытворяют с парнем. И здесь, в этой злобной толпе, старающейся пообидней унизить их, они видели только друг друга. То, что соединяло их, возносило их над всеми.








