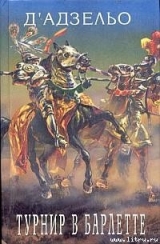
Текст книги "Этторе Фьерамоска, или турнир в Барлетте"
Автор книги: Массимо д'Азельо
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Но терраса уже опустела, а в зале все были поглощены празднеством, и никто даже не выглянул чтобы узнать, кто была несчастная, взывавшая о помощи.
Пока в крепости происходили все эти события лодка с Фьерамоской и его друзьями, подгоняемая семью сильными гребцами, летела, рассекая волны, по направлению к монастырю, а за ней тянулась длинная пенистая полоса. Видя, что Этторе изо всех сил налегает на весла, Бранкалеоне решительно сказал:
– Вот что, Этторе: я не знаю, куда ты нас везешь, но одно мне ясно – речь идет не о пустяках, а в таком случае мало будет нам проку от этих кольчуг, если они будут попусту валяться на дне лодки.
Друзья согласились с ним и стали по очереди надевать доспехи, следя за тем, чтобы только одна пара весел бездействовала, пока гребец вооружался. Они пристегнули к поясу мечи и надели на голову легкие железные шлемы, а потом с еще большим жаром взялись за весла, не спуская глаз с морского простора, где вот-вот могли показаться враги.
Дорогой Этторе бессвязно рассказал товарищам, зачем ему потребовалась их помощь; внезапно невдалеке они заметили какую-то лодку и тотчас направились к ней; подойдя несколько ближе, они увидели, что лодка идет на одной только паре весел, неторопливо держа путь в сторону Барлетты. Чтобы не терять времени, друзья не стали рассматривать сидевшего в лодке человека и снова повернули к монастырю. Иниго советовал все же подплыть к этому гребцу к расспросить, встретился ли ему кто-нибудь на пути, но Этторе. не разрешил. Назначенный час уже прошел, и он почти не надеялся, что они застанут тех, кого искали. А между тем, послушайся он совета Иниго, сколько бед они могли бы избежать!
Постепенно перед их глазами вырастал монастырь святой Урсулы. Фьерамоска, не сводивший с него взгляда, видел, что ни одно окно не освещено. Вдруг слева, на расстоянии двух выстрелов из аркебузы, показалась длинная и низкая лодка, летевшая как ласточка, едва касаясь воды. Этторе, Иниго и Бранкалеоне одновременно прошептали: «Вот они!» – и, повернув, удвоили усилия.
Чужая лодка словно разгадала их намерения и стала быстро уходить, но у преследователей, казалось утроились силы; расстояние между лодками заметно сокращалось; уже можно было разобрать, что говорят гребцы; уже Фьерамоска, приподнявшись сколько мог, не выпуская весел, разглядел женщину, распростертую на корме, под охраной двух людей и закричал: «Негодяи!». И крик его эхом отозвался в стенах монастыря.
– Вперед, вперед греби, налегай, – повторяли все трое, стиснув зубы, в невероятном волнении. Но вот уже нос их лодки ударился о вражескую корму. С быстротой молнии Этторе бросил весла и, взмахнув мечом, бросился на врагов, которые ждали наготове с оружием в руках. Прыгнув, он невольно оттолкнул свою лодку, и она немного отстала. Поэтому Этторе остался одни, и тотчас же на его грудь и голову посыпались удары, от которых его, однако, защищали кольчуга и шлем.
Друзья увидели, что ему грозит опасность, и немедленно присоединились к нему. Пьетраччо, стоявший ближе всех, прыгнул вторым, но едва он оказался там, где рассчитывал застать Валентино, как его ударили по голове веслом с такой силой, что он упал замертво.
Иниго и Бранкалеоне дрались плечом к плечу с Этторе, но в тесноте, как бы искусно они ни владели мечом, они не в состоянии были нанести врагам большой урон и сами не очень могли от них пострадать, так как стояли вплотную к ним в узкой лодке. И те и другие с невероятной быстротой кололи и рубили, наносили и отражали удары, а лодка в этой сумятице так раскачивалась, что казалось, сейчас перевернется.
Товарищи Пьетраччо не могли принять участия в этом сражении оттого, что лодка в ширину вмещала не более трех человек. Однако они все же не оказались лишними. Они подхватили лежавшую на корме женщину и на руках перенесли ее в свою лодку. Когда трое друзей заметили это, они по приказу, отданному вполголоса Бранкалеоне, понемногу стали отступать, а затем, внезапно прыгнув в свою лодку, оттолкнули неприятельскую. Если б Этторе узнал среди врагов Валентино, он не вышел бы так быстро из игры, но убедившись, что его здесь нет, он понял, что герцог на этот раз послал на опасное дело только своих наемников, и счел недостойным пачкаться в их крови. К тому же, коль скоро Джиневра была уже в безопасности (по крайней мере так ему казалось), ему хотелось ее поскорее успокоить. Но дон Микеле пришел в ярость, когда понял, что все его хлопоты пропали даром, раз он не сумел в начале схватки спрятать женщину на носу лодки; однако дело было уже сделано, и он отлично понимал, что пытаться отнять добычу у этих отважных юношей – все равно что черпать воду решетом. Все же приспешник Валентино не мог примириться со своей неудачей, не отомстив за нее. Пока трое друзей отступали к своей лодке, он бросился на них с мечом в правой руке и кинжалом в левой; он осыпал ударами Фьерамоску, оставшегося последним, и когда тот уже перелезал через борт, дон Микеле слегка оцарапал ему кинжалом шею; в пылу боя Этторе этого не почувствовал.
Лодки разошлись, каждая в свою сторону: одна продолжала свой путь в Барлетту, другая – к монастырю.
Женщина была завернута в покрывало. Фьерамоска, все еще тяжело дыша, усадил ее возможно удобнее и развернул скрывавшую ее ткань. Но вместо Джиневры он увидел Зораиду, лишившуюся чувств. В другое время Этторе поблагодарил бы небо за ее спасение, но сейчас он понял, что ничего не достиг, в то время как думал, что уже находится у цели. Что же сталось с Джиневрой? Как очутилась тут Зораида? Он вздохнул, ударил себя кулаком по лбу и снова, принялся торопить товарищей, которых удивил его расстроенный вид: они не подозревали о происшедшей ошибке. Спустя несколько мгновений они уже были на острове, и Этторе вихрем взбежал по лестнице, ведущей в комнату Джиневры; дверь была не заперта, комната пуста, а в монастыре и на острове царила полнейшая тишина. Он вышел, желая скорее узнать, что случилось, и увидел, что друзья ждут его в прихожей, поддерживая Зораиду, которая уже пришла в себя. На все расспросы встревоженного Фьерамоски она могла ответить лишь следующее: часов около одиннадцати к ней в комнату ворвались несколько человек разбудили ее, завернули в покрывало и снесли в лодку. Больше она ничего не помнила; о Джиневре ей ничего не было известно, – она не видела ее со вчерашнего дня; она только заметила, что та необычайно грустна, решила не мешать ей и в обычный час пошла спать, не простившись с ней.
Этторе выслушал этот рассказ стоя, не сводя глаз с Зораиды; по мере того как она говорила, он постепенно менялся в лице, побледнел и осунулся; в конце концов ему пришлось сесть, и когда он попытался встать, колени его подогнулись. Между тем один из его друзей постучался в ворота монастыря, разбудил Дженнаро и вернулся со свечой. Бранкалеоне и Иниго были поражены страшной переменой, происшедшей за несколько мгновений в лице Фьерамоски и приписали ее усталости и душевному потрясению. Он вторично попробовал подняться, но силы окончательно покинули его; он упал на стул, откинув назад голову и сказал не своим голосом:
– Бранкалеоне! Иниго! Никогда в жизни мне еще не было так худо: я не в силах перышко поднять, не то что меч. Время летит. Что станется с Джиневрой? Если бы ко мне хоть на час вернулась прежняя сила! А потом – пусть я рассыплюсь в прах! Прошу вас, дорогие мои друзья, не теряйте ни одного мгновения… ступайте… сам не знаю куда… Возвращайтесь в Барлетту, отыщите, спасите ее во что бы то ни стало. Боже милосердный! А я и шагу не могу сделать ради нее!..
Он снова попытался привстать, но безуспешно, и опять стал с еще большим жаром умолять друзей оставить его и поспешить на помощь Джиневре; он уговаривал их так настойчиво, что они решили не терять времени на разговоры и простились с ним, пообещав вернуться как можно скорее с какими-нибудь известиями; не медля ни минуты, они вышли в море, держа путь к городу.
Меж тем встревоженная Зораида старалась помочь своему спасителю самыми нежными и ласковыми словами и поступками. Она сняла с него шлем и принялась с трудом стаскивать кольчугу. Наконец это удалось ей, и тут, стирая холодный пот, заливавший ему лоб и шею, она заметила рану чуть ниже ворота рубашки.
– Боже! Ты ранен! – закричала она, но тут же увидела, что рана совсем не так велика, как это ей казалось, пока она не вытерла запекшейся крови. Девушка успокоилась и сказала:
– Ну, это пустяки! Царапина!
Но, вглядевшись внимательнее при свете свечи, она обнаружила, что рана окружена красновато-багровыми пятнами, похожими на лепестки цветка, и что вокруг глаз и губ Фьерамоски выступила синева, руки и уши пожелтели и окоченели. Зораида родилась и выросла на Востоке и привыкла врачевать раны всякого рода, а потому сразу заподозрила, что кинжал был отравлен. Она уговорила юношу лечь в постель и с трудом помогла ему подняться; нащупав его пульс, она заметила, что он бьется очень медленно, словно ему что-то мешает.
Но телесные страдания казались Фьерамоске ничтожными по сравнению с мучительными, думами, которые теснились в его мозгу, непрерывно сменяя одна другую. События этого вечера и опасность, грозившая Джиневре, вытеснили было все остальные его помыслы; но теперь, подобно тому, как осужденный на казнь забывается сном в последнюю ночь и внезапно просыпается с мыслью о неминуемой смерти, так и Фьерамоска, едва очнувшись от охватившего его оцепенения, вспомнил о вызове и клятве избегать опасностей до поединка; он подумал о позоре, которым покроет себя, не явившись на поле битвы, о своем горе, когда друзья возьмутся за меч без него, о насмешках, которыми осыплют его французы, о погибшей чести итальянцев; эти картины поразили его сердце, все его мышцы судорожно сжались, а из груди вырвался такой скорбный вздох, что Зораида вскочила на ноги и в испуге спросила, что с ним.
Этторе воскликнул:
– Я опозорен навек! Поединок, Зораида, поединок! – И он бил себя кулаком по лбу. – Осталось всего несколько дней, а я так слаб, что встану на ноги не раньше чем через месяц! О Боже! За какие грехи ты посылаешь мне такое несчастье?
Девушка не нашла, что ответить на эти слова, но сейчас она, вероятно, думала не столько о поединке, сколько об опасности, грозившей человеку, милому ее сердцу; а опыт подсказывал ей, что опасность возрастает с каждой минутой.
Мгновенное возбуждение Этторе внезапно сменилось полным упадком сил; он упал навзничь и откинул голову на подушку, побледнев еще больше, чем раньше; жилы на шее его судорожно бились, и когда Зораида взглянула на рану, она увидела, что окружавшая ее краснота расширилась почти на палец.
Потом Этторе заговорил все с тем же отчаянием:
– Вот он, защитник итальянской чести! Вот славный исход боя, вот ради чего мы так хвастались и чванились! Но как перед Богом спрашиваю – в чем моя вина? Разве мог я поступить иначе?
Однако эти доводы не приносили ему облегчения, и мучительные мысли не покидали его: «А кому я расскажу всю историю? Перед кем стану оправдываться? Даже если я и расскажу все, как было, враги, наверно, притворятся, что не верят, и скажут: „Этторе сочинил всю эту чушь, оттого что испугался нас“.
Пока он терзался этими мыслями, яд, проникший в его тело вместе с кинжалом дона Микеле, разливался по жилам, подбираясь к мозгу; Этторе чувствовал как постепенно у него темнеет в глазах и туманится сознание; в висках стучало так, что казалось, все вокруг дрожало и неслось в неистовом кружении ослепляя его вихрем светящихся искр. Зораида стояла рядом и с ужасом смотрела на него, а Этторе не спускал с ее лица широко открытых глаз. В полуобморочном состоянии, при слабом свете догорающей свечи, ему чудилось, что облик девушки постепенно изменяется и черты ее становятся чертами Ламотта: в язвительной страшной усмешке опускаются углы губ этого призрака; потом губы распухают, растягиваются, и вот уже перед ним стоит Граяно д'Асти; но и он начинает расти, и внезапно вместо него, бледный, широко разинув хохочущий рот, появляется герцог Валентино; все эти лица, возникавшие одно из другого, как бредовые видения, особенно ярко запечатлелись в его больном мозгу; внезапно среди них промелькнул образ Джиневры; Этторе произнес ее имя и вскричал с пламенной нежностью:
– Неужели ты не спасешь меня от смерти!.. Я ведь так любил тебя… Спаси меня из этой ямы… Сними тарантулов, они ползают у меня по лицу…
Много еще других бессвязных слов произносил он; наконец все видения слились воедино, словно полыхающие багряные зарницы, а потом, когда духовные и телесные силы юноши окончательно истощились, мало-помалу стали темнеть, рассеиваться и наконец потухли совсем.
ГЛАВА XVI
Чтобы одновременно вести рассказ о всех происшествиях, приключившихся в этот вечер с разными героями нашей истории, нам пришлось подолгу оставлять читателя в неизвестности относительно каждого из них. Хотя таков обычай многих рассказчиков, мы не думаем, что читателю это приятно, если, конечно, книга, находящаяся у него в руках, способна внушить желание узнать ее конец. Мы не будем просить у читателя прощения за то, что, последовали этому методу, который в нашем случае диктуется необходимостью; это было бы проявлением тщеславия, из-за которого над нами стали бы смеяться за спиной; а скромность, которая лишь у немногих является добродетелью, у большинства представляет собой не что иное, как расчет.
Как бы то ни было, нам придется ненадолго покинуть Фьерамоску, вернуться в крепость и отыскать Валентино, которого мы оставили в нижних комнатах, выходящих на море.
Первый из двух замыслов, ради которых Валентино приехал в испанский лагерь, провалился: несмотря на всю свою хитрость, ему не удалось настолько завоевать доверие Гонсало, чтобы тот пожелал заключить с ним союз или по крайней мере согласился поддержать его. Испанец, обязавшись сохранить тайну переговоров, отклонил все предложения, хотя и принял его самого с тем почетом, на который, как он считал, Валентино мог претендовать если не по своим достоинствам, то по своему званию. Те семь или восемь дней, в течение которых велись тайные переговоры, Валентино почти все время сидел, запершись в своих комнатах, чтобы не обнаруживать своего присутствия; если он изредка и выходил подышать воздухом, то делал это всегда ночью и в маске, как в том веке нередко поступали люди высокого положения, когда их действия были не слишком благовидны. Но, как мы уже говорили, к политическим интригам Валентино здесь примешивались еще и другие козни, направленные против женщины, которая посмела выказать ему презрение. Благодаря ловкости дона Микеле и согласно его заверениям, эти махинации сегодня вечером должны были успешно завершиться.
Иному человеку нелегко будет понять, как мог такой отъявленный злодей, как Валентино, пресыщенный всевозможными излишествами, столь высоко ценить обладание женщиной и столь усердно выслеживать ее. И в самом деле, было бы ошибочно думать, что желаниями Валентино управляла любовь, хотя бы в самом низменном смысле этого слова. Но Джиневра оказала сопротивление и при этом не скрыла своего презрения и отвращения; Валентино считал, что она счастливо живет с другим; ему казалось, что его победили и осмеяли, – а как же можно позволить кому-нибудь похвалиться, что он одержал верх над Чезаре Борджа?
Сколько ни встречал он прославленных красавиц всех он либо толкнул на путь преступлений, либо сделал несчастными. И среди них ведь были и добродетельные и порядочные, а иные, связанные узами крови с могущественными людьми, должны были чувствовать себя в безопасности. Мог ли он теперь вынести, чтобы какая-то незаметная и незначительная женщина так глумилась над ним – над ним, перед которым трепетала вся Италия?
Но в этот час Валентино был уже близок к свершению своей мести и шептал про себя: «Ты мне дорого заплатишь за все тяготы, которые я терплю в этой темнице».
В самом деле, пребывание в этих комнатах, похожих на тюремные камеры, должно было показаться ему, привыкшему к блеску римского двора, очень тяжким, если этому человеку вообще могли показаться тяжкими сотни испытаний, которые он терпел ради того, чтобы добиться своей цели. Однако нельзя сказать, чтобы ему уж совсем нечем было занять свое время. Не говоря уже о тех часах, которые он проводил с Гонсало, и тех, когда они с Микеле плели паутину своего заговора, Валентино ежедневно принимал гонцов из Романьи, привозивших ему от тех, кто остался ему верен, письма, бумаги, сообщения о делах; гонцы приезжали и уезжали ночью, во всем оправдывая утверждение Никколо Макиавелли, писавшего за некоторое время перед тем Флорентийской республике: «Из всех дворов на свете лучше всего хранят тайну при дворе герцога». И, не объясняя, почему это так происходит, он давал понять, что слишком болтливые языки замолкают в могиле.
Вся корреспонденция переправлялась на легких судах, которые, плавая вдоль берегов Романьи, укрывались в скалах у подножия Гаргано: по ночам оттуда к крепости отправлялись на лодках гонцы. Экипаж этих судов состоял из надежных людей, и из их-то числа дон Микеле отобрал подручных для своего предприятия.
В этот вечер, когда весь дворец огласился шумом и музыкой, Валентино сидел у себя за столом и, чтобы обмануть ожидание, просматривал при свете масляной лампы бумаги, которые ему за эти дни доставили гонцы. На нем был камзол, застегивающийся спереди на ряд маленьких пуговиц; грудь и рукава камзола, довольно узкие, были из черного атласа; поверх шли ленты из белого бархата, в четырех местах прикрепленные к рукавам кружками из того же материала. Расстегнутый ворот камзола открывал тончайшую стальную кольчугу, которую герцог постоянно носил под одеждой. Он часто одевался в этот костюм, и те, кто посещал галерею Боргезе в Риме, припомнят, что он изображен в нем и на портрете кисти Рафаэля. Несмотря на свое крепкое сложение, герцог временами жестоко страдал от золотухи, похожей на лишай, которая то скрывалась, тлея у него в крови, то высыпала на коже, в особенности на лице, и тогда смертельная бледность этого лица сменялась нервной краснотой и волдырями, из которых сочился гной. Омерзительное безобразие его в такие дни вызывало отвращение даже у людей, которые постоянно при нем находились. Никогда ни одна душа еще не облекалась в столь соответствующую ей форму. Из-за сидячей жизни, которую он вел в эти дни и которая столь противоречила его привычкам, а также из-за того, что стояла весна, золотуха высыпала с необыкновенной силой, более чем когда-либо обезобразив его черты и вызывая в нем необъяснимое и неутолимое бешенство, обычное последствие этого недуга.
Около десяти часов, когда в верхних залах начался бал, в дверь герцога слегка постучали, и в комнату вошел человек в темно-красных узких штанах, в плаще, доходящем до половины ляжек, с черным капюшоном, спадающим на глаза, с мечом, кинжалом и со свертком под мышкой. Валентино поднял голову; вошедший поклонился я, не произнося ни слова, положил на стол свой сверток. Герцог прикрыл сверток рукой и сказал посланцу:
– Сегодня ночью я отсюда уеду. Иди в самую дальнюю комнату, запрись там и, что бы ты ни услышал, не выходи, пока я не позову.
Человек вышел в дверь, находившуюся напротив той, в которую он вошел, и Чезаре Борджа, сняв с себя маленький кинжал, острый как бритва, перерезал алые шелковые шнурки, скреплявшие вместе с апостолическими печатями пергамент, на котором было написано письмо папы Александра. При этом из свертка на стол выкатился золотой шарик; увидев его, герцог вскочил на ноги, охваченный подозрением. Но затем, внимательно осмотрев печати и письмо, он успокоился и снова сел на место.
Нельзя сказать, что тревога Валентино была вызвана паническим страхом. Ведь в тот век существовало слишком много способов отравления. Случалось даже, что яд посылали в письме, дабы он немедленно оказал свое действие на адресата. Поэтому было вполне простительно, что вид предмета, столь неожиданно явившегося его взору, привел герцога в смятение, – ведь если существовал на свете человек, который прежде всего должен был ожидать самого худшего, то это был, конечно, он.
Письмо было написано шифром, ключ к которому имелся только у него самого и у папы; благодаря своему опыту Валентино без труда прочел его. Содержание письма было следующее.
Папа был запрошен исповедником христианнейшего короля, не заключит ли он с ним союз против католического короля, дабы изгнать последнего из Неаполитанского королевства. Одновременно посол предлагал объединить свои силы с силами церкви против Сиены и владений графа Джордано. Однако папа не счел за благо заключить эти соглашения, пока не узнает, чем кончились переговоры между Валентино и Гонсало.
Он получил от матери и от подруги кардинала Орсини денежную сумму и жемчужину поразительной красоты, похищенные во дворце на горе Джордано, когда этот дворец, после смерти герцога Гравина, Вителлоццо и Ливеротто да Фермо, был разграблен по приказанию папы.
Он желает, чтобы герцог держал людей наготове и мог бы после смерти упомянутого кардинала отправиться походом на Браччано, где собрались Орсини и их сторонники.
Чтобы покрыть издержки на выполнение этих планов, папа постановил отдать кардинальские шапки Джованни Кастеляру, архиепископу Трани, Франческо Ремолино, исповеднику короля Арагонского, Франческо Содерини ди Вольтерра, монсиньору Корнето, секретарю по грамотам, и другим богатым прелатам, в ожидании того времени, когда его сын возвратится в Рим и решит, что следует предпринять, чтобы завладеть их сокровищами.
В заключение папа сообщал, что его предупредили о грозящей ему в этом году серьезной опасности и посоветовали носить под одеждой для предохранения от нее золотой шарик с заключенной в нем великой святыней, подобный тому, который он теперь посылает герцогу для той же цели.
Хотя факты, указанные в этом чудовищном письме, увы, слишком соответствуют истине и заговор против кардинала ди Корнето, в частности, обратился против самого папы и стал, как известно, причиной его смерти, мы все-таки сомневались, должны ли мы раскрывать весь этот позор перед нашими читателями. Но если Бог в своих неисповедимых целях допустил, чтобы один из первых защитников величайших святынь так грубо злоупотребил ими, то, пожалуй, было бы вредно пытаться скрыть его неправедность, и мы заслужили бы упрек в пристрастии и в том, что стремимся к триумфу партии, а не к торжеству истины, которая не нуждается в поддержке двоедушия, чтобы устоять. Преступления папы Александра Борджа и других сановников церкви будут взвешены на неподкупных весах Божьего гнева, и человеку не дано предвидеть, каков будет суд. Но из праха этих первосвященников, так же как из могил мучеников, восстает истина, которая доказывает, что Христов крест поднялся и укрепился во славе своей не на золоте, не на мече, не на придворных кознях, но на евангельских добродетелях.
Нетрудно себе представить, что герцогу Романьи при чтении отцовского письма пришли в голову мысли, весьма отличные от наших. Поглядывая то на письмо, то на золотой шарик, который он вертел в пальцах, Валентино изобразил на лице улыбку, в которой одновременно отразились и презрение (ибо он не верил ни в Бога, ни в святых) и боязливое, подозрительное легковерие (потому что он верил в астрологию), – воистину, разуму человеческому необходимо верить в какое-то начало, находящееся за пределами материального мира. Если бы Валентине и не собирался отправляться в Романью нынешней ночью, письмо заставило бы его сделать это. Интрига, которая удовлетворяет честолюбие и одновременно набивает сундуки, – это не то, что пустая погоня за женщинами. Он подумал, что дон Микеле и его люди, вероятно, не заставят себя долго ждать, сунул за пазуху золотой шарик небрежным шестом человека, сказавшего себе: «Будь что будет!», – и стал укладывать бумаги и вещи, которые должен был захватить с собой.
Через несколько минут все было сделано. Он снова сел за стол; не зная, чем заняться, он вытащил из-за пазухи шарик и, рассматривая его со всех сторон и перекидывая его из одной руки в другую, стал раздумывать о содержимом этого шарика и о человеке, который его прислал. Постепенно, от мысли к мысли, он пришел к размышлениям о религии, главой которой был его отец, о догматах веры, которым он тоже верил когда-то, о своем блистательном положении, которое было результатом подчинения народов папской власти; и, усмехнувшись в душе над легковерием большинства, он подумал: «Я-то пока что наслаждаюсь жизнью назло всем». Но он услышал голос, тихонько звучавший под всем этим нагромождением гордыни, страстей и неверия, который говорил: «А что если это правда?»
Герцог, не желая внять ему и не умея заставить его замолчать, сердито вскочил, прошелся по комнате, попробовал рассеяться. Все было бесполезно. Слова «Что если это правда?» преследовали, опустошали его, отбивая у него, если можно так выразиться, вкус к почестям, к власти, ко всем благам, которыми он обладал. Он бросился на кровать, в бешенстве зарылся лицом в подушки, называя себя безумцем, наконец мало-помалу успокоился. Веки его отяжелели и закрылись, он заснул.
Но и во сне мысли его продолжали работать в том же направления. Ему снилось, что он находится в Риме, на улице, которая ведет от замка святого Ангела к собору святого Петра. Небо и земля взбудоражены, все непохоже на себя, всюду тьма и вопли. Он пытается бежать к собору, но не может, и тяжело дышит, задыхается. Ему кажется, что его держат; он оглядывается: все, кого он предал, убил, отравил, держат его за волосы, за руки, за ноги и кричат протяжно и отчаянно.
Потом, сам не зная как, он оказывается в соборе, в неописуемом хаосе, среди тьмы, плача, сотрясающихся стен, открывающихся могил, блуждающих призраков. Его жертвы продолжают рвать его на части и кричать: «Правосудия, Боже!» – и он думает: «Так вот он, Страшный суд, в который я не хотел верить!»
И он отчаянно вырывается, чтобы пройти вперед, искать убежища у папы, которого он видит в глубине; папа сидит на своем троне, освещенный слабым, тусклым светом. Но он не может сделать это: в него вцепился с одной стороны брат, герцог Гандия, – это распухший, омерзительный труп, разложившийся под водой, его раны открыты, из них сочится гной; с другой стороны – герцог Бизелли, и Асторре Манфреди, и женщины, и дети… Все они плачут, простирают руки к папе и кричат, требуют правосудия и мести. Папа облачен в черную ризу, на голове у него тиара. Толстое, дряблое, одряхлевшее лицо Александра VI желто, как у мертвеца. И в то время, как его фигура медленно приподнимается, словно он встает на ноги, взрыв адского хохота заглушает крики и плач. Этот хохот вырвался из груди дьявола, который сидит тут же рядом, на корточках, уткнув подбородок в колени; звучат слова его: «Христос, вера, папы – все ложь». И слова эти, как протяжный вой, разносятся под церковными сводами.
Этот вой еще звучал в ушах герцога, когда, очнувшись от сна, он открыл глаза и сел на кровати.
Несколько минут он пребывал в растерянности; сновидение еще подкрепило уверенность злодея в том, что он может совершать любые преступления, не боясь наказания на том свете.
Пока Валентино подбодрял себя этой мыслью (за несколько минут перед тем пробило одиннадцать часов), шум от разговоров множества людей, звуки музыки, веселые крики доносились до него сверху, заглушаемые толщиной сводов нижнего этажа крепости; но тот крик, который прервал беседу доньи Эльвиры и Фанфуллы, раздался гораздо ближе от него, почти за самой его дверью, выходившей на песчаный берег у фундамента замка. Герцог вышел, чтобы узнать, кто кричал, но увидел только пустую лодку, врезавшуюся носом в прибрежный песок.
Валентино поднял глаза, оглядел балкон и окна, но никого не увидел; он уже хотел возвратиться к себе, но сделал еще несколько шагов по направлению к лодке, вытянув шею, заглянул через борт и увидел на дне лежавшую ничком женщину, которая тихо стонала, закрыв лицо руками. После первого удивления он быстро решился: вошел в лодку, просунул одну руку женщине под мышки, другую под колени, поднял и унес ее, лишившуюся чувств, к себе, где уложил на кровать. Но каково же было его изумление, когда, поднеся лампу к лицу женщины, чтобы рассмотреть его, он узнал Джиневру! Это лицо слишком запечатлелось в его памяти, чтобы он мог не поверить своим глазам: но как угадать, по какой странной случайности она сама попалась ему в руки, по-видимому сумев расстроить козни дона Микеле?
Отныне, – сказал про себя Валентино, – я по крайней мере буду верить в существование дьявола. Никто иной, кроме друга-дьявола, не мог бы сослужить мне такую службу».
Он поставил лампу на маленький столик у изголовья постели и сам присел на край ее, наблюдая за лицом Джиневры, чтобы уловить ту минуту, когда она очнется; радость что он наконец насладится долгой мучительной местью, зажгла его глаза огнем, пробегавшим под его ресницами, как электрическая искра; пятна, уродовавшие его лицо, налились кровью, и запылали. Никогда еще человеческое лицо, соединив в себе физическое уродство с тем безобразием, которое налагают на его черты преступления, не являло зрелища более страшного. Джиневра, бледная, неподвижная, обессиленная, изможденная, на лице которой было запечатлено страдание, и Валентино, внешность которого мы описали, являли собой страшную картину. Долго они оба оставались недвижны. Можно сказать, что Джиневра была счастлива в ту минуту, ибо благодаря беспамятству она не сознавала, где находилась, и не видела того, кто отныне являлся ее полновластным господином. Но недолго длилось это счастье. По легкому движению своей жертвы Чезаре Борджа заметил, что сейчас она откроет глаза. Он был совершенно уверен, Что здесь сейчас никто не сможет помешать ему: праздник был в разгаре, и никто не услышал бы крика под этими сводами. И так как он чувствовал себя в полнейшей безопасности и у него еще оставалось время, он решил воспользоваться столь счастливым случаем и не спеша насладиться своей местью.
Наконец глубокий вздох вырвался из груди молодой женщины, всколыхнув покрывающую ее ткань. Она на мгновение открыла глаза и тотчас же смежила их снова. Второй раз и третий поднялись ее веки; затем она остановила взгляд на незнакомом и неподвижном лике, которое увидела над собой; но оно не пробуждало никаких мыслей в ее мозгу. Потом, не в силах более переносить это отвратительное зрелище, она медленно отвела глаза, так медленно, что в другом человеке она возбудила бы сострадание. Джиневра мало-помалу приходила в себя, и первая мысль, пронзившая ее, была мысль о Фьерамоске; она опять увидела его на балконе, у ног доньи Эльвиры.








