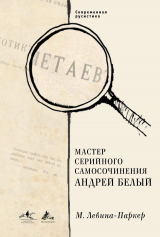
Текст книги "Мастер серийного самосочинения Андрей Белый"
Автор книги: Маша Левина-Паркер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
В «Котике Летаеве» и «Крещеном китайце» инициированная в «Петербурге» тема мученического пути героя к казни воспроизводится и уже становится одним из автобиографических инвариантов серии. Тема не просто повторяется, а воплощается в христианской символике и образности, обретает определенность крестного пути, чего не было в первом тексте автобиографической серии. Постоянно повторяются мытарства Котика в недрах семейства, мотивы вины без вины (виноват ли я, что…) и греха: «Грешник я: грешу с мамочкой против папочки; грешу с папочкой против мамочки»173173
Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 114.
[Закрыть]. Эти ряды мотивов могут восприниматься как намеки на репетицию конца: героя – и текста.
Белый комбинирует в тексте серии повторений прошлого с сериями репетиций грядущего, заставляет сосуществовать два разнонаправленных потока времени (возвратный и поступательный) и оставляет при этом будущее открытым в бесконечность, так же как прошлое – открытым в его «обратную бесконечность». Рождение героя в «Котике Летаеве» столь же мало может считаться завязкой в обычном понимании, сколь его распятие может считаться развязкой.
Распятию «во Христе» и воскрешению «в Духе» придан статус вневременной «мозговой игры», в «Котике Летаеве» и «Крещеном китайце» не менее актуальной, чем в «Петербурге». Распятие героя репетируется в «Котике Летаеве» с первых страниц повествования – прохождением и восхождением Котика через страшные отдушины, трубы, коридоры, изнутри грозящие ребенку родительским тиранством бесконечные комнаты и извне угрожающие ему улицы, мир. Рост Котика разбивается на этапы развития своеобразным рефреном, периодически повторяющимся и обобщающим каждый из этапов: «Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир – лестница моих расширений; по ступеням ее восхожу: это – рост; я – расту <…>»174174
Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 86.
[Закрыть]. Последнее возникновение этого словесного, семантического и структурного рефрена в эпилоге представляет собой высказывание, которое уже не подразумевает, а прямо проговаривает смысл восхождения и называет его конечный пункт, который становится не только подразумеваемым конечным пунктом этого романа о детстве, но и повторяется всеми последующими романами автофикциональной серии как их кульминация:
Двумя фразами ниже тот же рефрен возникает и нарочито проговаривается заново, только на этот раз уже в несколько более пространном варианте:
Ожидают меня: мои новые миги; и – новые комнаты – комнаты, комнаты! – <…> происшествия нарастают деревней и временем года; шумы времени ожидают меня, ожидает Россия меня, ожидает история; изумление, смятение, страх овладевают: история заострилась вершиной; на ней… будет крест <…>176176
Там же.
[Закрыть].
По мере приближения к последним страницам многозначительно готовится представление распятия: «Котик – маленький гробик!»; «Нет, не нравится мир <…>»; «Очень страшно: что делать?»; «Мне очень страшно»177177
Там же. С. 146, 148, 149, 150.
[Закрыть]. И наконец, в последней главке, многообещающе названной «Распятие», сцена распятия назревает и почти материализуется: оплотневает, обрастает палачами, крестом, прочими атрибутами распятия, и визуализируется, – оставаясь при этом в будущем времени:
Между тем уже бабушка, тетя Дотя и старая дева, Лаврова, обижены ожиданьями; и когда они не исполнятся, то есть – когда косматая стая старцев, шепчась и одевая печально шершавые шубы, уйдет от меня, то – то придвинется стая женщин с крестом: положит на стол; и меня на столе, пригвоздит ко кресту178178
Там же. С. 153.
[Закрыть].
Однако на последних страницах, в следующем за «Распятием» эпилоге, оплотневшая было сцена распятия развеществляется. Конкретное слово Котика, изображающее распятие, сменяется абстрактным дискурсом взрослого Я, откладывающего свое распятие на неопределенное время: «Знаю я, – будет время: – (когда оно будет, не знаю) – буду разъятый в себе, с пригвожденным, разорванным телом, душою <…>. Это будет не здесь: не теперь»179179
Там же. С. 155.
[Закрыть]. Представление распятия переносится и таким образом выносится за пределы повествования.
Жизнь Котика продолжается в «Крещеном китайце», где продолжается и тема убиваемого бога: распятие вновь репетируется на всем протяжении романа и в конце его представление вновь разыгрывается – и вновь срывается. За мнимо финальной сценой распятия, смерти, снятия с креста и воскрешения Котика в «Крещеном китайце» идет строка отточия и следует уже, казалось бы, избыточное продолжение: «В этих мыслях провел я весь день у Ерша: о мучениях, мне предстоящих назавтра, я думал <…>»180180
Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 275.
[Закрыть]. Вслед за этим – новая симуляция завершения: «мозговые» картины финального сошествия Котика на «папочку, мамочку, бабушку, дядю и тетю» в облике «света» и «речи безглагольной»181181
Там же. С. 276.
[Закрыть]. Противоречит сошествию указание на то, что свой конец Котик видит в мечтах и снах.
В этом втором романе о детстве уход Котика из мира сего дезавуируется как ложная развязка с помощью предваряющего этот уход посюстороннего пояснения («Или вот, представляется мне…») и заключающего его сообщения о наступлении очередного дня («И я просыпаюсь…»). Романное время тем самым размыкается и уходит в бесконечное завтра: «…К утру возложат атласы, китайские канфы; природа, как старый китаец, древнеет проростами <…>»182182
Там же. С. 276, 277.
[Закрыть].
Временнáя открытость создается по-разному в начале и в финале. Первые сознательные моменты Котика открыты в прошлое как ноуменальную бесконечность, и последующая цепь повторений ведет свое происхождение не от рождения героя, а от предшествующих ему космогонических образов; в то же время квазифинальный мистический опыт распятия Котика, источник серии репетиций, разоблачается как ложный пункт назначения: представление откладывается, и финал размыкается в будущее.
В романах о Котике мотив распятия явственно обретает плоть. Все атрибуты крестного пути невинно страдающего за чужие грехи младенца и сама сцена распятия нарисованы отчетливо и красочно. Не хватает только одного – крови. Распятие Котика бескровно, да к тому же, в последний момент отменяется.
Символическое распятие Котика трудно назвать копией теракта против Аблеуховых. Но их объединяют коннотации мученичества, обреченности и, в несколько меньшей мере, богоубийства. А вот в использовании приема репетиции, как и в срыве представления, все три романа очень похожи. Во всех один почерк, как говорит Белый, один «стереотип».
Здесь необходимо предварительное пояснение. Старший Коробкин – фигура отца, но я обсуждаю его в контексте самоизображений Белого. Оправдание в том, что по ходу дела фигура эта все больше и больше наделяется свойствами сына (подробно об этом см. гл. 2), и один из моментов эволюции образа в том, что Белый отдает профессору свой (а не отца) роковой путь страданий за чужие грехи. В этом старший Коробкин – ипостась младшего Бугаева.
Мотив крестного пути вновь возникает в «Москве», и вновь в особенной вариации. Вариативное повторение структурных блоков от текста к тексту – основной прием создания серийного самосочинения Белого. «Московский чудак» и «Москва под ударом» дают изощренный орнамент мотивных линий, стремящихся к представлению распятия героя. В них постоянным лейтмотивом раздается: все – под ударом, все наносит удар, удар – над Москвой!.. Оба текста насыщены вариациями больших и малых страданий профессора Коробкина – из-за жены-Ксантиппы, негодяя-сына, злобы коллег, происков шпиона Мандро. Они пронизаны мотивами явных и неявных опасностей, сгущающихся вокруг гениального математика, и репетициями его гибели.
В этом ряду выделяются три «генеральные репетиции». Во время первой профессору приходится пострадать за любовь к науке. Он записывает мелом формулы математического открытия на стенке чьей-то кареты, безоглядно бросается вдогонку карете, когда она уезжает, и – падает, бездыханный и едва не раздавленный случайной повозкой. Вторая важная репетиция – юбилейное чествование Коробкина, которое едва не кончается растерзанием юбиляра в руках почти рвущих его сакральное тело на части поклонников: «<…> окружили и <…> куда-то тащили; несение “Каппы-Коробкина” в сопровождении роя людей походило на бред бичевания более, чем на мистерию славы»183183
Белый А. Москва / Сост., вступ. статья и прим. С. И. Тиминой. М., 1989. С. 361.
[Закрыть]. «Бред бичевания» одновременно отсылает и к языческой традиции наказания бичеванием, и к бичеванию Христа перед распятием. В сцене безусловны христианские коннотации богоподобного существа, безвинно страдающего от земного зла. И наконец, третья, внешне пародийная, но внутренне трагическая генеральная репетиция распятия – эпизод с шапкой, надетой на себя рассеянным гением и оказавшейся – котом:
<…> кота вместо шапки надел!
Подбегающий с шапкой лакей, фон-Мандро и Лизаша, стоявшие с ртами раскрытыми, чтобы не лопнуть от хохота, остолбенели, когда, не смеясь, как-то криво им всем подмигнувши, почти со слезами в глазах, громко вскрикнул:
– Забавная-с штука-с: да, – да-с!184184
Там же. С. 190.
[Закрыть]
Заключает эпизод знаменательная концовка «Московского чудака»: «Он надел на себя не кота, а – терновый венец»185185
Там же. С. 192.
[Закрыть]. С одной стороны, сцена (регрессивно) является предварительным итогом репетиций – пока лишь символом, замещающим представление. С другой стороны, сцена прямо указывает на это представление – предстоящее распятие. Таким образом она придает смысловую и энергетическую подпитку серии репетиций, устремленной к финальному представлению.
Символично, что эпизод нашел свое повторение в жизни, по умыслу ли автора или иначе. Михаил Чехов рассказывает:
В романе «Москва» профессор Коробкин, рассеянный, надел на себя вместо шапки кота. Я прочел, и мне стало неловко, что Белый позволил себе такую неправду. Но однажды, уходя от меня поздно ночью, он в передней схватил вместо шапки кота и (беру из его же романа): «…цап её (мнимую шапку) на себя!
В тот же миг оцарапало голову что-то: из схваченной шапки над ярким махром головы опустились четыре ноги и пушистый развеялся хвост…»
И дальше было точь-в-точь как в романе: стоявшие около душились от смеха, а он, «не смеясь, как-то криво им всем подмигнувши, почти со слезами в глазах громко вскрикнул:
– Забавная-с штука-с, да-с – да-с!»186186
Чехов М. Из книги «Жизнь и встречи» // Воспоминания об Андрее Белом. С. 510.
[Закрыть]
Представление собственно распятия дается близко к концу второго романа, «Москва под ударом». Это – серия пыток, которым Мандро подвергает Коробкина (чтобы завладеть его изобретением). В главке, следующей за кровавой казнью (более чем натуралистически изображенной), Коробкин именуется «разорванным», и ставится вопрос: «<…> до “этого” – жизнь чья-то длилась; а – после?» Ответом служит описание казненного: «<…> кровавое парево с глазом закрывшимся; кто-то, свернувши на сторону рожу, привязанный к креслу, висел, разодравши свой рот и оскалясь зубами, как в крике <…>»187187
Белый А. Москва. С. 356.
[Закрыть]. Это изображение висящего мученика – по образу и подобию Христа – финальное представление романа. Развязкой оно является в той же мере, что и финалы других текстов серийной автофикции Белого, то есть не окончательной: после кровавой сцены растерзания героя приходит благая весть, которая саботирует обещанный развитием текста катарсис. Прибежавшие на место казни возглашают: «Не умер, но – жив!»188188
Белый А. Москва. С. 360.
[Закрыть]
Затем по модели, знакомой уже по предшествующим текстам серии, следует символическое воскрешение – герой отправляется доживать в сумасшедший дом, но уже обретя богоподобную природу и эсхатологическое назначение:
<…> голова эта вовсе не нашей планетной189189
В издании: «планетой» – вероятно, опечатка.
[Закрыть] системы <…>вырвется из атмосферы земных тяготений —
– и солнечных, —
– чтобы поднять
громкий
крик, от которого <…> облетит колесо зодиака <…>
– страшный суд!
<…>
Но из камеры желтого дома <…> – «оно» станет молньей —
с востока на запад: вернется огнем поедающим <…>
стены тюрем – вселенных – падут!
И возникнет все новое190190
Белый А. Москва. С. 360, 362.
[Закрыть].
Описания воскресшего Коробкина отчасти имитируют стиль Библии:
Инверсивным повторениям придана функция «маленьких смертей» героя, репетиций грядущей казни на кресте. И здесь воспроизводится мотив-инвариант крестного пути протагониста. Как и в предшествующих текстах, инверсивное повторение служит повествовательной стратегией Белого.
Здесь тоже можно говорить о серьезном отличии от «Петербурга» в воплощении мотива богоубийства. В Московских романах репетиционная структура выстроена с ориентацией на серьезное воплощение названного инварианта. Страсти жизни и смерти героя уподоблены крестному пути Христа.
Что касается сравнения с Котиком, то и в «Москве», и в романах о Котике очевидны мотивы именно христианского распятия. Но у Котика это скорее предчувствие будущего крестного пути и распятия, которое подается в явно символистских тонах – а в случае Коробкина настоящее кровавое представление.
Мотив распятия как кульминации жизни – важнейший автофикциональный мотив, структурно и семантически во многом определяющий собой развитие повествования в серии романов Белого. Разновидностью этого инварианта гибели бога можно считать мотив растерзания языческого божества. К этому последнему тяготеет образность «Петербурга». Образы «Котика Летаева» и «Крещеного китайца» апеллируют к христианской версии казни бога, а Московская трилогия сочетает в себе коннотации обоего рода при явном преобладании христианских.
Серия убиения богов, представленная хронологически, показывает развитие этой стороны авторского Я от до-христианской версии до вполне оформленного образа распятия. Сам мотив представляет определенную линию в самоописании Андрея Белого. Сравнение различных составляющих серии помогает увидеть меняющиеся черты, новые штрихи в той же самой линии автопортретов.
Мотив богоубийства в «Петербурге» неотделим от мотива отцеубийства, если не сказать, что это два аспекта единого мотива. Однако в серии рассматриваемых здесь произведений эти два аспекта разъединяются на уже вполне отдельные мотивы, и трансформация их в последующих произведениях происходит по совершенно разным траекториям.
Богоубийство обрастает хорошо узнаваемой христианской атрибутикой и преобразуется в архетипическое христоподобное распятие. При этом заметно усиливаются и детализируются картины страданий, несправедливости и даже пыток. Из не вполне разработанного и несколько туманного намека на мотив вырастает мотив высокодинамичный и ясно очерченный.
Отцеубийство, напротив, из мощнейшего мотива в «Петербурге» превращается в следующих романах в намеки на темные движения души протагониста, связанные в основном с Эдиповым треугольником и с осознанием ребенком себя «отцовским отродьем», движения сыновней души, возможно, несущие в себе потенциал отцеубийства. Собственно, вопрос о наличии мотива отцеубийства в последующих романах серии ставится именно его эмфатическим изображением в «Петербурге», прогрессивно задающим тему.
Знаменательна в этом смысле логика Ходасевича, доказывающего в статье «Аблеуховы–Летаевы–Коробкины», что все романы Белого (кроме «Серебряного голубя») являются вариациями одной темы – сыновних отцеубийственных импульсов. Отталкиваясь в своей интерпретации от ясной в «Петербурге» темы отцеубийства, Ходасевич в последующих романах Белого улавливает признаки отцеубийственного мотива уже в силу того, что он служит продолжением патрицидной темы «Петербурга», и читатель подготовлен к его восприятию как такового. Надо сказать, что собственное заявление Белого в предуведомлении к «Преступлению Николая Летаева» подкрепляет ход мысли Ходасевича. Белый пишет, что в этом романе им «изображено детство героя в том критическом пункте, где ребенок, становясь отроком, этим самым свершает первое преступление: грех первородный, наследственность проявляется в нем»192192
Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 505.
[Закрыть]. Развивая это аутопояснение Белого с опорой на тему «Петербурга», Ходасевич справедливо заключает: «<…> само преступление, по замыслу автора, имеет, можно сказать, физиологическую основу», – и находит продолжение этой же линии в Московских романах, указывая на высвечиваемые в них предыдущими текстами отцеубийственные коннотации. В мелком Митенькином воровстве книг у отца, с которого начинаются злоключения Коробкина, Ходасевич усматривает «прообраз великого преступления, которое он носит в душе», – и резонно ставит диагноз: «Этот Митя Коробкин, такой же потенциальный отцеубийца, как Николай Аблеухов <…>»193193
Ходасевич В. Ф. Аблеуховы–Летаевы–Коробкины. С. 416, 423.
[Закрыть]. Ходасевич вычленил во всех автобиографических романах Белого мотив отцеубийства, потому что был одним из самых внимательных и глубоких читателей Белого. И этот мотив – с оглядкой на «Петербург» – в них присутствует. Но вот вопрос: нашел бы Ходасевич этот мотив отцеубийства в романах о Котике и Московских романах, если бы его не было в «Петербурге»?
Именно «Петербургу» обязан своим существованием серийный мотив отцеубийства. Не будь в серийной автофикции Белого романа «Петербург» – в других романах сквозной мотив сыновней амбивалентности выглядел бы как мотив, быть может, соперничества с отцом, неприязни к отцу, предательства сыном отца, но не мотив отцеубийства.
Выделенный выше мотив мученического пути к казни отражает продвижение «разгляда» серии в противоположном направлении, от поздних произведений к «Петербургу». Не уверена, что я разглядела бы намечающийся мотив богоубийства в «Петербурге», если бы мотив распятия не был так отчетливо выведен в других текстах. В этом заключается особый, уникальный эффект, который может создаваться только серийностью – в одном произведении он невозможен. Только серия, благодаря своей интертекстуальности, позволяет обнаружить скрытый мотив-намек – например, еще не совсем оформившийся или, наоборот, теряющий силу. Назовем это эффектом демаскировки мотива.
Архетип – «оригинал» повторенийИсследование повторения ставит вопрос о происхождении «оригинала» мотивной структуры, который, оставаясь единичным явлением, задает систему повторений, ее характер и функционирование. При репетиционной, обратной мотивной структуре, таким оригиналом служит обещанное представление – и возникает вопрос о происхождении представления. Если рассматривать его репетиции как объективированную память – память о том-что-будет – это должно быть не что иное как память культуры, хранящая в себе родовые комбинации всевозможных мотивов и все варианты развязок, число которых не бесконечно. Пифагор утверждал: «Все, что некогда произошло, через определенные периоды времени повторяется снова, а нового нет абсолютно ничего»194194
Фрагменты ранних греческих философов. М., 1889. Ч. 1. С. 143.
[Закрыть].
Эта идея близка Набокову, который видит заданность и повторяемость не только в большом и возвышенном, но также в малом и заурядном. В рассказе «Путеводитель по Берлину» его лирический герой сидит с приятелем в пивной и наблюдает, как мальчик, сын хозяина, в свою очередь наблюдает происходящее в пивной; мальчик не знает, что наблюдениям его предопределена роль в его будущем – известная взрослому наблюдателю:
<…> я знаю одно: что бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит картину, которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили супом <…>
– Не понимаю, что вы там увидели, – говорит мой приятель, снова поворачиваясь ко мне.
И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоминание?195195
Набоков В. В. Путеводитель по Берлину // Набоков В. В. Собр. соч. русского периода. Т. 1. С. 181.
[Закрыть]
Знание рассказчика – общечеловеческое знание природы вещей: так устроены люди и воспоминания. Это же самое знает и взрослый читатель. «Будущее воспоминание» мальчика можно предвидеть на основании прошлого опыта писателя, читателя и других бывших детей. Рассказчик распознает в настоящем будущее воспоминание о прошлом. В камере воображения Набокова установлены зеркала, отражающие прошлое, которое нельзя изменить. Они дополняются зеркалами для отражения образов будущего, которое неизменно настолько, насколько неизменны законы бытия. В чем-то буквально неизменны: молодой, если не погибнет, станет старым. В чем-то условно неизменны как вечные культурные темы. В «Машеньке» герой обсуждает с собой шансы на обретение утерянного рая: «Я читал о “вечном возвращении”… А что, если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз?»196196
Там же. Т. 2. С. 70.
[Закрыть]
Можно сказать, что и в тех произведениях Набокова, о которых шла речь ранее, природа финального представления культурна. Мотив возвращения героя на родину, общий для «Других берегов» и для «Подвига», архетипичен197197
Об архетипической природе набоковской модели в «Подвиге» пишет А. А. Долинин: «По своему внутреннему смыслу самоубийственный шаг набоковского героя <…> обращен не к “запуганному народу” и, следовательно, не к истории, а к памяти культуры, то есть к вечности. <…> истинный герой, по Набокову, обретает бессмертие, только воплощая “вечные” архетипы и переходя в те творения, которые его славят» (Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина: от «Соглядатая» к «Отчаянию» // Набоков В. В. Собр. соч. русского периода. Т. 3. С. 25–26).
[Закрыть]. В «Подвиге» возвращение Мартына в terra incognita родины подразумевается, но не изображается; в «Других берегах» пространственное возвращение повествователя, будучи гипотетической кульминацией, ставится под сомнение и тоже не изображается. Тем не менее образ возвращения как таковой не является ни для автора, ни для читателя неизвестной величиной, он включен в общую память как одно из универсальных представлений культуры (вечное возвращение, возвращение блудного сына и т. д.)198198
Подчеркивая ориентацию автора «на мифопоэтические модели», Долинин замечает: «<…> Набоков не пытается жестко привязать сюжет к какому-то одному мифу. Вместо этого он использует принцип множественного тематического параллелизма, когда повествование отсылает нас к целому ряду мифологических и литературных претекстов» (Там же. Т. 3. С. 26).
[Закрыть].
В «Котике Летаеве» и в «Крещеном китайце» образ распятия, или умерщвления бога, проецируемый из конца повествования к началу, на цепочку его репетиций, так же архетипичен, как образы прошлого вселенной, задающие в начале поступательную последовательность повторений. Для нас важна общекультурная универсальность архетипа – не только как повторяющегося инвариантного образа, содержащего в себе коллективные представления о мире, но и как особого свойства функционирования сознания. Человеческому сознанию присущ процесс мышления путем приращения новой информации (в широком смысле слова) к уже накопленному багажу. Этот механизм важен и в создании серии текстов, и в ее восприятии. Для приращения нового смысла требуется «повторение пройденного» и допущение при этом некоторой – относительно незначительной – вариативности повторяемого. Такая вариативность достигается либо введением новых данных в систему, либо новой конфигурацией элементов.
Художественное использование мотива как единицы повторения и мотивной структуры как способа производства значения и развития повествования, в особенности серийного повествования, основывается именно на этом свойстве нашего сознания. На архетипичности сознания основывается и возможность существования инверсивной мотивной модели как репетиций предстоящей развязки. Финальное распятие Котика и в «Котике Летаеве», и в «Крещеном китайце» может задавать его «крестный путь» как свою репетицию на протяжении всего предшествующего повествования, потому что само по себе распятие – культурный архетип, и поэтому a priori присутствует в сумме вероятных в данном контексте развязок – в «разделе ответов» культурного сознания, куда читатель всегда может заглянуть, еще не дочитав до развязки199199
Кьеркегор напоминает в «Повторении»: «<…> повторение есть исчерпывающее выражение для того, что у древних греков называлось воспоминанием. Греки учили, что всякое познавание есть припоминание» (Кьеркегор С. Повторение. М., 1997. С. 7).
[Закрыть].
Другая причина этой возможности – та постепенность мотивного приращения и накопления смысла, благодаря которой от репетиции к репетиции читателю нужно сделать лишь микроскопический шаг осмысления нового нюанса.
Репетиции развязки можно воспринимать как постепенное воспроизведение и передачу того или иного культурного архетипа или можно воспринимать их как последовательные этапы познания той или иной идеи. В любом случае интратекстуальная цепочка репетиций «известного неизвестного» в романе и интертекстуальная цепочка таких репетиций в серии романов представляет собой стадии конкретного воплощения некоторой сущности: трансцендентной сущности, существующей независимо от своих прошлых, настоящих или будущих объективаций, но определяющей собой эти объективации.







