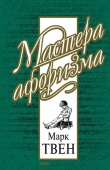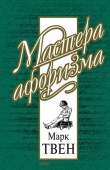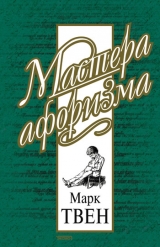
Текст книги "Марк Твен - Собрание сочинений в 12 томах-Позолоченный век"
Автор книги: Марк Твен
Соавторы: Чарльз Дэдли Уорнер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Вашингтон был поражен и ошеломлен. Мысли его витали в далеких заморских странах, а перед глазами проносились такие груды шелестящих и звенящих денег, что он чувствовал себя так, словно очень долго кружился и, внезапно остановившись, увидел, что все вокруг продолжает кружиться в стремительно вращающемся вихре. Однако мало-помалу Селлерсы перестали мелькать перед его глазами и заняли свои прежние места, а комната, потеряв весь блеск, стала такой же убогой, как прежде. И только тогда юноша вновь обрел голос и принялся уговаривать Селлерса бросить все остальные дела и скорее закончить глазной эликсир. Он вынул свои восемнадцать долларов и попытался заставить полковника взять их; он упрашивал и умолял Селлерса, но тот не соглашался. Этот капитал – полковник в присущей ему величественной манере называл восемнадцать долларов капиталом, – этот капитал ему не понадобится до тех пор, пока эликсир не станет реальностью. Но он успокоил Вашингтона, заверив его, что обратится к нему за деньгами, как только завершит свое изобретение, и добавил, к радости Вашингтона, что, кроме него, он никого больше не возьмет в долю.
К концу завтрака Вашингтон только что не молился на Селлерса. Этот юноша был из тех, кто сегодня возносится мечтою в небеса, а завтра посыпает голову пеплом. Сейчас он витал в облаках. Полковник собирался отвести его в контору, где он подыскал ему местечко, но Вашингтон упросил его подождать несколько минут, пока он напишет домой; такие люди, как он, живут только интересами сегодняшнего дня, отдавая им все свои помыслы, и легко отметают от себя все, что волновало их вчера, – это у них в крови. Вашингтон побежал наверх и принялся с воодушевлением писать матери о свиньях и кукурузе, о банках и глазном эликсире, в каждом случае накидывая сверх расчетов Селлерса еще парочку-другую миллионов. Люди и представления не имеют, что за человек полковник Селлерс, писал он, а когда мир узнает его, все ахнут от удивления. Закончил он письмо следующими словами:
"Поэтому успокойся, мама, и не волнуйся ни о чем. Скоро у тебя будет все, что ты захочешь, и даже больше. Уж для тебя-то я ничего не пожалею, можешь не сомневаться. Эти деньги предназначены не для меня одного, а для всей семьи. Мы поделим их поровну, и у каждого из нас будет столько, сколько одному человеку никогда не истратить. Сообщи обо всем отцу, но только очень осторожно; ты сама понимаешь, как важна здесь осторожность, после всех пережитых неудач он в таком состоянии, что хорошие вести могут выбить его из колеи даже скорее, чем плохие: ведь к плохим-то он привык, а хороших не слыхал давным-давно. Расскажи Лоре и всем нашим. И напиши Клаю, если он еще не вернулся. Можешь написать ему, что я охотно поделюсь с ним всем, что у меня будет. Он знает это и так, и мне не придется клятвенно заверять его в искренности моих слов. Будь здорова. И помни: вам больше не о чем волноваться и беспокоиться, скоро наши беды придут к концу".
Бедный Вашингтон! Он и понятия не имел, что его любящая мать прольет не одну сочувственную слезу над его посланием и перескажет остальным членам семьи только ту его часть, где говорилось о любви к ним Вашингтона, но почти ни словом не обмолвится о его планах и надеждах. Он и помыслить не мог, что, получив такое радостное письмо, она опечалится и будет вздыхать всю ночь напролет, думая горькие думы и с тревогой заглядывая в будущее; он, напротив, надеялся, что письмо это успокоит ее и подарит ей мирный сон.
Закончив письмо, Вашингтон спустился к полковнику, и они отправились в путь; по дороге Вашингтон узнал, что его ожидает. Он будет клерком в конторе по продаже недвижимого имущества. Непостоянный юноша мгновенно предал забвению глазной эликсир, и мысли его вновь унеслись к теннессийским землям. Необыкновенные перспективы, которые сулят эти обширные владения, так захватили Вашингтона, что он с трудом заставлял себя прислушиваться к словам полковника и улавливать их смысл. Он радовался, что поступает в контору по продаже недвижимого имущества, – теперь-то его будущее обеспечено.
Полковник рассказал ему, что генерал Босуэл очень богат, у него солидное и процветающее дело; работа у Вашингтона будет нетрудная, получать он будет сорок долларов в месяц, а жить и питаться ему предстоит в семье генерала, что равноценно надбавке по крайней мере в десять долларов, если не больше, ибо даже в "Городском отеле" он не получит таких удобств, хотя в этой гостинице за приличную комнату с пансионом дерут пятнадцать долларов.
Генерала Босуэла они застали в конторе, уютной комнате, сплошь увешанной планами земельных участков; какой-то человек в очках вычерчивал за длинным столом еще один план. Контора помещалась на главной улице Хоукая. Генерал принял Вашингтона доброжелательно, но сдержанно. Он понравился Вашингтону. Это был осанистый, хорошо сохранившийся и прекрасно одетый человек лет пятидесяти. После того как полковник распрощался, генерал еще немного поговорил с Вашингтоном, главным образом о предстоящих ему обязанностях. Из ответов Вашингтона он с удовлетворением заключил, что новый клерк сумеет вести конторские книги и что, хотя его познания в области бухгалтерии пока чисто теоретические, опыт быстро научит его применять теорию на практике. Потом пришло время обеда, и они вдвоем направились к дому генерала. Вашингтон заметил, что невольно старается держаться не то чтобы позади генерала, но и не совсем рядом, – горделивая осанка и сдержанные манеры пожилого джентльмена не располагали к фамильярности.
ГЛАВА IX
СКВАЙР ХОКИНС УМИРАЕТ,
ЗАВЕЩАВ ДЕТЯМ ЗЕМЛИ В ТЕННЕССИ
Quando ti veddi per la prima volta,
Parse che mi s'aprisse il paradiso,
E venissano gli angioli a un per volta
Tutti ad apporsi sopra al tuo bel viso,
Tutti ad apporsi sopra il tuo bel volto;
M'incatenasti, e non mi so'anco sciolto.
J. Caselli, Chants popul, de l'Italie*.
______________
* Тебя увидел я – и предо мною
Открылся рай, и показалось мне,
Что ангелы небесные толпою
Слетаются в глубокой тишине
И вьются над твоею головою.
И я в цепях – навек теперь с тобою.
И. Каселли, Народные песни Италии (итал.).
Yvmohmi hoka, himak a yakni ilvppvt immi ha chi ho...*
______________
* Раздели землю сию в удел девяти коленам... (на языке индейцев чоктау.)
– Tajma kittornaminut inneiziungnaerame, isikkaene
sinikbingmum ilhej, annerningaerdlunilo siurdliminut
piok.
Mas. Agl. Siurdl, 49, 33*.
______________
* И кончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. – Первая книга Моисеева, Бытие, 49, 33 (на языке гренландских эскимосов).
Шагая по улице, Вашингтон предавался мечтам, и воображение его стремительно переносилось от зерна к свиньям, от свиней к банкам; от банков к глазному эликсиру и от глазного эликсира к землям в Теннесси, останавливаясь на каждом из этих соблазнов только на одно лихорадочное мгновение. Он не замечал ничего вокруг, все время смутно думая лишь о генерале.
Наконец они подошли к лучшему особняку в городе. Это и был дом генерала Босуэла. Вашингтона представили миссис Босуэл, и он уже готов был вновь вознестись в туманные выси фантазии, как вдруг в комнату вошла очаровательная девушка лет шестнадцати-семнадцати. Это видение сразу вытеснило из головы Вашингтона сверкающий мусор воображаемых богатств. Женская красота и прежде никогда не оставляла его равнодушным, он не раз влюблялся, а иногда даже был влюблен в одну и ту же девушку несколько недель подряд, но не помнил случая, когда бы сердце его испытало столь внезапное и сильное потрясение.
Всю вторую половину дня Луиза Босуэл не выходила у него из головы, и он то и дело путался в вычислениях. Юноша поминутно ловил себя на том, что погружается в грезы, – ему вновь представлялось ее лицо, когда она впервые появилась перед ним; он слышал ее голос, так его взволновавший, когда она заговорила, и воздух, который окутывал ее, казался ему полным неизъяснимых чар. И хотя сладостные грезы не покидали его весь день, часы тянулись бесконечно, и Вашингтон с нетерпением ждал новой встречи с Луизой. За первым днем последовали другие. Вашингтон отдался охватившей его любви так, как он отдавался всякому увлечению, – не колеблясь и не размышляя. Время шло, и становилось ясно, что он понемногу завоевывает расположение Луизы, не очень быстро, но, как ему казалось, достаточно заметно. Внимание, которое он оказывал Луизе, слегка обеспокоило ее родителей, и они мягко предупредили дочь, не вдаваясь в подробности и ни на кого не намекая, что если девушка связывает свою судьбу с человеком, который не может ее обеспечить, она совершает большую ошибку.
Чутье подсказало Вашингтону, что безденежье может оказаться серьезным, хотя, возможно, и не роковым препятствием на пути осуществления его надежд, и бедность сразу же превратилась для него в такую пытку, перед которой бледнели все прежние его страдания. Теперь он жаждал богатства больше, чем когда-либо раньше.
Раза два он обедал у полковника Селлерса и, с унынием отмечая, что стол становится все хуже не только по качеству, но и по количеству подаваемых блюд, принимал это за верный признак того, что недостающий ингредиент глазного эликсира все еще не найден, – хотя Селлерс всегда объяснял изменения в меню то указаниями врача, то какой-нибудь случайно прочитанной им научной статьей. Так или иначе, недостающего ингредиента по-прежнему недоставало, а полковник по-прежнему утверждал, что он уже напал на его след.
Всякий раз, когда полковник входил в контору по продаже недвижимого имущества, сердце Вашингтона начинало бешено колотиться, а глаза загорались надеждой; однако всегда оказывалось, что полковник всего лишь опять напал на след какой-то грандиозной земельной спекуляции и тут же добавлял, что нужный ингредиент почти у него в руках и он вот-вот сможет назвать день и час, когда на их горизонте забрезжит долгожданный успех. И сердце Вашингтона вновь падало, а из груди вырывался глубокий вздох.
Однажды Вашингтон получил письмо, сообщавшее, что последние две недели судья Хокинс прихварывал и сейчас врачи считают его положение серьезным; Вашингтону надо бы приехать домой. Известие это очень опечалило Вашингтона: он любил и почитал отца. Босуэлов тронуло горе молодого человека, и даже генерал смягчился и сказал несколько ободряющих слов. Это уже было некоторым утешением. Но когда Луиза, прощаясь с ним, пожала ему руку и шепнула: "Не огорчайтесь, все будет хорошо; я знаю, все будет хорошо", несчастье стало для Вашингтона источником блаженства, а навернувшиеся на глаза слезы говорили лишь о том, что в груди у него бьется любящее и благодарное сердце; когда же на ресницах Луизы блеснула ответная слеза, Вашингтон с трудом сдержал нахлынувшую радость, хотя за минуту до того душа его была переполнена печалью.
Всю дорогу домой Вашингтон лелеял и холил свое горе. Он рисовался себе таким, каким, несомненно, видела его она: благородный юноша, пробивающий себе дорогу в жизни и преследуемый несчастьями, стойко и терпеливо ждет приближения грозного бедствия, готовясь встретить удар, как подобает человеку, давно привыкшему к тяжким испытаниям. От таких мыслей хотелось рыдать еще горестнее, и он мечтал только об одном: чтобы она видела, как он страдает.
Не следует придавать особого значения тому, что Луиза, рассеянная и задумчивая, стояла вечером в своей спальне у секретера и снова и снова выводила на листке бумаги слово "Вашингтон". Гораздо важнее было то, что всякий раз, написав это имя, она тут же старательно зачеркивала его и разглядывала зачеркнутое слово так пристально, будто боялась, что его еще можно разобрать, потом снова все перечеркнула и наконец, не удовлетворившись этим, сожгла листок.
Приехав домой. Вашингтон сразу понял, что отец очень плох. Завешенные окна спальни, прерывистое дыхание и стоны больного, шепот родных, ходивших по комнате на цыпочках, чтобы не обеспокоить его, – все это было исполнено печального значения. Миссис Хокинс и Лора дежурили у постели больного уже третью или четвертую ночь; за день до Вашингтона приехал Клай, который тут же стал помогать им. Кроме них троих, мистер Хокинс никого не хотел видеть, хотя его старые друзья не раз предлагали свои услуги. С приездом Клая были установлены трехчасовые дежурства, и теперь больного не оставляли одного ни днем, ни ночью. Лора с матерью, видимо, уже сильно устали, но ни та, ни другая не соглашалась переложить на Клая хоть какую-нибудь из своих обязанностей. Как-то в полночь он не разбудил Лору на ночное дежурство, но его поступок вызвал такие упреки, что больше он уже на это не решался; Клай понял, что дать Лоре выспаться и не разрешить ухаживать за больным отцом, значит лишить ее самых драгоценных минут в жизни; он понял также, что для нее все эти ночные дежурства – честь, а вовсе не тяжелая обязанность. И еще он заметил, что, когда часы бьют полночь, взор больного с надеждой обращается к двери, и стоило Лоре задержаться, как в глазах мистера Хокинса появлялось выражение нетерпения и тоски, но он тотчас успокаивался, как только дверь открывалась и Лора входила в комнату.
И без упреков Лоры он понял, что был неправ, услышав обращенные к Лоре слова отца:
– Клай очень добрый, а ты устала, бедняжка... но я так соскучился по тебе...
– Не такой уж он добрый, папа, раз не позвал меня. Будь я на его месте, ни за что бы этого не сделала. Как ты только мог, Клай?
Клай вымолил себе прощение и пообещал больше не обманывать сестру; отправляясь спать, он говорил себе: "У нашей маленькой "герцогини" добрая душа, и глубоко ошибается тот, кто думает удружить ей, намекая, будто она взялась за непосильное дело. Раньше я этого не знал, но теперь знаю твердо: хочешь доставить Лоре удовольствие, не пытайся помогать ей, когда она выбивается из сил ради тех, кого любит".
Прошла неделя, больной все больше слабел. И вот наступила ночь, которой суждено было положить конец его страданиям. То была холодная зимняя ночь. В густом мраке за окном шел снег, а ветер то жалобно завывал, то в яростном порыве сотрясал дом. Уходя от Хокинсов после очередного визита, доктор в разговоре с ближайшим другом семьи обронил фразу: "Кажется, больше я ничего не могу сделать", – роковую фразу, которую всегда случайно слышит тот, кому меньше всего следовало бы ее слышать и которая одним сокрушительным ударом убивает последнюю, едва теплившуюся надежду... Склянки с лекарствами были убраны, комната аккуратно прибрана в ожидании неизбежней развязки; больной лежал с закрытыми глазами, дыхания его почти не было слышно; родные, дежурившие у постели, вытирали с его лба выступавший по временам пот, и слезы безмолвно текли по их лицам; глубокая тишина лишь изредка нарушалась рыданиями окруживших умирающего детей.
Ближе к полуночи мистер Хокинс очнулся от забытья, огляделся и попытался что-то сказать. Лора тотчас приподняла голову больного; в глазах его загорелись искорки былого огня, и он заговорил слабеющим голосом:
– Жена... дети... подойдите... ближе... ближе. Свет меркнет... Дайте взглянуть на вас еще разок.
Родные тесным кольцом обступили умирающего, и теперь уже никто не мог сдержать слез и рыданий.
– Я оставляю вас в нищете. Я был... так глуп... так недальновиден. Но не отчаивайтесь! Лучшие дни уже недалеко. Помните о землях в Теннесси. Будьте благоразумны. В них – ваше богатство, несметное богатство... Мои дети еще выйдут в люди, они будут не хуже других. Где бумаги? Бумаги целы? Покажите их, покажите их мне!
От сильного возбуждения голос его окреп, и последние слова он произнес без особого напряжения. Сделав усилие, он почти без посторонней помощи сел в постели, но взор его тут же погас, и он в изнеможении упал на подушки. Кто-то побежал за документами, их поднесли к глазам умирающего; слабая улыбка мелькнула на его губах, – он был доволен. Хокинс закрыл глаза; признаки приближающейся кончины становились все явственнее. Некоторое время он лежал неподвижно, потом неожиданно чуть приподнял голову и посмотрел по сторонам, словно пристально разглядывал мерцающий вдали неверный огонек.
Он пробормотал:
– Ушли? Нет... Я вижу вас... еще вижу... Все... все кончено. Но вы не бойтесь. Не бойтесь. Теннесс...
Голос его упал до шепота и замер; последняя фраза осталась незаконченной. Исхудалые пальцы начали щипать покрывало, конец был близок. А через несколько минут в комнате не было слышно иных звуков, кроме рыданий осиротевшей семьи, да со двора доносилось унылое завывание ветра.
Лора наклонилась и поцеловала отца в губы в тот самый момент, когда душа его покинула тело. Но она не зарыдала, не вскрикнула, лишь по лицу ее текли слезы. Потом она закрыла покойнику глаза и скрестила на груди его руки; помедлив, она благоговейно поцеловала его в лоб, натянула на лицо простыню, а затем отошла в сторону и опустилась на стул, – казалось, отныне она покончила все счеты с жизнью, потеряла всякий интерес к ее радостям и печалям и забыла все свои надежды и стремления. Клай зарылся лицом в одеяло, а когда миссис Хокинс и остальные дети поняли, что теперь уже и в самом деле все кончено, они бросились друг к другу в объятия и отдались охватившей их скорби.
ГЛАВА X
ОТКРЫТИЕ ЛОРЫ. МОЛЬБА МИССИС ХОКИНС
Okarbigalo: "Kia pannigatit? Assarsara! uamnut
nevsoingoarna..."
Mo. Agleg Siurdl, 24, 23*.
______________
* И сказал: "Чья ты дочь? Скажи мне..." – Первая книга Моисеева, Бытие, 24, 23 (на языке гренландских эскимосов).
Nootali nuttaunes, natwontash,
Kukkeihtasli, wonk yeuyeu
Wannanum kummissinninnumog
Kah Koosh week pannuppu*.
______________
* Слушай, дочь моя, внемли мне,
Слушай лишь меня отныне,
Позабудь народ свой прежний,
Отчий дом и край родимый (на языке массачусетских индейцев).
La Giannetta rispose: Madama, voi dalla poverta di mio
padre togliendomi, come figliuola cresciuta m'avete, e
per questo agni vostro piacer far dovrei.
Boccaccio, Decat, Giorno 2, Nov. 8*.
______________
* Джанетта отвечала: "Сударыня, вы взяли меня у отца моего и вырастили меня как дочь свою, и за это я должна угождать вам чем только могу". Боккаччо, Декамерон, день 2, новелла 8 (итал.).
После похорон прошло всего два или три дня, как вдруг произошло событие, которому суждено было изменить всю жизнь Лоры и наложить отпечаток на еще не вполне сложившийся характер девушки.
Майор Лэкленд был некогда заметной фигурой в штате Миссури и считался человеком редких способностей и познаний. В свое время он пользовался всеобщим доверием и уважением, но в конце концов попал в беду. Когда он заседал в конгрессе уже третий срок и его вот-вот должны были избрать в сенат, – а звание сенатора в те дни считалось вершиной земного величия, он, отчаявшись найти деньги для выкупа заложенного имения, не устоял перед искушением и продал свой голос. Преступление раскрылось, и немедленно последовало наказание. Ничто не могло вернуть ему доверия избирателей; он был опозорен и погиб окончательно и бесповоротно! Все двери закрылись перед ним, все его избегали. Несколько лет провел он то в мрачном уединении, то предаваясь разгулу, и наконец смерть избавила его от всех горестей; его похоронили вскоре после мистера Хокинса. Майор Лэкленд умер, как и жил последние свои годы, – в полном одиночестве, покинутый всеми друзьями. Родных у него не было, а если и были, то они давно отреклись от него. Среди вещей покойного были обнаружены записки, раскрывшие жителям городка глаза на одно обстоятельство, о котором они прежде и не подозревали, а именно, что Лора не родная дочь Хокинсов.
Сплетники и сплетницы тотчас принялись за работу. В записках только и было сказано, что настоящие родители Лоры неизвестны, но это ничуть не смущало кумушек – напротив, только развязало им языки. Они сами заполнили все пробелы и придумали недостающие сведения. Вскоре в городе только и разговору было, что о тайне происхождения Лоры и о ее прошлом. Ни одна история не походила на другую, но зато все они были одинаково подробны, исчерпывающи, таинственны и занимательны, и все сходились на одном главном выводе: на тайне происхождения Лоры лежит подозрительная, если не сказать позорная тень. На Лору начали поглядывать косо, отводить глаза при встрече, покачивать головой и чуть ли не показывать на нее пальцем. Все это чрезвычайно озадачивало девушку, но через некоторое время вездесущие сплетни дошли и до ее ушей, и она сразу все поняла. Гордость ее была уязвлена. Сперва она просто удивилась и ничему не поверила. Она уже собралась было спросить у матери, есть ли в этих слухах хоть доля правды, но по зрелом размышлении решила воздержаться. Вскоре ей удалось выяснить, что в записках майора Лэкленда упоминались письма, которыми он, по-видимому, обменивался с судьею Хокинсом. В тот же день она без труда составила план действий.
Вечером Лора подождала в своем комнате, пока все в доме затихло, а затем пробралась на чердак и принялась за поиски. Она долго рылась в ящиках, где хранились покрытые плесенью деловые бумаги, не содержавшие ничего интересного для нее, пока не наткнулась на несколько связок писем. На одной была надпись: "Личное", и в ней она наконец нашла то, что искала. Отобрав шесть-семь писем, она уселась и принялась с жадностью читать их, не замечая, что дрожит от холода.
Судя по датам, все письма были пяти-, семилетней давности. Написаны они были майором Лэклендом мистеру Хокинсу. Суть их сводилась к тому, что какой-то человек из восточных штатов справлялся у майора Лэкленда о потерянном ребенке и его родителях, – предполагалось, что этим ребенком могла быть Лора.
Некоторых писем явно не хватало, так как имя незнакомца, наводившего справки, нигде не упоминалось; лишь в одном письме была ссылка на "джентльмена с аристократическими манерами и приятными чертами лица", словно и автор писем и адресат часто говорили о нем и оба знали, о ком идет речь.
В одном письме майор соглашался с мистером Хокинсом в том, что джентльмен напал, по-видимому, не на ложный след, но соглашался также и с тем, что лучше молчать, пока не появятся более убедительные доказательства.
В другом письме говорилось, что, "увидев портрет Лоры, бедняга совсем расстроился и заявил, что это несомненно она".
В третьем письме сообщалось:
"У него, видимо, никого нет на свете, и все его мысли так заняты розысками, что, если они обманут его ожидания, он, боюсь, не переживет этого; я уговорил его обождать немного и поехать вместе со мной на Запад".
В одном из писем был такой абзац:
"Сегодня ему лучше, завтра – хуже, но мысли его все время мешаются. За последние недели в ходе его болезни наблюдаются явления, которые поражают сиделок, но, возможно, не поразят вас, если вы читали медицинскую литературу. Дело вот в чем: когда он бредит, к нему возвращается память, но стоит ему прийти в себя, как все воспоминания угасают, – точь-в-точь, как в случае с Канадцем Джо, который в тифозном бреду свободно говорил на patois* своего детства, но сразу забывал его, как только кончался бред. У нашего страдальца память всегда обрывается на событиях, предшествовавших взрыву парохода: он помнит только, как отправился с женой и дочкой вверх по реке, смутно припоминает гонку пароходов, но в этом он уже не уверен; он не может вспомнить даже названия парохода, на котором плыл. Из его памяти выпал целый месяц или даже больше, – здесь он не помнит решительно ничего. Я, конечно, и не думал ему подсказывать; но в бреду все всплывает: и названия обоих пароходов, и обстоятельства взрыва, и подробности его удивительного спасения, вернее – до той минуты, когда к нему подошел ялик (он держался за гребное колесо горящего судна) и упавшее сверху бревно ударило его по голове. Но подробнее напишу о том, как он спасся, завтра или через день. Врачи, естественно, не позволяют мне сказать ему, что наша Лора – его дочь, это можно сделать позднее, когда он как следует окрепнет. Вообще-то его болезнь не опасна, и доктора считают, что он скоро поправится. Но они настаивают на том, чтобы после выздоровления он немного попутешествовал, и рекомендуют прогулку по морю. Они надеются, что им удастся убедить его поехать, если мы ничего пока не скажем ему и пообещаем устроить встречу с Лорой только после его возвращения".
______________
* Диалект (франц.).
В последнем из писем были следующие слова:
"Все это совершенно необъяснимо: тайна его исчезновения по-прежнему окутана непроницаемым мраком.
Я искал его везде и всюду, расспрашивал каждого встречного, но все напрасно: следы его теряются в том самом нью-йоркском отеле. Вплоть до сегодняшнего дня мне не удалось получить каких-либо сведений о нем; не думаю, что он отплыл на пароходе, так как его имени нет в книгах ни одного из пароходных агентств Нью-Йорка, Бостона или Балтимора. Остается только радоваться, что мы не проговорились. Лора сохранила в вашем лице отца, и для нее будет лучше, если мы навсегда забудем об этой истории".
Больше Лоре ничего узнать не удалось. Сведя воедино разрозненные замечания, она нарисовала себе весьма туманный портрет темноволосого и темноглазого мужчины лет сорока трех – сорока пяти, представительного, но прихрамывающего на одну ногу, – на какую, из писем понять было нельзя. И эта смутная тень должна была заменить ей образ отца. Она перерыла весь чердак, надеясь найти недостающие письма, но напрасно. Вероятнее всего, их сожгли; она не сомневалась, что и отысканные ею письма подверглись бы той же участи, не будь мистер Хокинс рассеянным мечтателем: когда он получил их, то, наверное, был поглощен очередным увлекательным планом.
Опустив письма на колени, она долго сидела в раздумье, не замечая, что мерзнет. Она чувствовала себя заблудившимся путником, пробирающимся по незнакомой тропе в надежде на избавление, но ночь застигла его у реки, через которую нет никакой переправы, а противоположный берег, если он и есть, затерялся в непроглядной тьме. "Почему я не разыскала этих писем хотя бы на месяц раньше! – думала она. – А теперь мертвецы унесли свои тайны в могилу..." Безысходная тоска овладела ею. В груди нарастало неясное ощущение обиды. Как она несчастна!
Лора как раз достигла того романтического возраста, когда девушка, узнав, что с ее прошлым связана какая-то тайна, испытывает щемящую, но сладкую грусть, которая несет в себе утешение; никакое другое открытие не может вызвать такого чувства. У Лоры было вполне достаточно здравого смысла, но она была человеком, а человеку свойственно хранить где-то в тайниках души крупицу романтизма. Всякий человек всю жизнь видит в себе героя, но с годами он развенчивает прежние кумиры и начинает поклоняться другим – как ему кажется, более достойным.
Томительные бессонные ночи у постели больного и пережитая утрата, упадок сил, который явился естественной реакцией на неожиданно наступившую бездеятельность, – все это сделало свое дело, и Лора особенно легко стала поддаваться романтическим впечатлениям. Она чувствовала себя героиней романа, у которой где-то есть таинственный отец. Она не была уверена, что ей действительно хочется его найти и тем самым все испортить, но, следуя романтическим традициям, нужно было хотя бы попытаться разыскать его; и Лора решила при первом удобном случае начать поиски. "Нужно поговорить с миссис Хокинс", – пришла ей в голову прежняя мысль; и, как обычно в таких случаях, в ту же минуту на сцене появилась сама миссис Хокинс.
Она сказала Лоре, что знает все: знает, что Лора раскрыла тайну, которую мистер Хокинс, старшие дети, полковник Селлерс и она сама хранили так долго и верно, – и, заплакав, добавила, что беда никогда не приходит одна: теперь она лишится любви дочери, и сердце ее будет разбито. Горе миссис Хокинс так тронуло Лору, что из сострадания она на минуту почти забыла собственные горести. Наконец миссис Хокинс проговорила:
– Скажи мне хоть слово, дитя мое, не отталкивай меня. Забудь все, назови меня снова мамой. Ведь я так долго тебя любила, и у тебя нет другой матери. Перед богом – я твоя мать, и ничто тебя не отнимет у меня!
Все преграды рухнули перед этой мольбой. Лора бросилась на шею матери.
– Да, да! – воскликнула она. – Ты моя мама и останешься ею навсегда. Все будет как раньше. С этой минуты никакие глупые сплетни, ничто на свете не сможет разлучить нас или отдалить друг от друга!
Всякое чувство отчуждения между Лорой и миссис Хокинс мгновенно исчезло. Теперь их взаимная любовь казалась еще более совершенной, более полной, чем прежде. Немного погодя они спустились вниз и, усевшись у камина, долго и взволнованно говорили о прошлом Лоры и о найденных ею письмах. Выяснилось, что миссис Хокинс ничего не знала о переписке мужа с майором Лэклендом. С обычной для него заботливостью мистер Хокинс постарался оградить жену от всех огорчений, которые могла причинить ей эта история.
Лора пошла спать, чувствуя, что утеряла значительную долю своей романтической возвышенной печали, зато вновь обрела душевный покой. Весь следующий день она была задумчива и молчалива, но никто не обратил на это особого внимания – все ее близкие переживали кончину мистера Хокинса, всем было так же грустно, как и ей. Клай и Вашингтон так же любили сестру и восхищались ею, как прежде. Для младших братьев и сестер ее великая тайна была новостью, но и их любовь ничуть не стала меньше от этого поразительного открытия.
Если бы местные сплетники успокоились, то, весьма вероятно, все постепенно вошло бы в прежнюю колею и тайна рождения Лоры утратила бы в ее глазах весь свой романтический ореол. Но сплетники не могли и не хотели успокаиваться. День за днем они навещали Хокинсов, якобы для того, чтобы выразить сочувствие, и старались выведать что-нибудь у матери или у детей, видимо даже не понимая, сколь неуместны и бестактны их расспросы. Они же никого не обижают – им только хочется кое-что узнать! Обывателям всегда только хочется кое-что узнать...
Хокинсы всячески уклонялись от расспросов, но это служило лишь еще одним доказательством правоты тех, кто говорил: "Если "герцогиня" дочь достойных родителей, почему Хокинсы не желают это доказать? Почему они так цепляются за шитую белыми нитками историю о том, что они подобрали ее после взрыва парохода?"
Преследуемая нескончаемым потоком сплетен и расспросов, Лора снова предалась печальным размышлениям. По вечерам она подводила итог всем услышанным за день намекам, злым и клеветническим измышлениям и погружалась в раздумье. Вслед за раздумьем приходили гневные слезы, а порой у нее вырывались озлобленные восклицания. Шли минуты, и она успокаивалась, утешая себя презрительным замечанием, вроде следующего: