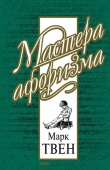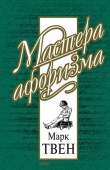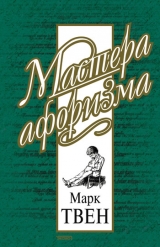
Текст книги "Марк Твен - Собрание сочинений в 12 томах-Позолоченный век"
Автор книги: Марк Твен
Соавторы: Чарльз Дэдли Уорнер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
После нескольких встреч с Вашингтоном сенатор предложил ему поехать с ним в столицу в роли его личного секретаря и секретаря его комиссии; предложение было принято с восторгом.
Воскресенье застало Дилуорти еще в Хоукае. Он посетил церковь и поднял дух достойного и ревностного пастыря своим сочувствием к его трудам и расспросами о благочестии паствы. Оказалось, что паства не очень благочестива, и добряк священник с грустью подумал о том, насколько ему было бы легче, будь у него поддержка такого человека, как сенатор Дилуорти.
– Я рад был убедиться, дорогой сэр, – сказал сенатор, – что вы разъясняете основополагающие догматы веры. Только из-за пренебрежения к догматам в нашей стране столько людей отходит от церкви! Я рад был бы увидеть вас в Вашингтоне – священником при сенате, например.
Старик невольно почувствовал себя польщенным, и можно ли удивляться, что впоследствии среди безрадостных своих трудов он часто начинал мечтать о том времени, когда его, быть может, вызовут в Вашингтон и назначат священником при сенате, – и на душе у него сразу становилось светлее. Во всяком случае, похвала сенатора сослужила ему хоть одну службу: она подняла его в глазах жителей Хоукая.
В это воскресенье Лора пошла в церковь одна, и домой ее провожал мистер Брайерли. Часть пути они прошли вместе с генералом Босуэлом и сенатором Дилуорти, и генерал представил молодых людей сенатору. У Лоры были свои причины искать знакомства с сенатором, а Дилуорти был не из тех, кто мог остаться безразличным к ее чарам. За время короткой прогулки скромная красавица так понравилась сенатору, что он заявил о своем намерении нанести ей визит на другой же день. Гарри выслушал его слова довольно мрачно, а когда сенатор отошел, обозвал его "старым дураком".
– Фи, – недовольно протянула Лора, – неужели вы ревнуете? Он очень приятный собеседник. А вас он назвал многообещающим молодым человеком.
На следующий день сенатор и в самом деле нанес Лоре визит и ушел, окончательно убедившись в собственной неотразимости. Во время пребывания в Хоукае он вновь и вновь встречался с Лорой и все больше подпадал под обаяние ее красоты, которое испытывал на себе каждый, кому случалось увидеть ее хоть раз.
Пока сенатор оставался в городе, Гарри был вне себя от ярости; он утверждал, что женщины готовы бросить любого человека ради более крупной добычи и что его неудача объясняется только появлением сенатора. Красота Лоры доводила беднягу до безумия, и от досады он готов был размозжить себе голову. Возможно, Лоре и доставляли удовольствие его муки, но она утешала его ласковыми словами, которые только разжигали его пыл, а она улыбалась про себя, вспоминая, что, твердя ей о своей любви, он ни разу не заговорил о браке... Должно быть, этот пылкий юноша просто еще не думал о женитьбе... Во всяком случае, когда он наконец уехал из Хоукая, он был так же далек от этой мысли, как и раньше. Но страсть настолько захватила его, что теперь от него можно было ожидать любого, самого отчаянного поступка.
Лора простилась с ним с нежностью и сожалением, которые, однако, ничуть не нарушили ни ее душевного покоя, ни ее планов. Приезд сенатора Дилуорти был для нее гораздо важнее: со временем он принес те плоды, которых она ждала так долго, – приглашение приехать в столицу на время зимней сессии конгресса в качестве гостьи его семьи.
ГЛАВА XXI
РУФЬ В СЕМИНАРИИ.
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ, НОВЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
Unusquisque sua noverit ire via.
Propert., Eleg., II, 25*
______________
* Пусть каждый идет по пути, который избрал себе сам.
Проперций. Элегии, II, 25 (лат.).
...Так вознеситесь выше,
Стремитесь к цели, бейтесь за свободу!
Подруги, знанья – не родник запретный,
Так пейте же, пока привычки рабства,
Грехи кичливости и болтовни пустой
И сплетен злых – не сгинут!
"Принцесса"
Неизвестно, наука ли медицина, или всего лишь способ кормиться за счет человеческого невежества, – однако Руфь еще до окончания первого семестра поняла, что наравне со знаниями, которые находишь в медицинском учебнике, ей надо знать еще и многое другое и что без более основательного общего образования ей никогда не осуществить своих чаяний.
– А знает ли что-нибудь лечащий вас врач? – спросил ее однажды один старый и опытный медик. – Я говорю не о медицине, а о знаниях вообще. Достаточно ли он умен и образован в широком смысле этого слова? Если он ничего не знает, кроме медицины, то вполне возможно, что не знает и ее.
Лекции и утомительные лабораторные занятия уже начали сказываться на слабом здоровье Руфи, а лето принесло с собой только усталость и боязнь всякого умственного напряжения.
При таком душевном и физическом состоянии Руфи спокойствие и тишина отцовского дома и малозанимательное общество родных угнетали ее больше чем когда-либо.
Теперь она куда внимательнее читала восторженные письма Филипа о его жизни на Западе и мечтала о таких же увлекательных приключениях, о встречах с людьми, столь непохожими на всех, кто ее окружает, и о которых Филип писал ей то с добродушной усмешкой, то с нескрываемым презрением. Но зато он узнает мир со всем, что в нем есть хорошего и плохого, как и подобает всякому, кто хочет чего-либо добиться в жизни.
"Но что может сделать женщина, связанная по рукам и ногам условностями, традициями и обычаями, от которых почти невозможно освободиться?" – писала ему в ответ Руфь. Филип подумал про себя, что когда-нибудь он приедет и все-таки освободит ее, но писать об этом не стал, так как чувствовал, что Руфь мечтает об ином освобождении и что ей надо на собственном опыте проверить, чего же хочет ее сердце.
Филип отнюдь не был философом, но он придерживался старозаветной точки зрения какие бы теории ни придумывала себе женщина, она рано или поздно примирится с мыслью о семье и браке. И он в самом деле знал одну такую женщину, – а более благородных натур, чем она, он никогда не встречал, которая обрекла себя на одиночество и свято верила, что это и есть ее призвание, но растаяла от соприкосновения с теплом семейного очага, как тает снег под лучами солнца.
Ни своим домашним, ни друзьям Руфь ни разу не пожаловалась на усталость и не выразила сомнения в своей способности достигнуть намеченной цели. Но мать ясно видела, как ей трудно, – неизменная веселость и напускная бодрость Руфи не могли обмануть материнское сердце миссис Боултон. Мать понимала, что Руфи необходима перемена занятий и обстановки, и, возможно, надеялась, что такая перемена, дающая возможность более глубокого познания жизни, уведет Руфь с избранного ею непосильного пути.
Поэтому с общего согласия было решено, что осенью Руфь поедет учиться в другой город. Она выбрала известную семинарию в Новой Англии: Филип говорил ей, что там учатся и юноши и девушки и что программа почти равна университетской. Вот туда-то она и направилась в сентябре, начав второй раз за один и тот же год новую для нее жизнь.
Семинария была главной достопримечательностью Фолкила, городка с населением в две-три тысячи человек. В этом процветающем учебном заведении насчитывалось триста студентов и большой штат преподавателей, среди которых были и женщины; длинный ряд старых, почтенных зданий семинарии выстроился вдоль тенистой городской площади. Студенты жили и столовались в частных домах, – и, таким образом, если семинария способствовала материальному благополучию города, то город делал все, чтобы студенты чувствовали здесь себя как дома и не лишались благотворного влияния семейного очага. Ведь влияние семейного очага принято считать благотворным.
По совету Филипа Руфь поселилась в семье, которая – редчайшее исключение как в жизни, так и литературе – никогда не знала лучших дней. Может быть, стоит упомянуть, что семейство Монтегю должно было прибыть в Америку на "Мейфлауэре", но из-за болезни ребенка оно задержалось в Делт-Хейвне. В Массачусетскую бухту их доставил уже другой корабль и, таким образом, в отличие от потомков пассажиров "Мейфлауэра", их потомки не удостоились чести принадлежать к самозваной аристократии, ведущей свое происхождение от первых поселенцев. Не обремененные грузом этой мнимой знатности, представители рода Монтегю со дня высадки упорно трудились и ко времени нашего рассказа достигли столь высоких степеней благополучия, каких никогда прежде не достигали. На протяжении двух столетий строгая пуританская мораль способствовала выработке их характера, но, сохранив моральную стойкость и чистоту, они сумели отбросить пуританскую узость взглядов и ныне процветали в благодетельном климате современных веяний. Сквайр Оливер Монтегю – адвокат, удалившийся от дел и возвращавшийся к своей профессии лишь в особых случаях, жил в старомодном приземистом особняке, построенном в стиле Новой Англии в четверти мили от колледжа. Особняком он назывался потому, что стоял вдалеке от всякого жилья, среди широко раскинувшихся полей; от дороги к нему вела тенистая аллея, а из его окон, выходящих на запад, открывался чудесный вид на маленькое озеро, к пологим берегам которого спускались задумчивые рощи. Сам дом был простой, обыкновенный, зато достаточно обширный, чтобы предоставить множеству гостей бесхитростное, но радушное гостеприимство.
Семейство Монтегю состояло из сквайра и его жены, двух старших детей сына и дочери, живших своими семьями отдельно, сына, учившегося в Кембридже, еще одного сына, посещавшего местную семинарию, и дочери Алисы, которая была примерно на год старше Руфи. Семья жила безбедно, не позволяя себе ничего лишнего и неизменно радуясь всякому скромному развлечению. Это была та золотая середина, которой люди так редко достигают, а достигнув, еще реже довольствуются, не желая большего.
Руфь не видела здесь той роскоши, как у себя дома, но культурные и духовные запросы этой семьи, а также широкий круг их интересов произвели на нее большое впечатление. Каждая комната в доме походила на библиотеку, всюду стояли книжные шкафы и полки, и на всех столах лежали новые книги и свежие номера газет и журналов. На залитых солнцем подоконниках стояли цветы, а на стенах висели со вкусом подобранные гравюры, среди которых яркими цветными пятнами выделялись картины, написанные маслом или акварелью; рояль был всегда открыт и завален нотами; повсюду виднелись заморские безделушки и фотографии – память о совершенных семьею путешествиях. Иногда считают, что отсутствие в доме расставленных по углам и полочкам сувениров – всяких разноцветных раковин, индийских и китайских божков и никому не нужных лакированных шкатулок – свидетельствует об отсутствии должного интереса к жизни других стран и народов, но, быть может, такое мнение ошибочно.
Так или иначе, в этот гостеприимный дом жизнь врывалась широким потоком: здесь всегда так охотно говорили о злободневных новостях, о новых книгах и авторах, о бостонском радикализме и нью-йоркской культуре, о добродетелях конгресса, что мелким сплетням просто не было места.
Все тут было так ново для Руфи, что она, казалось, попала в другой мир, где впервые испытала ощущение полной свободы и духовного подъема. И она с небывалым доселе удовольствием погрузилась в занятия; когда же ей нужен был отдых, она всегда находила его в кругу тех, кто собирался в милом ее сердцу доме Монтегю.
"Странно, – писала она Филипу в одном из своих редких писем, – что вы никогда не рассказывали мне об этих очаровательных людях и только мимоходом упоминали об Алисе; а ведь она благороднейшая натура, такая самоотверженная, и душа всей семьи. Каких только талантов у нее нет, она все умеет! А ее сдержанный юмор, ее своеобразный взгляд на вещи! И притом всегда уравновешенна и часто даже серьезна, – таких умниц нигде, кроме Новой Англии, не найдешь! Мы с нею будем большими друзьями". Филип же не находил в семье Монтегю ничего примечательного: он знает десятки таких девушек, как Алиса, думал он, но только одну такую Руфь.
Девушки сразу же подружились. Для Алисы Руфь была своего рода открытием, порождением совершенно незнакомой ей среды: во многом сущий ребенок, во многом – чересчур взрослая; но нужно признаться, что и Руфь в свою очередь иногда пыталась заглянуть в душу Алисы своими вдумчивыми серыми глазами и мысленно спрашивала: какая у нее цель в жизни, стремится ли она к чему-нибудь или ей достаточно просто жить как сейчас? Сама Руфь с трудом могла представить себе жизнь без какой-то определенной цели и не сомневалась, что уж она-то преодолеет все и станет врачом, как решила.
– Значит, ты знакома с Филипом Стерлингом, – сказала однажды Руфь, когда девушки сидели за шитьем. Руфь – да простит ей бог – никогда не занималась рукодельем, да и за шитье старалась браться как можно реже.
– Да, мы с ним старые друзья. Когда Филип учился в университете, он часто приезжал в Фолкил. А когда его однажды временно исключили, он жил здесь целый семестр.
– Исключили?
– Ну да, временно: у них там вышли какие-то неприятности. Его здесь все очень любили. А с моим отцом они просто подружились. Отец говорит, что у Филипа голова набита всякой ерундой, потому он и попадает во всякие истории, но что он на редкость славный малый и со временем из него выйдет толк.
– А тебе не кажется, что он немного ветреный?
– Никогда об этом не думала, – ответила Алиса, подняв глаза на Руфь. Конечно, как и все студенты, он постоянно влюблялся то в одну девушку, то в другую. Он, бывало, приходил ко мне поверять свои тайны, и настроение у него было очень скверное...
– А почему именно к тебе? – допытывалась Руфь. – Ведь ты моложе его?
– Право, не знаю. Он проводил у нас много времени. Однажды, во время пикника на берегу озера, моя сестра Милли чуть не утонула; он ее спас, рискуя жизнью, и нам всем хотелось, чтобы он бывал у нас. А может быть, он думал, что раз он спас одну сестру, то имеет полное право обращаться за помощью к другой. Может быть...
Дело в том, что Алиса располагала всех к доверию, она никогда не выдавала чужих тайн и для всех находила слово участия. Бывают такие люди все мы их встречали, – к которым человеческие сокровенные мысли, переживания и тревоги текут сами собой, как реки к тихому озеру.
Но поскольку эта книга – не история Фолкила или семейства Монтегю, хотя оба они вполне достойны такой чести, наше повествование не может уделить им слишком много места. Если читателю доведется побывать в Фолкиле, то ему, несомненно, покажут и дом Монтегю, где жила Руфь, и тропинку, по которой она ходила полями в семинарию, и древнюю церквушку с треснувшим колоколом.
Юная квакерша пользовалась всеобщей любовью в небольшом обществе Фолкила, и ни одно сколько-нибудь значительное событие или развлечение не обходилось без ее участия. Если бы даже обстоятельства не заставили жителей Фолкила впоследствии заговорить о Руфи, о ней все равно бы долго помнили: было что-то очень своеобразное в этой с виду бесхитростной и вместе с тем глубокой натуре, в способности Руфи по-детски веселиться, в ее приветливости и общительности, которая нередко сменялась сосредоточенной задумчивостью.
К удивлению Алисы, Руфь погрузилась в скромные светские увеселения Фолкила с увлечением, которое должно было быть чуждым человеку, из самых высоких побуждений посвятившему свою жизнь серьезному делу. Сама Алиса была очень общительна, но здешнее общество казалось ей малоинтересным, а ухаживания благовоспитанных молодых людей вовсе не привлекали ее. Руфь, по-видимому, смотрела на вещи иначе, так как сначала она развлекалась просто из любопытства, потом с интересом – и наконец с самозабвением, какого от нее никто не ожидал. Вечеринки, пикники, лодочные гонки, прогулки при луне, походы за орехами в осенние леса, – по мнению Алисы, это был сущий вихрь удовольствий. Явная склонность Руфи к обществу симпатичных молодых людей, болтавших о всяких пустяках, служила Алисе бесконечной темой для шуток.
– Это что – все твои "вздыхатели"? – спрашивала она.
Руфь весело смеялась, потом опять становилась серьезной. И, может быть, думала о том, что, кажется, она сама не знает, чего хочет.
Попробуйте вырастить утку в самом сердце Сахары и потом принесите ее к Нилу: она непременно поплывет.
Когда Руфь уезжала из Филадельфии, никому и в голову не приходило, что она способна увлечься жизнью, столь непохожей на ту, о которой сама как будто мечтала, и при этом чувствовать себя счастливой. Да и кто может предсказать, как будет вести себя женщина при тех или иных обстоятельствах? Романисты потому обычно и терпят неудачи в своих попытках изобразить поведение женщины, что они заставляют ее поступать так, как при подобных обстоятельствах поступала какая-то известная им особа. В этом-то и ошибка: всякая женщина поступает по-своему. Именно потому, что поведение женщины всегда полно неожиданностей, она всегда – интереснейшая героиня романа и в собственных и в чужих глазах.
Прошла осень, за ней зима, и нельзя сказать, чтобы Руфь за это время успела отличиться в Фолкилской семинарии своими успехами; однако это ее ничуть не тревожило и ничуть не мешало ей наслаждаться сознанием того, что в ней пробудились какие-то новые, неведомые прежде силы.
ГЛАВА XXII
В ФОЛКИЛЕ. ФИЛИП ВЛЮБЛЕН, ГАРРИ ОЧЕНЬ СТАРАЕТСЯ
Wohl giebt es im Leben kein susseres Gluck,
Als der Liebe Gestandniss im Liebchen's Blick;
Wohl giebt es im Leben nicht hoher Lust,
Als Freuden der Liebe an liebender Brust.
Dem hat nie das Leben freundlich begegnet,
Den nicht die Weihe der Liebe gesegnet.
Doch der Liebe Gluck, so himmlisch, so schon.
Kann nie ohne Glauben an Tugend bestehn.
Korner*.
______________
* Нет большего счастья, чем взором своим
Во взоре любимой прочесть: ты любим;
И радости большей вовек не найти,
Чем радость любви, что теснится в груди.
Любовь – величайшее благо на свете,
Тот счастья не знал, кто его не изведал.
Но счастье любви может там лишь цвесть,
Где рядом цветут и честность и честь. – Кернер (нем.).
О ke aloha ka mea i oi aku ka maikai
mamua о ka umeki poi a me ka ipukaia*.
______________
* Любовь манит нас больше,
чем жареная рыба или миска слабого поя (гавайск.).
Зимой произошло событие, вызвавшее необычайный интерес у всех обитателей дома Монтегю и у поклонников обеих молодых девиц.
В отеле "Сассакус" остановились двое молодых людей, приехавших с Запада.
В Новой Англии принято называть гостиницы именем какого-нибудь давно скончавшегося индейца; дорогой покойник, разумеется, не имел никакого касательства к гостиницам, но его воинственное имя должно внушать чувство почтения робкому путнику, ищущему приюта, и переполнять его сердце благодарностью к доброму, благородному портье, который отпустит его восвояси, не сняв с него скальп.
Приехавшие с Запада джентльмены не были ни студентами Фолкилской семинарии, ни лекторами по физиологии, ни агентами страховой компании. Дальше этих трех догадок фантазия тех, кто прочел в книге записей имена новых постояльцев – Филип Стерлинг и Генри Брайерли из Миссури, – не простиралась. Сами же приезжие были молодцы хоть куда, об этом спорить не приходилось: их мужественные обветренные лица и непринужденные уверенные манеры произвели впечатление даже на самого портье гостиницы "Сассакус". Мистер Брайерли сразу показался ему человеком весьма состоятельным, который ворочает огромными капиталами. Гарри умел вскользь упомянуть о капиталовложениях на Западе, о железнодорожных магистралях, фрахтовых операциях и о прямой линии, идущей к Южной Калифорнии через индейские территории; причем он делал это так, что каждое, даже самое случайное его слово приобретало особый вес.
– Городок у вас довольно приятный, сэр, – сказал Гарри портье, – а такой уютной гостиницы я нигде, кроме Нью-Йорка, не видел. Если вы сможете подобрать нам достаточно удобный двух– или трехкомнатный номер, мы, пожалуй, проживем у вас несколько дней.
Люди, подобные Гарри, везде берут от жизни все лучшее, и наш услужливый мир охотно помогает им в этом. Филип вполне удовлетворился бы и менее дорогостоящими апартаментами, но широкая натура Гарри не признавала никаких ограничений.
Зимой железнодорожные изыскания и земельные спекуляции в Миссури заглохли, и молодые люди воспользовались затишьем в делах, чтобы съездить в восточные штаты; Филип хотел выяснить, нет ли у его друзей-подрядчиков желания уступить ему небольшой участок на ветке Солт-Лик – Пасифик, а Гарри намеревался развернуть перед своим дядюшкой перспективы создания нового города у Пристани Стоуна и добиться правительственных ассигнований на работы по развитию судоходства на Гусиной Протоке и на строительство речного порта. Гарри захватил с собой карту этой могучей реки: тут был и порт с верфями и причалами, у которых теснилось множество пароходов, и густая сеть железных дорог вокруг, и огромные элеваторы на берегу реки, иначе говоря, все, что могло породить воображение полковника Селлерса и мистера Брайерли вместе взятых. Полковник ничуть не сомневался, что Гарри пользуется на Уолл-стрит и среди конгрессменов достаточным влиянием, чтобы добиться осуществления их замыслов, и, ожидая его возвращения в своем убогом домишке в Хоукае, с беспредельной щедростью кормил изголодавшуюся семью блистательными надеждами.
– Не рассказывайте им слишком много, – говорил полковник своему компаньону. – Достаточно, чтобы у них был хоть небольшой интерес в деле; любому конгрессмену, скажем, хватит земельного участка в пригороде Пристани Стоуна, но с маклерами придется, видимо, поделиться частью самого города.
Однако на Уолл-стрит Гарри не обнаружил предсказанного полковником Селлерсом рвения субсидировать работы на Пристани Стоуна (здесь такие карты были не в диковинку); что же касается ассигнования на развитие судоходства на реке Колумба, то дядюшка Гарри и некоторые маклеры смотрели на это дело более благосклонно и даже не прочь были основать для этой цели компанию. Ассигнование, если бы удалось его добиться, – это штука весьма осязаемая! Не все ли равно, на что оно предназначено: важно, чтобы деньги оказались у тебя в руках.
До начала этих немаловажных переговоров Филип уговорил Гарри прокатиться ненадолго в Фолкил; впрочем, особенно уговаривать его не пришлось, так как ради нового смазливого личика Гарри готов был в любую минуту предать забвению все земли Запада, и, надо признаться, он ухаживал за женщинами с такой легкостью, что это ничуть не мешало ему заниматься более серьезными делами. Разумеется, он не понимал, как мог Филип влюбиться в девушку, которая изучает медицину, но не возражал против поездки в Фолкил, уверенный, что там найдутся девушки, которым стоило бы посвятить недельку-другую.
В доме Монтегю молодых людей приняли с обычным гостеприимством и радушием.
– Рады снова видеть тебя! – прочувствованно воскликнул сквайр. – Добро пожаловать, мистер Брайерли, мы всегда рады друзьям Филипа.
– Нет на свете такого места, где мне было бы так хорошо, как у вас, разве только в родительском доме, – откликнулся Филип, оглядывая приветливое жилище сквайра и пожимая всем руки.
– Однако нам долго пришлось ждать, чтобы вы приехали и сказали нам об этом, – заметила Алиса с отцовской прямотой. – Подозреваю, что и нынешним приездом мы обязаны только вашему внезапному интересу к Фолкилской семинарии.
Лицо Филипа всегда выдавало его чувства; покраснел он и на этот раз. Но прежде чем он успел преодолеть смущение и что-либо ответить, вмешался Гарри:
– Теперь понятно, почему Фил хочет строить на Пристани Стоуна – это наш город в Миссури – семинарию, хотя полковник Селлерс настаивает на университете. У Фила, по-видимому, слабость к семинариям.
– А у твоего Селлерса слабость к университетам. Лучше бы строил начальные школы, – возразил Филип. – Видите ли, мисс Алиса, полковник Селлерс – большой друг нашего Гарри – вечно пытается построить дом, начиная с крыши.
– Думаю, что на бумаге выстроить университет ничуть не труднее, чем семинарию, зато выглядит он намного солиднее, – глубокомысленно ответил Гарри.
Сквайр засмеялся и сказал, что это совершенно верно. Почтенному джентльмену не понадобилось длинного разговора с полными надежд владельцами будущего города, он сразу понял, что такое Пристань Стоуна.
Пока Филип подбирал слова, чтобы задать вопрос, казавшийся ему необычайно трудным, дверь неслышно отворилась, и вошла Руфь. Оглядев собравшихся, она с искрящимися глазами и веселой улыбкой подошла к Филипу и пожала ему руку. Она держалась так непринужденно, так искренне и сердечно, что наш герой Дальнего Запада вдруг почувствовал себя робким и неловким мальчишкой.
На протяжении долгих месяцев мечтал он об этой встрече и сотни раз рисовал ее себе, но никогда не представлял именно такой. Ему думалось, что они встретятся неожиданно, например, когда она будет возвращаться после занятий домой или, ни о чем не подозревая, войдет в комнату, где он уже ждет ее; и тут она обязательно воскликнет: "Фил!" – и умолкнет и, может быть, покраснеет, а он, сдержанный, хотя и взволнованный встречей, ласково успокоит ее, выразительно возьмет за руку, а она робко поднимет на него глаза и после долгих месяцев разлуки, может быть, позволит ему... Боже! Сколько раз он мечтал об этой минуте и спрашивал себя, какой будет эта встреча! Но случилось то, чего он меньше всего ожидал: смутился он, а не она, да еще отчего – оттого, что его встретили сердечно и задушевно!
– Мы слышали, что вы остановились в "Сассакусе", – заговорила Руфь. А это, наверное, ваш друг?
– Прошу прощения, – кое-как выговорил наконец Филип, – да, это мистер Брайерли, о котором я вам писал.
Руфь дружески поздоровалась с Гарри. Филип и не ждал иного отношения к своему другу, хоть его и задело, что она поздоровалась с ними обоими совершенно одинаково; Гарри же принял это за обычную дань, воздаваемую ему прекрасным полом.
После расспросов, как они доехали и как им жилось на Западе, разговор стал общим; вскоре Филип обнаружил, что он беседует со сквайром о земельных участках, железных дорогах и на другие темы, на которых ему трудно было сосредоточиться, так как до его слуха доносились обрывки оживленного разговора между Руфью и Гарри; он слышал такие слова, как "Нью-Йорк", "опера", "прием", и понял, что Гарри дал волю своей фантазии и пустился в подробное описание светской жизни.
Гарри знал все, что можно знать о театре, артистических уборных и закулисном мире (так, по крайней мере, говорил он сам); к тому же он знал довольно много опер и умел увлекательно рассказывать их сюжет, вскользь упоминая, что вот в этом месте вступает сопрано, а в этом бас, и тут же принимался напевать первые такты их арий: та-ра, та-ра, тим-там. Потом он давал понять, что совершенно не удовлетворен тем, как бас исполнял речитатив ("там внизу, средь трупов хладных"), и очень мило, с непринужденной легкостью разбирал всю оперу, между тем как не смог бы пропеть до конца ни одной арии даже под страхом смерти, – впрочем, если бы и попытался, то пропел бы непременно фальшиво, так как слуха у него не было. Но он обожает оперу, держит ложу и по временам заглядывает в нее, чтобы прослушать любимую сцену или встретиться со своими светскими друзьями. Если Руфь когда-нибудь приедет в Нью-Йорк, он будет счастлив отдать свою ложу ей и ее друзьям! Разумеется, Руфь была в восторге от его любезности.
Когда она рассказала об этом Филипу, он лишь сдержанно улыбнулся и выразил надежду, что ей повезет и что, когда она приедет в Нью-Йорк, ложа не окажется уже отданной на этот вечер кому-нибудь другому.
Сквайр уговаривал молодых людей остановиться у него и непременно хотел послать за их вещами в гостиницу; Алиса поддержала отца, но у Филипа были свои причины отказаться. Однако гости остались ужинать, а вечером Филип целый час беседовал с Руфью наедине, радуясь, что она, как и прежде, разговаривает с ним без всякого стеснения, рассказывает о своих планах и занятиях в Филадельфии, расспрашивает о его жизни на Западе и надеждах на будущее с неподдельным интересом, совсем как сестра; правда, это было не совсем приятно Филипу, ему хотелось бы услышать в ее тоне иные нотки. Но в мечтах и планах Руфи Филип не уловил даже намека на то, что она как-то связывает свое будущее с ним, тогда как сам он не мог и шагу ступить без мысли о Руфи и все его планы так или иначе касались ее; ничто не удовлетворяло его, если она не была к этому причастна. Богатство, доброе имя имели для него цену лишь в той мере, в какой они что-то значили для Руфи; иногда ему казалось, что, не живи Руфь на земле, он сбежал бы в какой-нибудь забытый богом и людьми уголок и доживал бы там свои дни в полном одиночестве.
– Я надеялся, – говорил Филип Руфи, – сделать первый шаг на железной дороге и заработать хотя бы столько, чтобы можно было вернуться на Восток и заняться чем-нибудь, что мне больше по вкусу. Жить на Западе мне бы не хотелось. А вам?
– Я как-то не задумывалась об этом, – ничуть не смутясь, ответила Руфь. – Одна девушка, окончившая нашу семинарию, уехала в Чикаго, и у нее там довольно большая практика. Я еще не знаю, куда поеду. Мама будет в ужасе, если я стану разъезжать по Филадельфии в докторской двуколке.
Филип рассмеялся, представив себе эту картину.
– А теперь, после приезда в Фолкил, вам так же хочется этого, как прежде?
Филип и не подозревал, что попал не в бровь, а в глаз: Руфь сразу задумалась, сможет ли она лечить тех молодых людей и девушек, с которыми познакомилась в Фолкиле. Однако она не хотела признаваться даже самой себе, что ее взгляды на будущую профессию хоть сколько-нибудь переменились.
– Нет, здесь, в Фолкиле, я не собираюсь практиковать; но должна же я чем-то заняться, когда кончу курс. Почему бы не медициной?
Филипу хотелось объяснить ей почему; но если сама Руфь этого еще не поняла, то всякие объяснения бесполезны.
Гарри всегда чувствовал себя одинаково уверенно – поучал ли он сквайра Монтегю тому, как выгодно вкладывать капитал в штате Миссури, толковал ли о развитии судоходства на реке Колумба, о проекте более короткого железнодорожного пути от Миссисипи до Тихого океана, разработанном им и еще кое-кем в Нью-Йорке; потешал ли миссис Монтегю рассказами о своих поварских подвигах в лагере; или рисовал перед мисс Алисой забавные контрасты между жизнью в Новой Англии и на границе, откуда он приехал.
В обществе Гарри трудно было соскучиться: когда ему изменяла память, на помощь приходило воображение, и он рассказывал свои истории так, будто и сам в них верил – впрочем, возможно так оно и было. Алисе он показался очень занятным собеседником, и она с таким серьезным видом внимала его вымыслам, что он увлекся и хватил через край. Даже миллионер не сумел бы более непринужденно намекнуть в разговоре о своей холостяцкой квартире в городе и фамильном особняке на берегу Гудзона.