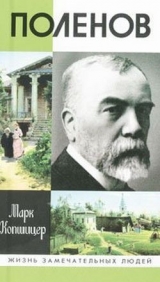
Текст книги "Поленов"
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
…Вера угасала. Ее оперировали раз, потом – второй; врачи «подавали надежду», но ясно было: дни ее сочтены. «Бедная, она сильно страдает от неумолкающего жару. Боже, какое тяжелое время», – пишет Поленов Елизавете Григорьевне 4 марта. А 7 марта 1881 года Вера умерла. Перед смертью она просила брата заняться, наконец, давно обещанной большой картиной из жизни Христа. Он обещал. Но пока что вспомнил о другой картине, той, которую задумал еще в Риме, когда смертельно заболела Лиза Богуславская, когда умерла Маруся Оболенская…
Тело Веры привезли в Москву и похоронили на Ваганьковском кладбище.
Вот теперь Поленов почти не уходил от Мамонтовых.
В мастерской работал над картиной «Больная». Лицо больной, как и лицо внучки на картине «Бабушкин сад», – это опять лицо Веры. Перед горем от потери Веры, такой еще молодой и ставшей теперь, после смерти, еще более близкой, померкло все, что он пережил раньше. Он писал «Больную», но чувствовал, что сейчас, когда горе еще так остро, он не может объективно оценить работу. И все же он продолжает ее и оканчивает – почти оканчивает – в 1881 году. Это одна из лучших его работ. Вся любовь к Вере, жалость к Лизе Богуславской, память о Марусе Оболенской, печаль об отце и «дяде» Чижове, обо всех этих родных, любимых, симпатичных ему людях, – все это нашло отражение в картине.
Лицу больной приданы, как уже было сказано, черты Веры. В постели молодая девушка (возраста скорее Маруси или Лизы) с иссушенным болезнью лицом; голова ее тонет в подушке, рука бессильно лежит поверх одеяла. И хотя лицо в тени, но явственны и перенесенные страдания, и попытка борьбы за жизнь, и то, что после этого наступило отчаяние, а теперь – примиренность.
В эскизе, сделанном в Риме, в ногах больной сидит другая девушка, читающая книгу. Сейчас на постели никого нет. Другая девушка (уже не Мотя Терещенко, а, вероятно, Лиля Поленова) стоит у ниши, погруженная в тяжелое раздумье. За окном сумерки, за окном догорает день, а здесь, в комнате, догорает жизнь. Ярко горит только керосиновая лампа, накрытая абажуром.
Здесь как-то не хочется говорить, даже думать о сложной колористической задаче, которую решил Поленов (да это и сделано уже в специальных исследованиях о его творчестве). Здесь видишь только, что книжка, которую читали больной, лежит на столике: она не только читать, но и воспринимать ничего не может. Она даже сама себе воды налить не может: графин стоит позади лампы, около нее только недопитый стакан.
И этот вечерний свет из окна, и свет лампы, и то, что свет этот выхватывает из тьмы только небольшой круг: столик, край постели, руку больной, – все это создает гнетущее впечатление обреченности, безнадежности. Да, конечно, жизнь продолжается. И после смерти этой девушки будет существовать эта лампа, и при ее свете другая девушка будет читать книгу, которую не успеют дочитать больной…
Поленов часто ходит на Ваганьковское кладбище, сажает цветы на Вериной могиле, ставит скамейку, решетку. В письмах он зовет Лилю с матерью уехать из Петербурга, где им вдвоем очень тяжело. «Побереги себя хоть для меня, – пишет он Лиле. – Один только и есть ты у меня близкий человек, не уходи же в себя, если что нужно, напиши, я все сделаю». Мария Алексеевна совсем выбита из колеи. Она полностью отдает себя в распоряжение детей. «Она желаний положительных не имеет, поэтому мы должны решить за нее…» – пишет Лиля.
В конце концов они все поселятся в Москве. Не сразу Как-то жутковато было тотчас после смерти Веры бросать насиженное гнездо, квартиру, где жили все вместе, большой семьей.
А Поленов почти все лето 1881 года провел в Абрамцеве. Там, как всегда, жизнь била ключом, там его любили. Там и веселились, и работали. Вот сейчас затеяли строить часовню или небольшую церквушку. Поленов рисовал проекты. Сначала сделал рисунок бревенчатой избушки-часовенки, каких много было в Олонецком крае, потом небольшой собор, но такой архитектуры, будто это большой храм с массивными стенами: это уже был стиль новгородских храмов, что-то вроде Спаса на Нередице.
В работу включился Васнецов, который тоже жил в Абрамцеве тем летом. Он-то и сделал, взяв за основу рисунок Поленова, окончательный проект церкви, именно по образцу новгородской Спаса на Нередице. Поленов нарисовал для этого проекта эскиз иконостаса.
Все это было весной. А в начале июня, вспомнив детство, поездку с отцом и Алешей по старым городам, он предложил абрамцевской компании поехать в Ростов и Ярославль. Поездка удалась. Вернулись с большим количеством зарисовок деталей старинной архитектуры и церковной утвари.
Приехал архитектор. Для церкви вырубили небольшую площадку леса, и работа закипела. Но это уже была работа архитектора и строителей.
Пока ездили в Ростов и Ярославль, Савва Иванович, как всегда экспромтом, написал комедию «Каморра». И опять – уже привычно – художником, написавшим декорации, был Поленов. 24 июня в Абрамцеве «Каморра» была исполнена участниками кружка.
Так Поленов понемногу приходил в себя после постигшего его горя.
Но он помнил об обещании, данном Вере, – написать давно задуманную картину из жизни Христа, и поэтому, узнав от Саввы Ивановича, что Адриан Викторович Прахов собирается еще с кем-то предпринять поездку на Ближний Восток, обрадовался, что будет не одинок. Хотя Прахов не был ему очень симпатичен, но все же лучше путешествовать с ним, чем одному. Он написал Прахову письмо и тотчас же получил согласие. Потом выяснилось, что Прахов был в поездке не главным лицом, он лишь сопровождал как историк искусства миллионера, князя Абамелек-Лазарева.
Семен Семенович Абамелек-Лазарев оказался совсем молодым человеком, ему было двадцать четыре года, он был образован и обладал огромной памятью. Общение с ним было бы совсем приятным, если бы не фантастическая скупость князя, несмотря на то что он был чуть ли не самым богатым человеком в России (князь печалился, что не самым богатым в мире).
Поленов вспоминал потом, что князь перебирал полученную за день в виде сдачи мелочь, отделял фальшивые пиастры и ими раздавал милостыню местным жителям и потом хвастал: «Я сегодня сбыл фальшивых пиастров на тридцать семь копеек».
Прахов втайне ненавидел своего благодетеля и как-то, когда они были на острове Филе – в верховьях Нила, сказал, что отдал бы все свои княжеские титулы, только бы всю жизнь провести на острове Филе. Это было глупо и бестактно. Глупо потому, что остров был безобразен, если не считать развалин древних храмов: глыбы гранита, среди которых торчат, точно неживые, пальмы и какие-то колючие растения. Бестактно – потому, что князем был один Абамелек. Чуть не произошло резкое объяснение, но Прахов вовремя спохватился и сказал – правду ли? – что он по женской линии происходит от польских князей.
И все же, несмотря на таких не совсем удачных спутников, путешествие удалось. Больше того, Поленов, хотя и помнил нрав своих спутников, диктуя сыну воспоминания, сказал о Прахове, что он «был образованный человек, но большой болтун, и зачастую сведения оказывались не соответствующими действительности», а об Абамелеке, что богатство было его «пунктиком». Но через тридцать лет после путешествия написал Абамелеку очень теплое письмо, в котором были такие слова: «Когда я переношусь в эти дни моей жизни, то всегда с благодарностью вспоминаю милого Адриана Викторовича, которому я обязан этим путешествием…» Впрочем, всегда приятно вспомнить то, что было в молодости.
Однако о самом путешествии.
Из Москвы выехали в середине ноября. Сделали остановку в Киеве, где осматривали Софийский собор и небольшую Кирилловскую церковь, реставрация которой была поручена Прахову. Потом поездом через Румынию приехали в Болгарию, в Варну. Поленов невольно предался воспоминаниям о том, свидетелем каких событий был он всего пять лет назад и сколько крови было пролито во имя независимости этой страны.
Из Варны пароход взял курс на Константинополь. В пути слегка качало, и это портило впечатление от путешествия.
Наконец, показался Константинополь, путники сошли на берег в Пере – европейской части города, побывали в таможне, где должны были осматривать их вещи. Весь осмотр вылился в то, что пришлось впервые познакомиться с тем, что такое бакшиш, которым весь досмотр и ограничился.
Из европейской части перебрались в азиатскую – Стамбул, переехали по мосту через Золотой Рог, узкий длинный залив Мраморного моря, делящий город на две части, и поднялись на холм, на котором стоит мечеть Айя-София.
Мечеть эта была когда-то христианским храмом, построенным еще в 325 году в царствование императора Византии Константина. Тысячу с лишним лет спустя, после того как Византийское государство распалось и место это было заселено мусульманами, собор превратили в мечеть. Теперь гяурам можно осматривать мечеть за вознаграждение. Впрочем, Поленов не жалел о деньгах, потому что впечатление было необычайное. «Ни Пантеон, ни храм Петра, ни Кёльнский собор не могут сравниться со свободным полетом мысли, создавшим этот храм, – пишет он. – Потом, осматривая подробности, встречаешь полуграмотные места в архитектурных частях, а особенно в строительной технике, но замысел и удача вылившегося целого изумительны».
1 декабря вечером погрузились на пароход, к утру достигли Дарданелл и вышли в Средиземное море.
Поленов писал этюд за этюдом. В Константинополе: «Золотой Рог», «Эски-Сарайский сад», «На хорах св. Софии», «Дарданеллы», «Пароход „Корнилов“ в Средиземном море», «Троада» – место, где была когда-то расположена Троя. В том письме Абамелек-Лазареву (написанном в 1912 году), о котором шла уже речь, Поленов пишет: «„Троада“ до сих пор остается одним из любимых моих набросков…»
Когда миновали побережье Малой Азии и корабль взял курс на Египет, начался шторм. Лишь на шестой день путешествия прибыли в Александрию.
Первое, что поразило Поленова, это… пальмы. Он всегда считал, что они очень красивы. Оказалось, совсем не так. Издали пальма действительно грациозна, но вблизи безжизненная и словно бы жестяная. Поразила толпа людей: тут и черные негры, и смуглые арабы, и турки, и европейцы всех национальностей, и жалкие феллахи, и чванные богачи.
В Александрии пробыли четыре дня и укатили в Каир. Каир – это как бы два города. Восточная часть его – и впрямь Восток: путаница маленьких тесных улочек, грязь и дурные запахи. Западная часть, прилегающая к Нилу, – совершеннейший Париж: высокие светлые дома, роскошные отели; только одно отличие: плоские крыши.
Утром Поленов с Абамелеком вышли на крышу – посмотреть пирамиды: но утро было пасмурное, хмурое, пирамиды были едва видны. Потом пошли осматривать мечети, надгробия калифов, потолкались на базарчиках, прошлись по тесным кривым улицам восточной части.
В пригороде Каира, называемом Булак, египтолог Мариет основал музей археологических памятников Древнего Египта.
Среди всех произведений искусства Поленов выделяет «царскую родственницу Неферт», ныне столь широко известную Нефертити. И вот его резюме, которое звучит сейчас более чем актуально: «Вообще, что удивительно в египетском искусстве, это что оно сразу является на высшей точке своего развития, за которым идет застылое повторение того же самого и постепенное падение».
Побывали, разумеется, у пирамид и на пирамидах. Там несколько конкурирующих групп бакшишников помогают взобраться на вершину пирамиды, причем каждая группа заявляет, что именно они-то и есть настоящие проводники. Все знают необходимые для характеристики пирамид слова и по-английски, и по-французски, и по-русски тоже. И все их речи оканчиваются одним словом: бакшиш.
Но что оказалось неожиданно и хорошо, так это уважение их к труду. Как только Поленов раскрывал альбом и начинал рисовать или писать этюд, так тотчас же появлялись проводники и пальмовыми ветками отгоняли назойливых мух и не менее назойливых попрошаек. Впрочем, этим услужливым проводникам тоже приходилось давать бакшиш. Без бакшиша на Востоке – ни шагу.
Из Каира на пароходе поднялись по Нилу до Асуана, а там наняли «дахабие», огромную барку, где был общий салон и у каждого своя крошечная каюта. На дахабие этой поплыли вниз по Нилу. Это было очень удобно, потому что можно было останавливаться где угодно, сходить на берег, осматривать то, что нравится, писать этюды.
В Асуане, в то время маленьком торговом городке, жили главным образом негры, попадались даже, как пишет матери Поленов, «джентльмены Центральной Америки, у которых весь костюм состоит из веревочки с кисточками вокруг талии», а на острове Элефантине даже и этой одежды не признают.
На острове Филе, том самом, который так почему – то полюбился Прахову, «находится особое племя, которое по-русски называется баловниками». Впрочем, это племя – такие же бакшишники, как и все остальные, они и живут только бакшишем, потому что остров считается священным, на нем несколько полуразрушенных храмов: совершенно древний, египетский еще, храм Изиды; небольшой храмик Тифониум, развалины древней христианской коптской церкви и храм Воскресения.
«Надоедают нам эти баловники или бакшишники до одурения…»
Впрочем, и здесь, как только человек начинает работать, бакшишники удаляются и появляется один, который отгоняет мух. У Поленова даже появился постоянный провожатый, «лийб-бакшишник», как он его называет. Джума, прелестный, очень смышленый мальчик, – нубиец. Расстались они совершенными друзьями: вероятно, Поленов был очень уж щедр, потому что на память Джума подарил ему пальмовую ветку, которой отгонял мух.
Одна из самых больших остановок была у Карнакского храма – величественных, колоссальных развалин, замечательного архитектурного памятника древнеегипетского зодчества.
Пока Поленов писал этюды, Абамелек узнал, что в храме водятся шакалы, и где-то в другом конце затеял охоту на них. Испуганное его выстрелами, чуть не набежало на Поленова стадо овец. Среди огромных колонн бродили туристы, устав бродить, присаживались отдохнуть и закусить; к ним приставали бакшишники. Нескольких бакшишников Поленов уговорил позировать – за бакшиш, разумеется.
Так добрались до Асиута, где пересели на поезд и вернулись в Каир. Из Каира переехали в Порт-Саид и оттуда морем – в Палестину, которая, собственно, главная цель путешествия Поленова, потому что именно в этой стране произошли все события, связанные с жизнью Христа, и материал для будущей картины надо искать там, где расположены были некогда государства Иудея и Израиль.
Прибыли в Яффу, портовый городок, маленький и грязный, окруженный с трех сторон чудесными апельсиновыми садами. Из Яффы по шоссе в таратайке прибыли, наконец, к главной цели путешествия Поленова – в Иерусалим. Русский консул встретил их и отвез в приготовленное заранее помещение. Консул оказался радушным человеком и любителем живописи: поленовские этюды привели его в восторг. Прежде всего путешественники направлялись, конечно, «к гробу Господню». Над гробом церковь III века, потом над нею еще и еще: три церкви одна над другой. «Что за живописная эта вещь этот лабиринт церквей, алтарей, переходов, лестниц, подвалов, балконов и т. д., и все это живет. Какая разнородная толпа богомольцев движется перед вами: начиная от наших русских старушек всех губерний (их тут огромное количество) и кончая черными нубийцами и абиссинцами христианами». Это из письма матери 2 февраля 1882 года. А вот из письма 5 февраля: «Два дня мы осматривали достопримечательности этого великого местечка…»
Да что и говорить: к концу XIX века некогда великий город претерпел столько нашествий и против Христа, и за Христа, и бог знает за что и против чего еще, что стал поистине «местечком». И все же в это «местечко» стекаются к гробу Господню со всех сторон света.
Вот теперь и Поленов приехал. Приехал не столько поклониться гробу Иисуса из Назарета, сколько увидеть, почувствовать, запечатлеть те края, где проповедовал Иисус свое учение, посмотреть своими глазами на храм, в котором произошло то, о чем собирался он писать картину, храм, куда толпа приволокла грешницу, храм, в котором сидел со своими учениками Христос.
Увы, завоеватели мусульмане переделали храм Соломона в мечеть Омара, так же как Святую Софию в Айя-Софию. Но все же первозданная прелесть этого строения сохранилась. «Я торжественнее ничего не видел», – пишет Поленов. Он стал зарисовывать детали храма, писать этюды. Неожиданно пошел снег – явление редкое в этих краях. «Иерусалим превратился в русский город. Один мужичок в тулупе стоит и крестится: „Слава Богу, совсем как у нас“».
В Иерусалиме и вообще в Палестине – главная часть работы Поленова, цель его поездки. В Иерусалиме он делает множество этюдов и рисунков.
Из Иерусалима поехали втроем в Иерихон, к Мертвому морю, в Назарет, Тивериаду, в Иорданскую долину, в Самарию…
Потом Абамелек и Прахов поехали в Сирию и дальше, в Пальмиру, искать не открытые еще древности, а Поленов остался в Палестине, пробыл там почти месяц, написал огромное множество этюдов. Сейчас даже невозможно учесть – сколько: несколько десятков находится в Третьяковской галерее, часть в музее «Поленово», много – в провинциальных музеях и у частных владельцев. Здесь и памятники архитектуры, и пейзажи, и люди: старики, дети, мужчины, женщины…
В Дамаске Поленов опять соединился с Праховым и Абамелеком, и они направились в Ливан. Пять дней провели в Бейруте и морем поехали в Грецию. Наконец Поленов увидел то, что так давно хотел увидеть, то, о чем рассказывал ему отец: Акрополь, белые колонны Парфенона, Эрехтейон со знаменитым Портиком кариатид.
В Афинах пробыли одиннадцать дней. Опять огромное количество этюдов, рисунков…
Потом – опять Турция, и в начале апреля 1882 года Поленов вернулся в Москву.
Различные мнения существуют относительно этюдов Поленова, сделанных во время этой поездки: и относительно их художественных достоинств, и относительно значения их для будущей его картины. Безоговорочно высоко оценивает их младший современник Поленова И. С. Остроухов, который как раз в 1880-е годы начал сближаться с мамонтовским кружком художников. Остроухов пишет, что ближневосточные и греческие этюды Поленова, выставленные на Передвижной, произвели огромное впечатление. «Этюды большей частью не имели прямого отношения к картине. Это были яркие записи с поразивших художника картин Востока: кусочки лазурного моря, рдеющие в красках заката вершины южных гор, пятна темных кипарисов на синем глубоком небе и т. п. Это было нечто, полное искреннего увлечения красочною красотою, и в то же время разрешавшее красочные задачи совершенно новым для русского художника и необычным для него путем. Поленов в этих этюдах открывал русскому художнику тайну новой красочной силы и пробуждал в нем смелость такого обращения с краской, о котором он раньше и не помышлял».
Позднее исследователи творчества Поленова, признавая плодотворность новых его достижений, будут говорить об отходе его от пленэрной живописи. Едва ли это справедливо. Пленэр в России или, скажем, во Франции – совсем не то, что пленэр в Египте и Палестине. Там воздух суше, прозрачнее, он не так смягчает, не так приглушает основные тона. Сравнивать пленэрные работы Поленова в России и на Ближнем Востоке все равно что сравнивать пленэрные достижения Тёрнера, сделанные в туманной Англии, с пленэрными работами барбизонцев.
Едва ли стоит анализировать работы Поленова, даже если придерживаться только анализа образов, слишком уж много он написал этюдов и среди них десятки замечательных: «Храм Изиды», «Нил у Фиванского хребта», «Троада», «Погонщик ослов в Каире», «Олива в Гефсиманском саду», «Парфенон», «Эрехтейон», «Храм Эш-Шериф», «Нубийская девочка», «Еврейский мальчик из Тивериады», «Золотой Рог», «Сад в Константинополе», «Вифлеем». К слову, многие из этих мотивов даны с разных точек зрения. Например, «Храм Изиды на острове Филе» – изнутри, в виде интерьера, и со стороны Нила, так что храм виден целиком, видны крутой берег, пальмы и гранитные глыбы рядом с храмом. Что же еще сказать об этих работах? Для того чтобы не описать даже, а просто перечислить их, пришлось бы заполнить несколько страниц. К чему это? О лучших сказано много.
Можно лишь прибавить, что когда Поленов начал работать над большим циклом картин о Христе, то оказалось, что сделанных им в Палестине этюдов – мало. И он предпринял еще одну поездку на Восток. А сейчас он сделал столько, сколько мог, и, удовлетворенный, поехал в Россию.
В первой половине апреля 1882 года Поленов вернулся в Москву.
Он, разумеется, тотчас же узнал о том, что Климентова, которая перед самым его отъездом кокетничала с ним, неожиданно вышла замуж, и понял: ему не писана на роду сильная любовь. Оболенская умерла. Климентова попала в какую – то неприглядную историю, вышла замуж – лишь бы выйти…
Как и во времена прежних своих горестей, он нашел сочувствие и тепло у Мамонтовых. Мамонтовы были в Абрамцеве, и, наскоро устроив свои дела в Москве, Поленов поспешил туда. 24 апреля Савва Иванович пишет в «Летописи сельца Абрамцева», большой книге, куда с прошлого года начал подробно записывать все события, происходившие там: «Василий Дмитриевич был в первый раз, вернувшись из Палестины, и вечером рассказывал свои впечатления».
Не думал и не гадал Поленов, что именно здесь обретет он то, к чему так стремился: и любовь, и семейные радости.
Увлеченный Климентовой, он, конечно, и не подозревал, что сам стал предметом любви чистой, восторженной, пылкой. И полюбила его девушка, которая была на четырнадцать лет моложе его. Это была двоюродная сестра Елизаветы Григорьевны Мамонтовой Наташа Якунчикова.
Глядя на Поленова, участвуя с ним в спектаклях и постройке церкви (она вышивала по его рисункам хоругви), Наташа до поры только тайному, очень тайному дневнику открывала свои чувства. Лишь весной 1881 года, когда Поленов приехал из Петербурга после смерти сестры, она, видя его безмерное горе, призналась в своем чувстве к нему. Причем характерно, что призналась совсем не Поленову, а своей кузине, и не сказала, а написала:
«Я свои чувства к Поленову никогда не выражаю, разве иногда только прорвется оно, но потом я опять овладеваю им. Особенно уже последнее время я стараюсь подавить его. Но ведь, Лиза, оно страшно сильно и время только сильнее развивает его. Я не требую взаимности, эти золотые мечты прошли теперь, а если когда найдут опять, я скорее гоню их. Я жажду доверия как к человеку… Я живо за него чувствую, что он теперь должен испытать, потеряв лучшего друга… Я душу рада отдать, чтобы облегчить это страдание его, а что же я могу сделать – ничего… Да и к чему ему вдруг мое участие, сочувствие; эта еще что выскочила, что она мне… А он для меня самый близкий сердцу человек… его образ неразлучен со мной во всех моих думах, во всех моих действиях».
После этого письма прошел год, пока приехавший из путешествия Поленов не узнал, что предмет его обожания – Климентова – уже замужем.
Он провел в Абрамцеве почти все лето. Там достраивали церковь. И – трудно сказать, как это получилось… Видимо, Елизавета Григорьевна как-то дала знать Поленову… Да и Савва Иванович со свойственной ему чуткостью понял состояние Наташи. В «Летописи сельца Абрамцева» не раз (очень, впрочем, тактично) упоминается о загадочных недомоганиях Наташи Якунчиковой и чудодейственном выздоровлении ее, чуть появится Поленов.
Может быть, специально для того, чтобы сблизить Поленова с Наташей, Елизавета Григорьевна и попросила его сделать рисунки для хоругвей, которые она с Наташей вышивала. Поленов, естественно, был консультантом. Написал он под впечатлением поездки в Палестину для абрамцевской церкви икону «Благовещение» и еще несколько других.
В июле состоялось освящение церкви, и вскоре после этого Поленов женился на Наташе, женился, не спрашивая, видимо, у матери, а может быть, Марии Алексеевне было сейчас не до того – на ком женится ее сын: на аристократке или же на купеческой дочери. Может быть, она поняла, что смысл жизни в самой жизни, в том, чтобы тебя окружали близкие и любящие люди, независимо от того, аристократы они по происхождению или же, выражаясь несколько вычурно и старомодно, – «аристократы духа». А Наташа Якунчикова принадлежала, как и все вообще окружение Мамонтовых, именно к «аристократам духа».
Итак, вскоре после освящения абрамцевской церкви состоялось венчание Василия Дмитриевича Поленова и Натальи Васильевны Якунчиковой.
Всеволод Мамонтов очень тепло и очень колоритно описал это первое в абрамцевской церкви венчание: «И сейчас, как живая, стоит у меня перед глазами любимая стройная фигура Василия Дмитриевича во время венчания с венцом на голове. Он не захотел иметь шаферов, которые по обычаю того времени держали во время венчания над головами венчающихся венцы, а надел себе на голову венец скромного вида, исполненный по древнему образцу специально для абрамцевской церкви».
Заметим, что эскизы этих венцов были сделаны Поленовым во время поездки в Ростов и Ярославль.
После венчания молодые поселились в Абрамцеве во вновь отстроенном доме, который с тех пор стал называться «поленовским».
Все лето Поленов работал, писал этюды Абрамцева. В конце августа в Абрамцеве были поставлены сразу три пьесы: «Комоэнс» Жуковского, третий акт оперы «Фауст» и пьеса Мамонтова «Веди и мыслете». Поленов опять оказался в роли декоратора, а в «Комоэнсе» – еще и артиста. Осенью молодые переехали в Москву и поселились на Божедомке в Самарском переулке в доме П. И. Толстого. Там они прожили шесть лет – до 1888 года.
Зная дальнейшую жизнь Поленова, можно сказать, что женитьба на Наташе Якунчиковой была для него благом. Едва ли сразу возникла в его душе любовь к жене, может быть, такой пылкой любви, какая была когда – то к Оболенской, а потом к Климентовой, не было вообще, но любовь, которая рождается духовной близостью человека, беззаветно любящего, – пришла все же. Пришла, вероятно, четырьмя годами позднее. Об этом скоро будет рассказано. Сейчас лишь надо сказать вот что: Наталья Васильевна так вошла в круг интересов своего мужа, создала ему такие идеальные условия для работы, настолько жила его жизнью, его интересами, что – трудно, конечно, утверждать – едва ли в этом смысле кому-нибудь из русских художников повезло с женитьбой так, как Поленову.
Правда, она тоже пыталась влиять на него «идеологически», зачастую в том же направлении, что Мария Алексеевна и Вера Дмитриевна, хотя мягче и умнее, но этому влиянию он не поддавался. Здесь он был тверд, хотя те ее советы, которые считал справедливыми, принимал: он не был упрям и всегда внимал голосу разума. Но, повторяю, здесь он был тверд. Конечно, твердость эта была по-поленовски мягкой: он не горячился, не спорил, не возражал, он просто, если не соглашался, делал так, как считал нужным. Правда, он почти исчерпал к этому времени отпущенный ему природой заряд бунтарства. И еще беда в том, что Марию Алексеевну он продолжал слушать. Но об этом – в свое время.
А сейчас надобно забежать на четыре года вперед, чтобы тематически окончить эту главу.
Через два года после женитьбы у Поленовых родился сын Федя. Здесь, видимо, и начинается любовь Поленова к жене, сначала как к матери своего сына (и уже помощницы в работе, ибо зиму 1883/84 года Поленовы провели в Италии, где Поленов, подобно Иванову, начал работу над своей «большой» картиной о Христе).
В июле 1886 года Поленовы поехали в Меньшово – деревню Костромской губернии. Ребенок был совершенно здоров, но вскоре после приезда заболел, сначала, казалось, совсем несерьезно. Потом ему становилось все хуже и хуже. Наталья Васильевна вызвала на подмогу Елену Дмитриевну. Но помочь ребенку было уже невозможно. В начале августа первенец Поленова умер.
Василий Дмитриевич был совершенно сражен горем. Жизнь стала казаться ему невозможной бессмыслицей. У него наступило такое страшное нервное потрясение, что с тех пор у этого человека, всегда отличавшегося отменным здоровьем, началась неврастения, продолжавшаяся потом всю жизнь. Начались страшные головные боли, он беспрестанно думал о самоубийстве.
И тут спасением для него опять стали Мамонтовы (супруги, как только случилось несчастье, приехали в Абрамцево) и Наташа, которая первая взяла себя в руки. «Наташа меня удивляет своей нравственной силой, – писал Поленов матери, – ни одной жалобы, ни одного упрека. Видно, так уж было суждено». Поленов вспоминал, что сын его поражал очень быстрым умственным и слишком запоздалым физическим развитием. В последнее время у него появились страхи. Приехал друг Саввы Ивановича профессор Спиро, с которым у Поленова завязались дружеские отношения. Он, выслушав все, сказал, что это готовилось, видимо, давно, что у Федюка (так называли родители своего сына) «нервная система была слишком натянута и тонка, поэтому и не выдержала первой, немного серьезной, болезни… По всему, как я теперь припоминаю, – пишет Поленов, – я вижу, что он был не жилец… Мы перебрались в Абрамцево, где мы немножко успокаиваемся…».
Поленов с женой часто уединялись и сидели все в одном и том же углу абрамцевского парка. Поленов написал впоследствии пейзаж, на котором было изображено это место, и пейзаж они с Натальей Васильевной стали называть так: «Федюшкино воспоминание».
Боже, сколько смертей перенес он, начиная с Оболенской и Богуславской и кончая собственным сыном! И всегда эта страшная болезнь, когда ждешь, надеешься, а природа безжалостно забирает то, что было ею же сотворено.
«Вот уже три месяца, как я с ним навсегда простился, а точно как будто он еще вчера у меня на руках засыпал, – писал Поленов в ноябре В. М. Васнецову. – Страшные эти законы природы: сделают они что-то такое живое, прелестное, радостное и так беспощадно сами же его уничтожают. К чему все это? Кому они необходимы, эти страдания? Я последнее время плохо себя чувствую, к общему расстройству прибавилась какая – то не то желудочная, не то сердечная боль, гложет она меня потихоньку, а конца как – то не видать. Силы понемногу уходят, с трудом могу работать два-три часа в день. Картину мою начал опять писать, но по тому, как дело идет, мало надежды на хороший конец. Ах, если бы удалось ее кончить, я бы с радостью ушел бы отсюда».
Но он не ушел из жизни. В том же 1886 году у Поленовых родился второй сын – Митя…
И тогда, по-видимому, началась настоящая любовь Поленова к жене, с которой он до конца дней своих прожил в мире и согласии. Он делился с ней всем: и радостями, и невзгодами. А в дальнейшей его жизни было, как и в прошлые годы, много радостей и много невзгод.








