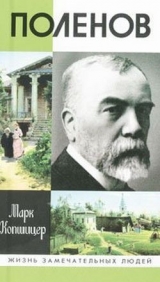
Текст книги "Поленов"
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Значит, разговоры о «среде», в которой Лиля могла бы себя почувствовать как во «внутренней ссылке», – плод очень поверхностного знакомства Чижова со Шкляревским. Да и говорили они при встрече совсем не об искусстве. Вот далее в письме своем Чижов старается развенчать Шкляревского в глазах Лили тем, что при встрече с ним, Чижовым, во время разговора Шкляревский, оказывается, плакал…
Вот так «добровольно» отказался он от Лили!.. Чижов считает это недопустимой для мужчины слабостью. «Ты никогда не должна была знать его внутренних борений, и ты одна, а не сплетни барынь, кумушек и просвирень, между которыми Иванна Петровична занимала видное место, – должна была решить все».
Наконец-то назван точный виновник интриги, ставшей несчастьем Лили: Хрущов, бывший вольнодумец Хрущов, а ныне директор Института благородных девиц, кумушка и просвирня Иванна Петровична…
В письме Васе Поленову Чижов говорит обо всем без обиняков, не стараясь выставить дело так, чтобы и правду сказать, и поменьше огорчить, и найти что – то, что хоть отчасти утешило бы.
Вот когда он вспоминает картину «Право господина». Он считает, что Лиля, ее любовь, ее будущее, ее надежда на счастье – все было принесено в жертву предрассудкам из тех же времен, когда зарождалось «Право первой ночи».
Уже и Мария Алексеевна согласилась, чтобы дочь переписывалась со Шкляревским, отец, разумеется, тоже не возражал, но тут «подвернулся Хрущов с его узкой аристократоманией, и получила Лиля письмо от Шкляревского, – я не знаю его содержания, но знаю одно, что после получения его Лиля плакала и решила, что все разрушено».
Чижов искренне и горячо переживает трагедию Лили, этого и впрямь прелестного создания, но в письме Васе не старается в чем – то обвинить Шкляревского, а открыто признается: «Я не знаю Шкляревского, следовательно, не могу сказать ничего решительно, особенно при совершенно разноречивых показаниях: Алеша его защищает, мама обвиняет, Хрущов тоже не говорит в его защиту, слова Лили, как сидящей на скамье подсудимых, мало имеют значения». Вот как! Единственная, кто имеет право быть судьей, оказывается в аристократической семье Поленовых – подсудимой! «Ее жизнь потеряла всю радужность, – продолжает Чижов, – особенно теперь, когда она осталась одна со своей тоской и моими чудными стариками, славными, милыми, мне очень родными, а все – таки пеший конному не товарищ».
«Жаль мне Лильку, – пишет в ответ Вася, – не везет ей счастье, а хороший она человек… больно мне за нее. Мама и Вера, должно быть, довольны, это обидно!»
Да, мама и Вера были довольны. И пребывали в совершенной уверенности, что сотворили благо для Лили.
Лето Лиля провела в Имоченцах с родителями – одна из молодого поколения семьи. Родители всячески старались угодить ей в ее – как они думали, временном – страдании: подарили ей «баскет» – коляску из камыша, чтобы Лиленька могла сама править и ездить по окрестностям Имоченцев. «Все это мне сюрприз, который, разумеется, не имеет для меня никакого значения, но тешит отца. Смешно смотреть, как они, то есть родители, стараются меня утешить и показать мне, насколько я счастливее дома теперь, чем была бы, если бы… Бог с ними, не ведали бо, что творили».
Много лет спустя, уже после смерти Елены Дмитриевны, Стасов, который был горячим почитателем ее творчества, написал ее биографию. И повествование о начале ее жизни представляет собою письмо к нему, Стасову, Ивана Петровича Хрущова, написанное им по просьбе Стасова, что-то вроде воспоминаний. Вот что в этом письме обо всей рассказанной выше истории: «По приезде Елены Дмитриевны… в Киев, она получила предложение выйти замуж за одного медика, профессора, хорошего их всех знакомого. Но брак не состоялся по несогласию семьи Елены Дмитриевны. Она же сама была довольно равнодушна».
А и лгун же, оказывается, аристократ Хрущов Иванна Петровична, просвирня и кумушка…
На этом можно бы и окончить рассказ о несчастной любви Елены Дмитриевны – первой и последней ее любви, если бы время, которое, как гласит банальная, но справедливая мудрость, лучший лекарь, примирило бы ее со случившимся хотя бы впоследствии.
Но так не случилось. Елена Дмитриевна была незлобива. Она не сетовала ни на родителей, ни на Веру, но помнила о том, как исковеркали ей жизнь, до конца дней своих.
В 1895 году, уже после смерти отца, после смерти Веры (а смерть близких людей, как известно, со многим примиряет нас в прошлых неурядицах), Елена Дмитриевна пишет ничем внешне не вызванное письмо Елизавете Григорьевне Мамонтовой, с которой к тому времени очень сблизилась: «Несмотря на одну общую нам черту, проявляющуюся в отношениях к людям, ведь мы с Вами совершенно противоположные люди. У меня за последние годы, лет за десять(курсив мой! – М. К.), должно быть, развилось и воспиталось, так сказать, обстоятельствами одно свойство очень нехорошее, сама знаю, и сколько я могла подметить, очень Вам антипатичное, хотя Вы прямо никогда не высказывали мне этого, свойство это состоит в том, что я вижу в людях и жду от них больше дурного, чем хорошего. Корень этому лежит в одном событии, которое мне было очень трудно пережить, потому что как-то сразу пришлось столкнуться с отрицательными сторонами в людях дорогих и близких в такое время, когда меньше всего я могла этого ожидать. После этих близко следовавших один за другим разочарований во мне стало развиваться болезненное недоверие и просто даже страх к людям. Настали ужасно тяжелые годы. До сих пор холодом обдает при воспоминании об них». Вот так-то! Годы! Ясно же, что Хрущов лжет, заведомо лжет в письме Стасову, сообщая об этом событии как бы между прочим, что «она сама была довольно равнодушна…».
Вот так подошел к концу рассказ о трагедии Елены Дмитриевны, в ту пору еще Лили Поленовой, рассказ, изрядно выбивший нас из хронологической колеи повествования о Василии Дмитриевиче Поленове.
Но как было не рассказать об этом эпизоде, разве не формировал и он характер нашего героя?
Конец лета 1874 года Поленов провел на северном побережье Франции, в Нормандии, в местечке Вёль. Поработать в Вёле советовал молодым русским художникам Боголюбов; он как маринист хорошо знал французское побережье. Репин уехал в Вёль, как только началось лето, в июне, и прислал Поленову письмо о том, как в Вёле хорошо: цветут маки, воздух чудесный, свежий, вкусная еда: ягоды прямо с грядок, яйца прямо из-под курицы, парное молоко. И все баснословно дешево. Репин с семьей снял просторный дом и звал Поленова.
Поленов приехал в Вёль в конце июля и застал там целую колонию русских художников: Савицкого, с которым успел он подружиться, Беггрова, Добровольского и самого Боголюбова.
Поленов принял приглашение Репина поселиться вместе в снятом им доме. Василию Дмитриевичу очень хотелось, чтобы по приезде в Россию Репин был его гостем в Имоченцах, но Репин был щепетилен до крайности, пожалуй, не поехал бы. А таким путем Поленов хотел залучить его. Он поделился этой мыслью с родителями и получил письмо от Марии Алексеевны с полным одобрением. Он передает Репину приглашение родителей. Репин благодарит, он искренне рад такой возможности, ибо немало слышал от Поленова восторженных рассказов о прелестях Олонецкого края.
Вёльский период, хотя и длился чуть больше месяца, был едва ли не самым успешным за время пенсионерства Поленова. Он сделал три чудесных этюда белой нормандской лошадки, два этюда «Ворота в Вёле», «Отлив», «Пруд в Вёле», «Мельница на истоке реки Вёль». Кроме этого, уехав вместе с другими художниками на несколько дней в рыбачий поселок Этрета, пишет этюд «Рыбацкая лодка», этюд рыбака…
Вельские этюды (кроме, пожалуй, «Белой лошадки») элегичны по настроению. Влияние барбизонцев здесь несомненно. Разумеется, что как и в пейзаже, понравившемся Тургеневу, влияние это было опосредованным, «через» Боголюбова, который, как известно, очень высоко ценил эту группу художников. В картинах самого Боголюбова, причем именно в вёльских пейзажах лесов и озер, явно чувствуется то же, что и у барбизонцев: стремление передать природу правдиво, но не бездушно. Именно в 1870-е годы Боголюбов постиг пленэризм барбизонцев, стремление передать воздушную среду, игру рефлексов… если сравнить такой, например, пейзаж Боголюбова, как «Лес в Вёле», написанный еще в 1871 году, с этюдами Поленова «Ворота», «Пруд», «Мельница», можно убедиться в этом. Что касается настроения, то оно у Поленова более элегично, чем у Боголюбова, это настроение несколько похоже, если провести литературную параллель, на настроение повестей Тургенева, который не случайно всю следующую зиму весьма благоволил к молодому художнику, и тот стал совершенно своим человеком в доме Виардо. Но это случилось, повторяю, уже в начале следующего года после события, о котором будет рассказано в свое время. Во всяком случае, взгляды Тургенева и Поленова во многом сходятся. Даже на вопрос, какое из произведений Тургенева считать лучшим, Поленов отвечает: «Первую любовь»; Тургенев совершенно с ним согласен…
Но все же лучшая из вёльских работ – «Белая лошадка». Из трех этюдов, сделанных с этой лошадки, сохранился лишь один – на фоне стены, тоже белой. Здесь поражает, как ловко справился Поленов со сложной колористической задачей – передачей белого на фоне белого. Вот где больше всего сказался его дар колориста. Здесь солнце, яркое солнце, его свет, которым удивит он соотечественников несколькими годами позднее в этюдах, писанных в Московском Кремле и в картине «Московский дворик», этот яркий солнечный свет впервые с такой силой прорвался на его полотно.
Поленов точно бы снял с солнца некую пелену, через которую освещало оно картины других русских художников. Ни у кого из его предшественников картины не были такими солнечными, какими стали поленовские этюды и пейзажи.
Но не только солнечностью отличается «Белая лошадка». По этому этюду можно понять, что Поленов знаком уже с принципами импрессионистской живописи. Сам он в своем творчестве от импрессионистов достаточно далек, но влияние их на его работы, как и на работы Репина, можно усмотреть. Репин, так же как и Поленов, написал этюд белой лошадки, и автор наиболее капитального и авторитетного исследования творчества Репина И. Э. Грабарь совершенно определенно утверждает, что этюд этот «написан под влиянием импрессионистов, без цветового разложения, но со всей импрессионистической голубизной общего тона и с сильным солнечным светом».
Может быть, Репин пошел чуть дальше Поленова в постижении импрессионистических принципов и в применении их, но то, что принципы эти обоим художникам уже хорошо известны, – несомненно.
В письмах Поленова, написанных из Франции, об импрессионистах ничего определенного нет. Зато Репин уже пишет о них Стасову, впрочем, поначалу, естественно, не только не сочувствуя, но даже не сознавая, что же это за «новое реальное направление», считает, что это «скорее карикатура на него – ужас, что за безобразие», но тут же оговаривается: «а что-то есть». Но, по-видимому, это «что-то» подействовало все же на Репина. Год спустя в письме тому же Стасову он признается: «Я сделал портрет с Веры [5]5
Вера Алексеевна– жена Репина. Дочь, тоже Веру, Репин называл Верунькой.
[Закрыть](a'la Manet) – в продолжение двух часов». И в письме Крамскому: «…язык оригинальный всегда замечается скорей, и пример есть чудесный: Manet и все эмпрессионисты». Стасову: «Иван Сергеевич Тургенев теперь уже начинает верить в эмпрессионистов, это, конечно, влияние Золя. Как он ругался со мной за них в Друо. А теперь говорит, что у них только и есть будущее».
Так прогрессировали в Париже взгляды Репина, а параллельно с ними – есть все основания считать так – и Поленова.
В своих беседах Поленов и Репин, должно быть, обходили эту тему. То, что в письмах Репина в тот период эта тема четко прослеживается, а в письмах Поленова ее вообще нет, объясняется очень просто: Репин переписывался с Крамским и со Стасовым, Поленов – с мамой, с папа, с Верой… Чижов – он хотя и умный старик, но все же старик. Если Стасов не приемлет импрессионистов, если Крамской относится к ним с подозрительностью, то что уж говорить о Чижове.
Но сам Поленов, повторяю, и знал, и понимал импрессионизм. Для того чтобы утвердиться в этой мысли, придется забежать немного вперед. В 1882 году Поленов стал преподавателем Московского училища живописи, ваяния и зодчества. И, впервые взглянув на этюд ученика Константина Коровина, он тотчас же спросил: «Вы импрессионист?» Коровин тогда еще и не слыхивал такого слова. Поленов рассказал, кто такие импрессионисты. Разумеется, ученик Коровин не был в ту пору еще до конца импрессионистом, каким он стал в годы зрелого творчества, но его мировосприятие, его художественное мышление было – от природы – импрессионистским. Нужно было очень хорошо знать импрессионизм и быть очень чутким человеком, чтобы в ученике, пишущем классный этюд, разглядеть наиболее выраженного в будущем импрессиониста среди всех русских художников.
Что еще было сделано на нормандском побережье? «Рыбачья лодка», которую Поленов писал в Этрета. Рыбаки, сидящие около лодки, едва различимы на ее фоне. При всем том сам этюд – темное пятно лодки и паруса на светлом фоне – очень красив. По-видимому, там же, в Этрета, написал он «замечательный этюд немолодого рыбака», этюд, оказавшийся ныне в каком-то частном собрании в Японии. Вот что пишет о нем искусствовед О. А. Лясковская, видевшая его: «В фигуре рыбака чувствуется сила, скованная физической усталостью. Он опустился на камень, положив на колени руки со сплетенными пальцами, и тяжело задумался. За плечами рыбака ярко блестит море. Картина написана в темных свежих тонах. Выполненная с натуры, она удивительно правдива».
Полтора месяца, проведенные в Нормандии, были значительным этапом в развитии творчества Поленова.
Многие этюды, написанные в Вёле, стали потом картинами. Среди них самая значительная – «В парке». Основой картины стали этюды «Ворота в Вёле». Пейзаж остался тот же, хотя несколько изменились сами ворота. Картина вытянулась в высоту, чтобы дать простор небу и показать верхушки деревьев, а к столбу ворот привязана пара коней: белая и вороная, словно бы другая пара – людей – спешилась у ворот парка и углубилась в его аллеи.
А как же выглядят на фоне собственной художественной практики недавние декларации Поленова относительно преимуществ «объективных колористов» – ведь сам он оказался как раз «субъективным» колористом… Да никак. Просто Поленов находился и сейчас еще находится на перепутье. Он еще ищет себя, он себя не понял. А настроение – это то «субъективное», что объективно живет в нем, что заложено в его натуре, в его художественном «я», в художественном темпераменте. Настроения властвуют над ним. Это бесспорно.
Поленов продолжал развивать в русском пейзаже то, что стало потом называться «пейзажем настроения». Направление это, как уже говорилось, начато было Саврасовым. И высшее слово в нем принадлежит не Поленову, а ученику Саврасова, а потом Поленова – Левитану. Но без творчества Поленова, без его пейзажей, по-видимому, невозможен был бы переход от Саврасова к Левитану. Слишком велик скачок от «Грачей» к «Вечернему звону». И это еще вопрос: достиг бы Левитан тех высот, каких ему удалось достичь, если бы между «Грачами» и такими картинами, как «Вечерний звон» и «Над вечным покоем», не было этих солнечных, согретых сердечным теплом, окутанных воздухом пленэрныхпейзажей Поленова.
Вершина поленовского пейзажа – впереди. Но начало восхождения на эту вершину произошло в Вёле во второй половине лета 1874 года и осенью в Париже, где, по – видимому, и был написан первый из этих пейзажей – «В парке», не во всем еще самостоятельный, не во всем совершенный, но и все-таки во многом свой, поленовский, элегичный, немного грустный, словно бы передалось ему то настроение, которое испытывал художник во все годы пенсионерства, – ностальгия.
Вернулся он в Париж из Вёля в самом конце августа. У Репина оказался ученик из России – девятилетний мальчик, коренастый и немного угрюмый, сын покойного композитора Серова, автора «Юдифи» и «Рогнеды». Репин очень хвалил своего ученика.
– Это мне Мордух устроил уроки, – говорил он. – Хороший мальчик. И будет художником. Вот, полюбуйся.
Рисунки маленького Серова были по – настоящему талантливы.
Мальчика звали Валентином, но Репин почему – то называл его Антоном.
– У него много имен, – сказал Репин. – Мать называет его Тоней или Тошей.
Поленов познакомился и с матерью маленького художника, Валентиной Семеновной, невысокой, с крупными чертами лица. Она, как и покойный ее супруг, занималась музыкой и сочиняла оперу «Уриэль Акоста». Но музыка ее ни Репину, ни Поленову не нравилась. А вот то, что она привезла ноты «Каменного гостя» Даргомыжского, «Псковитянки» Римского – Корсакова и даже «Бориса Годунова» Мусоргского (оперу автор не успел закончить, но она успела тем не менее попасть в разряд крамольных), – это было благом. Русские художники в Париже получили возможность узнать те (ставшие теперь классическими) произведения русской музыки, с которыми не успели или не смогли познакомиться на родине.
Впрочем, Валентина Семеновна оказалась особой хотя и несколько эксцентричной, но общительной. Она возобновила знакомство с Тургеневым, который при жизни ее мужа бывал у них в доме, а через него попала и в салон Виардо, и в кружок Боголюбова, где был отмечен должным образом талант ее малолетнего сына.
С этого времени Валентин Серов до конца его короткой жизни находился в поле зрения Поленова…
Осенью 1874 года, а возможно и зимой 1874/75 года, когда Поленов работает над картиной «В парке», он одновременно начинает еще одну картину: «Арест гугенотки» – эпизод Религиозных войн во Франции XVI века между протестантами и католиками. Картина изображала арест Жакобин, графини д'Этремон, второй жены адмирала Колиньи.
В конце ноября в Париж приехал наследник, будущий царь Александр III. Оказалось, что Александр Александрович весьма интересуется вопросами живописи, старается покровительствовать художникам (это продолжалось впоследствии, когда он взошел на престол, – к художникам он благоволил). Он обошел все мастерские русских художников, живших в ту пору в Париже, у некоторых приобрел картины. В частности – у Поленова неоконченную еще картину «Арест гугенотки» с тем, разумеется, условием, чтобы картина была все же завершена.
Это очень подбодрило Поленова, он с новым жаром набросился на работу и очень скоро закончил картину. Разумеется, она не была исторической картиной в полном смысле этого слова, никак не трактовала историческое событие, только лишний раз подчеркнула симпатии Поленова к «слабому полу», к женщине, которую может обидеть, унизить, оскорбить всякий, имеющий силу, власть, опирающийся на право, каким бы бесправием ни казалось оно сейчас…
Впрочем, об этом еще будет речь. Пока что обратим внимание на то, что героями (вернее, героинями) картин художника все годы были женщины, даже в конкурсной картине «Воскрешение дочери Иаира», хотя основной герой ее – Христос. Первой картиной будущего большого цикла «Из жизни Христа» стала картина «Кто из вас без греха?». Опять же формально главный герой Христос, но фактически – «женщина, стоящая посреди», как сказано в Евангелии от Иоанна и как произошло в окончательном варианте картины Поленова. Потом – «Право первой ночи», и опять жертвы – женщины. Даже в рисунке «Больная» героиня – девушка, «слабый пол», более подверженный болезням и смерти, вот как полунищая Лиза Богуславская и весьма состоятельная Маруся Оболенская; перед лицом смерти все равны. Наконец, нынешняя картина: «Арест гугенотки».
За время пенсионерства (а его оставалось еще два года) Василий Поленов много начал и ничего толком не окончил. Дело в том, что Мария Алексеевна настаивала, чтобы все было по традиции. Художники, уехавшие за границу, привозили оттуда большие исторические полотна: Брюллов – «Последний день Помпеи», Иванов – «Явление Христа народу», Бруни – «Медный змий». Она писала сыну: «Пиши, благословясь, большую картину. Не разменивай себя на мелочь, а главное, крупная, большая вещь – это будет хорошая школа, чтобы двигаться вперед…»
И он – в который раз – пытается внять совету матери. За оставшиеся два года пенсионерства он задумывает несколько «больших картин»: «Восстание Нидерландов» (или «Заговор Гёзов»), «Пир блудного сына», «Демон и Тамара», «Александрийская школа неоплатоников». Все они остались незавершенными. Тема сама должна «благословить» художника.
Он начинал все с энтузиазмом, Лиля шила ему костюмы определенных эпох. Но и для «Блудного сына», и для «Восстания Нидерландов» он написал только антураж, главным образом архитектуру, к которой был пристрастен. Лица, фигуры – до всего этого дело не дошло.
О намечавшейся картине «Пир блудного сына» Поленов писал Чижову: «Что касается до моей картины, то я теперь нахожусь накануне ее начинания, материалы собраны, главные этюды написаны, холст натянут, остается строго привести в перспективу архитектуру и фигуры…» Кажется, здесь – некоторая ирония над самим собой, ничего решительно за год не сделавшим для «большой картины», а только все пишущим архитектуру, перспективу, эскизы, разве что натянувшим холст на подрамник. Это ведь уже август следующего, 1875 года!..
А пока что, приехавши из Вёля, Поленов неожиданно увлекся техникой офорта. Об этом увлечении он не извещает родителей и сестер. Лишь в 1925 году, через пятьдесят лет, он рассказал об этом одному из первых своих биографов Всеволоду Воинову. Да Репин пишет об этом в письмах Стасову в ноябре 1874 года. Офортом занимались у Боголюбова по вторникам. В письме В. Воинову Поленов пишет: «Тогда думали, что он (офорт. – М. К.) может быть применен как иллюстрация литературных произведений и даже журналов, но дело оказалось слишком дорогим и сложным, а литография, которая с давних пор была во Франции очень развита, очень популярна, чрезвычайно дешева и давала прекрасные результаты, помешала офорту сделаться доступным для широкого употребления».
Тем дело и окончилось. Офорт действительно недешев, дороже литографии, но когда вспоминаешь офорты Рембрандта или Гойи, то начинаешь жалеть, что эта техника не нашла должного места в творчестве Репина, Поленова и других художников, посещавших кружок Боголюбова. Получилось просто приятное времяпрепровождение: художники рисовали, потом резали доски, а в это время кто-нибудь читал стихи или прозу. Вот Репин пишет Стасову, что в один из таких вторников «один француз читал свои переводы Лермонтова на французский язык».
А между тем тот же В. Воинов, видевший все офорты, сделанные Поленовым в ту зиму, находит их очень талантливыми и считает, что Поленов, не оставь он это занятие, мог бы занять видное место в ряду русских офортистов; он очень тонко почувствовал своеобразие и выразительные средства этого вида графики.
Так закончился 1874 год, еще один год пенсионерства. Встречали Новый, 1875 год у Боголюбова. Был Тургенев, был Алексей Константинович Толстой, лечившийся во Франции. Художники превратили новогодний вечер в банкет в честь Боголюбова. Во – первых, каждый из приходящих оставлял у консьержа этюд, а потом уж консьерж приходил к хозяину, передавал ему подарок, неизменно говоря одну и ту же фразу: «Это для вас, но податель не пожелал назвать своего имени». На этюдах Боголюбов тотчас же ставил заветный знак: «Р. М.», что значило: «Радищевский музей». Кроме того, было устроено – неожиданно для хозяина и таких редких гостей, как Тургенев и Толстой, – несколько сюрпризов. Сначала маскарад: у Дмитриева-Оренбургского оказалось множество национальных костюмов: русские, украинские, мордовские… Потом вошел одетый мужичком Беггров и просит разрешения привести медведя с козой. В медвежью шкуру был наряжен Поленов… Танцевали, пели, плясали – кто что мог. Поленов особо отмечает трех девушек, племянниц художника Ге: «Одна из них учится петь, другая обучается живописи, третья – не знаю чему. Но дело в том, что одна красивее другой, а другая – красивее одной».
Вот так – так. А как же память о Марусе? А никак. Прошло уже полтора года. Портрет Маруси почти написан, да Поленов его все никак не может довести. Уже не любовь, а воспоминание о ней живет в его сердце. Только через год портрет будет окончен и отослан матери Маруси.
Антокольский в Риме продолжает трудиться над памятником. А Поленов в Париже заглядывается на «трех молоденьких хохлушек Ге». Дай ему Бог! Он еще будет увлекаться и любить… Но первая любовь – это такая загадочная штука… Он до конца дней своих все-таки окончательно не забудет о Марусе Оболенской.
Но мы отвлеклись. А между тем окончился маскарад, окончилась и «самодеятельность» (употребляя современное выражение), и началась «живая картина». Сейчас уже и не знают, что это такое: очень уж все это дорого и громоздко, а в результате – эфемерно. А в те времена живыми картинами увлекались очень. Картина, предоставленная на новогоднем вечере у Боголюбова, называлась «Апофеоз искусств». Все, какие ни есть, искусства были размещены в живописном порядке: скульптура (жена Дмитриева-Оренбургского), музыка (Валентина Семеновна Серова), живопись и поэзия (сестры Ге). Ниже располагались представители искусств: Гомер, Микеланджело (Поленов), Рафаэль (жена Репина), Шекспир, Бетховен. Венчал картину вензель Боголюбова, под которым стоял маленький Серов, одетый и загримированный гением (огромные белые крылья и лавровый венок в руках). За сценой кто-то исполнял «Полонез» Шопена.
Хозяин был, разумеется, растроган и со слезами на глазах благодарил устроителей всего этого торжества. «Тургенев сидел в первом ряду, прямо передо мною, – пишет Поленов родителям. – Я смотрел на его лицо – оно все просияло. Вообще Тургенев радовался, как ребенок».
Этот вечер еще более расположил Тургенева к Поленову. И уже очень скоро Поленов стал для Тургенева совсем своим человеком. К началу февраля Поленов окончил «Арест гугенотки» и, что называется, завертелся в вихре светской жизни.
Письмо его матери, написанное в середине февраля, носит характер несколько даже «хлестаковский»: «Последнее время немножко завертелся насчет плясу, ну и выходит неладно для дела, встаешь в одиннадцать, а работа и стоит. Третьего дня был прекрасный вечер у m-me Виардо, bel costume; [6]6
Костюмированный бал.
[Закрыть]что за костюмы, какой вкус, какая историческая верность, как характерны народные костюмы и веселье какое, несмотря, что как сельди в бочонке, почти на одном месте толкутся. Впрочем, первый приз, как костюм, взял Харламов…»
Харламов вообще пользовался в салоне Виардо репутацией талантливейшего из русских художников, живших в ту пору в Париже. Так провозгласил мсье Луи Виардо, искусствовед. Вслед за ним и мадам Виардо, и Тургенев провозгласили, что Харламов – едва ли не крупнейший из русских художников вообще. Надо сказать, что это воспринималось русской колонией художников несколько болезненно, и такая реакция была, конечно, оправданна. Харламов ни в какой мере не может сравниться ни с Репиным, ни с Поленовым, ни даже с Савицким или Боголюбовым. Но престиж Харламова у Виардо был незыблем…
«Надо опять за работу приниматься, – продолжает Поленов письмо, – а завтра опять вечер у Бертье, а там у Боголюбова, у m-me Ге, потом опять у m-me Виардо и т. д.».
Поленов покорен мадам Виардо. Прежде она казалась ему «немного кривлякой», теперь же она – «прекрасная дама» и «просто обворожительна». Ну а о самом Тургеневе и говорить не приходится, до того уж он «хороший господин – серьезный, теплый и такой простой, что даже забываешь, что это Иван Сергеевич Тургенев». «На интимных вечерах он повесничает с молодежью, будто самому только третий десяток пошел».
Нравятся Поленову и отношения внутри этого исторического «треугольника», супругов Виардо и Тургенева, который любит знаменитую певицу, разумеется, «платонической любовью», она «с ним обращается как со старшим братом – холостяком, который на старости лет нашел пристанище у домовитой сестры. А Виардята к нему относятся как к любимому дяде».
И в том же письме (10 (22) февраля 1875 года): «Сегодня у меня был Иван Сергеевич, ему картина понравилась. Он даже сказал, что у меня есть талант, и крупный, и движение вперед большое! Я этому очень рад!»
Еще бы!
И всю вторую половину зимы 1875 года, и следующую зиму Тургенев проявляет необычайное внимание к Поленову, бывает в его мастерской, хвалит его работы. Все это очень, очень приятно. Но ко всему привыкаешь. Привык и Поленов к тому, что Тургенев такой же человек, как и все, он спорит с ним, а «вчера (это уже в апреле 1876 года. – М. К.) на вечере у m-me Виардо я его так из терпения вывел, что он меня обозвал пятнадцатилетним мальчиком».
Сейчас, правда, Поленов не пишет матери, почему и Тургенев вслед за Татищевым и самой Марией Алексеевной назвал его «пятнадцатилетним мальчиком», но, надо думать, причина все же была иной. Тургенев это ведь не Татищев, не генерал в отставке, балующийся живописью после подавления Польского восстания. Тургенев был долгие годы связан с Герценом, через Тургенева Герцен получал в свое время многие материалы для «Полярной звезды» и «Колокола». Через Тургенева Герцен знакомился с попадавшими за границу декабристами… Именно в 1863 году, вскоре после подавления восстания в Польше, Тургенев был привлечен к ответственности по делу «о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами».
Поэтому, хотя Тургенев почему-то и называет Поленова «пятнадцатилетним мальчиком» (что даже нравится Поленову), но сообщает ему, что скоро едет в Петербург, и предлагает ехать вместе. Поленов сокрушается: ему еще рано. Но об отъезде в Россию он в то время уже начал хлопотать и действительно вскоре уехал.
В салоне Виардо Поленов и Репин (писавший портрет Тургенева по заказу Третьякова) познакомился с Золя, с Ренаном. Здесь, по-видимому, начинается сознательное постижение принципов и приемов импрессионизма, апологетом которого был Золя.
Ренан Поленова интересовал совсем по-иному. Ренан еще в 1860-е годы опубликовал первую книгу грандиозного труда «История происхождения христианства». Первой этой книгой была знаменитая «Жизнь Иисуса», в которой Ренан очищал евангельские книги от всего сверхъестественного, показывая Христа не Сыном Божьим, а «Сыном Человеческим», как сам назвал себя этот проповедник, Иисус из Назарета. Образ Христа все больше увлекал Поленова. После того как он, мальчиком еще, восхитился картиной Иванова, его не оставляла мысль написать картину о жизненных деяниях Христа. И тема была ему уже ясна: эпизод, описанный в Евангелии от Иоанна о женщине, взятой в «прелюбодеянии». Его интересовала, разумеется, не столько сама история, сколько мудрость этого человека, изрекшего не для одного случая пригодную истину: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».








