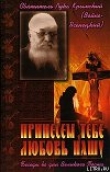Текст книги "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга"
Автор книги: Марк Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
Вопрос звучал грубо, но таил в себе подлинное обвинение: христианство запрещает священнику проливать кровь, даже в операционной. Когда-то в глухой латгальской деревушке учитель приходской школы втолковал маленькому Якобу Петерсу, что пролитие человеческой крови противно христианскому вероучению. С тех пор сам Якоб Христофорович успел начисто освободиться от веры и от боязни кровопролития. Но в пылу диспута память подсказала ему старое, давно отброшенное заклятие, и, сын своего времени, он пустил в ход это оружие, чтобы побольней ударить противника. Но – мимо.
Если бы они беседовали мирно в деловой обстановке, о. Валентин объяснил бы Петерсу, что Патриарх Тихон, узнав о его, профессора Войно-Ясенецкого, священстве, специальным наказом подтвердил право хирурга и впредь заниматься своей наукой. Но тут было не до объяснений. В переполненном многолюдном зале о. Валентин ответил противнику в полном соответствии с законами полемики:
– Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?
Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодисментами. Все симпатии были теперь на стороне хирурга-священника. Ему аплодировали и рабочие, и врачи. Но Петерс не смирился. Как бык на красную тряпку, продолжал он наскакивать на взбесившего его эксперта. Следующий вопрос должен был, по его расчетам, изменить настроение рабочей аудитории:
– Как это вы верите в бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего бога?
– Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил. (Колокольчик председателя потонул в долго не смолкаемом хохоте всего зала.)
"Дело врачей" с треском провалилось. Однако, чтобы спасти престиж Петерса, "судьи" приговорили профессора Ситковсного и его сотрудников к шестнадцати годам тюремного заключения. Эта явная несправедливость вызвала ропот в городе. Тогда чекисты вообще отменили решение "суда".
Через месяц врачей стали днем отпускать из камеры в клинику на работу, а через два месяца и вовсе выпустили из тюрьмы. По общему мнению, спасла их от расстрела речь хирурга-священника Войно-Ясенецкого. У этой истории есть два уточняющих постскриптума.
Первый, когда судебный спектакль окончился и публика покинула зал, Цируль, тот самый латыш Цируль, которого Войно-Ясенецкий поставил на ноги и который подарил профессору браунинг, сказал, повстречавшись с доктором Слонимом: "Этот поп такой поп, что он может в свой кулак все врачи города забирайт, в карман положи, на свалка таскай и выбрасывай".
Постскриптум второй. П. П. Ситковский был, по существу, создателем медицинского факультета в новом университете. До ареста он считался второй – после Валентина Феликсовича – фигурой в ташкентской хирургии. А через год после "дела врачей" ему были преподнесены в подарок золотые часы с надписью, выгравированной на крышке: "Профессору Петру Порфирьевичу Ситковскому за организацию медицинского факультета от Правительства Туркестанской республики". На суде профессор проявил выдержку и достоинство. Потере упорно добивался от него ответа, почему он не пришел в клинику в тот вечер, когда привезли обожженных красноармейцев, и хотя "неуважительная причина" грозила ученому жестокими карами, он отказался впустить посторонних в свою неизнь. Только много недель спустя в городе узнали, что в тот самый роковой вечер жена Ситковского пыталась отравиться и муж ее спас. Впрочем, Якоб Петерс, расстрелявший в 1918-1919 годах несколько тысяч "белых" и эсеров, едва ли признал бы события в доме профессора Ситковского достойными внимания. Для него это была всего лишь мелкобуржуазная мелодрама. Что же касается Войно-Ясенецкого, то на следующий день после окончания суда он уже был у себя на кафедре и приступил к очередным лекциям и занятиям.
Общественное поведение Валентина Феликсовича в Ташкенте между 1920 и 1923 годами представляется сплошным парадоксом. Один, не имея никакой реальной опоры, кроме собственного авторитета, он отстаивает законность, нравственность, право на независимые убеждения. Нет, он не произносит антисоветских проповедей. Оставим эту клевету на совести П. П. Царенко из Симферополя. Политика по-прежнему кажется ему предметом скучным, недостойным серьезного внимания. Но всякий раз, когда на его глазах пытаются попирать дорогие ему нравственные начала, он протестует. И очень энергично. Профессор Войно-Ясенецкий ведет себя в полном согласии с любимой пословицей В. Г. Короленко и Льва Толстого: "Делай что должно, и пусть будет, что будет".
Месяцев через пять после суда над Ситковским очередная ревизионная комиссия приказала снять икону в операционной Городской больницы. Идиллические времена, когда икона вернулась ради "честного партийного слова", миновали. Доля личной человеческой воли в машинизированном государственном аппарате стремительно уменьшалась, приближаясь к нулевой отметке. А Войно-Ясенецкий оставался все тем же: независимо мыслящим, непреклонным, знающим себе цену. Конфликт был неизбежен и в конце концов вспыхнул: профессор заявил, что не выйдет на работу, пока икону не вернут на место. И ушел домой. В конце 1921 года такой "саботаж" карался как самое тяжелое политическое преступление. Хирургу грозил арест. Верный Друг Валентина Феликсовича "лейб-медик" членов советского правительства Моисей Ильич Слоним бросился к стопам "главного хозяина" Туркестана Председателя Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б) Я. Э. Рудзутака. Зная психологию новой власти, Моисей Ильич почтительно разъяснил, что если будет арестован выдающийся хирург, ученый и педагог Войно-Ясенецкий, то ущерб от этого понесут прежде всего рабоче-крестьянская республика, ее медицина и наука. Рудзутак милостиво обещал пока профессора не арестовывать, пусть врачи сами найдут выход из "хирургического кризиса". Между прочим, тогда же товарищ Рудзутак заметил, что сам бы оперироваться у Войно-Ясенецкого не стал: "А вдруг во время операции хирург совсем сойдет с ума?"
Валентин Феликсович ничего о ходатайстве Слонима не знал и едва ли одобрил такое бесцеремонное вмешательство в свои личные дела. Он бастовал уже несколько дней. Засылаемые к нему в качестве разведчиков хирурги "доносили", что главный врач все время работает за письменным столом, что-то пишет, что-то читает. Уговаривать его было бесполезно.
Конец "второго иконоборства" профессор Л. В. Ошанин, по своему обыкновению, изображает в красках комических. "Вспомнили, что Войно не просто священник, но священник-монах, то есть находится под абсолютной властью архиепископа, которому должен подчиняться. В те времена архиепископом Туркестанским был митрополит Никандр. Делегация из двух или трех врачей отправилась в резиденцию митрополита. Оказалось, что митрополит неплохо разбирается в мирских делах. Он сразу сообразил, что для его епархии невыгодно, если один из пасомых им агнцев будет не в меру строптив и бодлив. Митрополит сказал, что вызовет "отца Луку", то есть В. Ф. Войно-Ясенецкого, и с ним побеседует, что врачи могут спокойно идти домой. Он гарантирует, что "хирургический кризис" будет ликвидирован... Войно на следующий день вышел на работу... и приступил к очередным операциям, несмотря на отсутствие иконы, которая с тех пор навсегда исчезла из операционной".
Шутейная версия Ошанина абсолютно недостоверна. Осенью 1921 года, когда происходило "второе иконоборство", Войно-Ясенецкий еще не был монахом, "отцом Лукой" (рассказчик забежал на два года вперед), а митрополит Никандр не был архиепископом Ташкентским. Перед нами типичный миф, сложенный во врачебной, атеистической среде, и место ему не здесь, а в "житийном" прологе нашей книги.
В действительности главный врач протестовал против изгнания иконы долго и всеми доступными ему средствами. В частности, в знак протеста не явился в научное врачебное общество, где стоял его доклад. Когда же на следующем заседании отец Валентин, как всегда в рясе, взошел на кафедру, чтобы произнести доклад, то прежде чем изложить новый способ резекции коленного сустава, сделал следующее заявление: "Приношу обществу извинение за то, что я не читал доклад в назначенный для меня день. Но случилось это не по моей вине. Это случилось по вине нашего комиссара здравоохранения Гельфгота, в которого вселился бес. Он учинил кощунство над иконой".
Выпад против высшего медицинского чиновника вызвал общий шум. Затем воцарилась, по словам современника, "гробовая тишина". Остолбенев от страха, врачи ожидали, что присутствовавший на заседании комиссар Гельфгот тут же испепелит нечестивца. Но комиссар, очевидно, побоялся скандала. Того же страха иудейска ради и председатель научного общества профессор М. А. Захарченко прошептал секретарю общества доктору Л. В. Ошанину, чтобы тот ни в коем случае не заносил в протокол неуважительных слов о представителе власти. Так реально выглядел конец "второго иконоборства". Оставляю читателю самому решать, кто в действительности остался победителем в этой борьбе.
Не скрывал своих принципов отец Валентин и на антирелигиозных диспутах. Такие дискуссии были любимы всеми слоями публики двадцатых годов. В пору, когда политические споры стали невозможными, в обстановке обязательного единомыслия дискуссии о бытии Божием и бессмертии души остались единственно доступной формой свободного обмена мыслями. Власти полагали, что дискуссии разрушат веру, расшатают церковь. Священники-богословы, наоборот, видеяи в дискуссиях возможность отстаивать веру, противостоять хаосу всеобщей безнравственности. Но чаще всего не торжествовал ни тот, ни Другой замысел. На Руси, от века не знавшей демократических свобод, спорить не умели. К тому же спорящие стороны были поставлены в явно неравноправное положение. Низкая культура диспутантов еще более усугубляла дело. Так что в конце концов встречи священников с пропагандистами-антирелигиозниками оборачивались средневековой перебранкой капуцина и раввина, почти в таком же виде, как описано у Генриха Гейне. А жаждущая развлечений публика, лузгая семечки и похохатывая, развлекала себя в этом своеобразном, а главное, бесплатном цирке.
Власти поощряли дискуссии, но лишь до того времени, пока такие серьезные религиозные деятели, как Введенский и Флоренский, не начали публично, как мальчишек, "шлепать" доморощенных антирелигиозников из партактива. После этого комиссар просвещения Луначарский заявил, что проводить диспуты следует очень осторожно, и практика открытого ратоборства властей со сторонниками веры была заменена акциями тайными.
В Ташкенте диспуты проходили чаще всего в зале "Колизея" (ныне театр им. Свердлова), при большом стечении народа. За несколько дней до встречи сторон в городе вывешивались афиши. Ошанин в "Очерках" и Стекольников в "Биографии В. Ф. Войно-Ясенецкого" говорят, что на таких публичных ристалищах Валентин Феликсович, как правило, одерживал моральные победы над своими противниками и вызывал всеобщее расположение публики. В "Мемуарах" он так говорит об этих выступлениях:
"...Мне приходилось в течение двух лет вести публичные диспуты при множестве слушателей с неким отрекшимся от Бога протоиереем, бывшим миссионером Курской епархии, возглавлявшим антирелигиозную пропаганду в Средней Азии. Как правило, эти диспуты кончались посрамлением отступника веры, и верующие не давали ему прохода вопросом: "Скажи нам, когда ты врал: тогда ли, когда был попом, или теперь врешь?" Несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил устроителей диспутов избавить его от "этого философа".
Активность в делах церкви не мешала работе хирурга. Те, кто считал Войно-Ясенецкого погибшим "для науки", были, вероятно, обескуражены, повстречавшись с отцом Валентином на первом научном съезде врачей Туркестана (Ташкент, 23-28 октября 1922 года). Здесь хирург-священник выступил с четырьмя большими докладами и десять раз брал слово в прениях. Можно сказать, что ни одно сколько-нибудь серьезное выступление по хирургии не оставалось без его замечания и оценки. Ему, накопившему огромный оперативный опыт, было что сказать и о злокачественных новообразованиях, и об удалении почечных камней. Был у Войно-Ясенецкого свой собственный метод хирургического лечения глаз (гнойные кератиты), туберкулеза шейных желез, гнойных заболеваний кисти руки. Интересны были его суждения о том, какая анестезия более подходит для той или иной операции (он по-прежнему оставался поборником местной анестезии).
Первый научный съезд врачей Туркестана поддержал два практических предложения о. Валентина: лечить туберкулезных больных на курортах (солнцелечение в Чимганских горах, грязелечение в Молла-Кара и Яны-Кургане) и второе – помочь провинциальным медикам освоить некоторые наиболее необходимые в условиях Туркестана глазные операции. В решениях съезда записано: "Поручить профессорам Турбину и Ясенецкому-Войно составить краткое практическое руководство для врачей по глазным болезням... Просить государственное издательство напечатать эту книгу и широко распространить ее среди врачей".
Руководство по глазным болезням написать так и не удалось, но зато к началу 1923 года была совсем близка к завершению первая часть "Гнойной хирургии" – главной книги профессора Войно-Ясенецкого. Одной главы не хватало (всего одной главы!), чтобы послать труд в издательство, когда произошли события, на годы оторвавшие автора от всякой научной работы...
В первый же день, когда Войно-Ясенецкий явился в больницу в духовном облачении, ему пришлось выслушать резкое замечание своей всегда послушной и добросовестной ученицы Анны Ильиничны Беньяминович. "Я неверующая, и, что бы вы там ни выдумывали, я буду называть вас только по имени-отчеству. Никакого отца Валентина для меня не существует".
Еще более непримиримо отнесся к "поповству" о. Валентина П П. Царенко, в то время молодой, но уже сделавший некоторую карьеру хирург (он был, между прочим, секретарем съезда врачей). "Я не раз видел Войно-Ясенецкого идущим в церковь и из церкви,– рассказывает Царенко.– Он шел, окруженный толпой бабонек, благословлял их, а они лобызали ему руки. Тяжелая картина". В больнице, по мнению Царенко, главный хирург тоже "чудил" – благословлял больных перед операцией. Все это было совершенно недопустимо, и Царенко с удовлетворением замечает, что арест пошел Войно-Ясенецкому на пользу. "Получив предупреждение, отец Валентин стал поскромнее".
Студентка-медичка красавица Капа Дренова тоже считала себя вправе обличать хирурга-священника. В больнице Капа крутила многочисленные романы, а дома учила английский на случай скорой мировой революции. "Вы кокетничаете своей рясой,– говорила Капа.– Поклонение верующих ласкает ваше честолюбие. Не так ли?" Наветы завистника и карьериста Царенко, благоглупости пустенькой Капы можно было бы и не принимать в расчет, но в том-то и дело, что эти двое представляли собой наиболее распространенный тип в окружении Войно-Ясенецкого. Священства о. Валентина не одобрил ни один из его сотрудников. Кто по убеждению, кто от страха, но все медики приняли новое обличье и новое общественное положение в штыки. Молодые врачи принимали рясу за символ классово-враждебной идеологии. Им казалось смешным и то обостренное внимание, с которым "шеф" относился к любому случаю безнравственности. Хотя выражение "лес рубят – щепки летят" вошло в российский политический словарь позднее, но люди двадцатых уже вполне освоились с этой философией. Стоит ли говорить о каком-то отдельном случае потери совести на фоне гигантских побед в эпоху мировых войн и революционных преобразований? Смешно! И доктор Ошанин искренне потешается, описывая, как проходил в 1921 году "суд" над ташкентским врачом, нарушителем элементарных правил своей профессии.
Известный в городе психиатр, лечивший гипнозом, несколько раз поцеловал загипнотизированную больную. Разбирал "дело" Президиум Союза врачей. Председателем Союза был профессор Войно-Ясенецкий. Перед этим случаем явного морального уродства Валентин Феликсович испытал неподдельное отвращение и недоумение. Он пытался постичь, как может случиться, чтобы врач использовал свои знания и свое призвание для столь низменных целей. А молодой Ошанин увидел в тех же фактах только тему для смешного, пикантного рассказика. Сценка в его исполнении действительно выглядит забавной.
"То ли она спала чутко, то ли не поддалась гипнозу, но она сообщила обо всем мужу, а тот на следующий день пришел к врачу и публично дал ему пощечину. И вот "грешник" предстал перед Президиумом Союза врачей... Одетый в рясу с большим крестом на груди, огромный, величественный, аскетически суровый Войно вел "допрос". Глядя на "грешника" неумолимыми, холодными, как сталь, глазами (бывали у него и такие, я как сейчас их вижу), "отче" вопрошал каким-то замогильным голосом:
Войно: И вы делали над ней пассы?
Грешник (не зная куда деваться от срама): Да, делал...
Войно: И вы делали эти пассы с целью усыпить ее?
Грешник (убитым голосом): Да, с этой целью.
Войно: И вы хотели ее усыпить, чтобы в сонном состоянии ее целовать?
Грешник (после мучительной паузы): Да, с этой целью.
Войно: И вы ее целовали?
Грешник (и без того уже неживой от стыда): Да...
Войно: А зачем вы ее целовали?
На это грешник ответствовал гробовым молчанием".
Юмореску "о суде над грешником" Л. В. Ошанин завершил беззаботным пассажем: "Для нас, членов суда, тогда молодых, не слишком аскетичных и пуританских, да еще на беду нрава смешливого, такая заунывная архипастырская исповедь была тяжелым испытанием".
Лев Васильевич вовсе не имел намерения обидеть своего учителя и начальника. Более того, он, как уже говорилось, любил Войно-Ясенецкого, во всяком случае, уважал его. Но одно дело – уважать, другое – понимать. Непонимание оборачивалось непредумышленной насмешкой. И так изо дня в день – непонимание, насмешки, а порой и ненависть. Комсомольские карнавалы на Пасху и Рождество, оскорбительные выкрики прохожих на улице... Между 1921-м и 1923-м годами на долю о. Валентина выпали те же испытания, что переживал в то время любой служитель церкви.
Откуда это? Куда девалась стройная картина православной Руси с переполненными храмами и иконой в каждом доме, картина, так умилявшая народолюбцев-славянофилов? Конечно, законы и действия государства носили в это время активно антицерковный, антихристианский характер. Но трудно представить себе, чтобы правительственный декрет об изъятии церковных ценностей или распоряжение о закрытии церквей могли в одночасье разрушить веру итальянского или испанского крестьянина. Почему же так легко раскрошилось христианское сознание русских православных мужиков и мастеровых? Дело, очевидно, было не столько в новых законах, сколько в старых навыках народной жизни. Революция и гражданская война лишь обнажили то, что давно предчувствовали наиболее проницательные умы России,-русский народ безрелигиозен. Духовная незрелость его, прорывающаяся то кровавыми бунтами, то рабским беззаветным царепоклонством, самосожжением раскольников и злодеяниями на больших дорогах, отпечаталась и на отношениях с Богом. Одна из важных сторон христианства – нравственная его основа,– несмотря на тысячелетнюю историю российского православия, осталась для огромной массы народа пустым звуком. Вера была понята миллионами как исполнение обрядов. Молебен, лампада перед иконой, водосвятие, крещение, соборование – вот из чего складывалось для подавляющей части простых людей понятие веры. К этой обрядовой стороне низы относились уважительно, порой даже истово (отсюда обилие религиозных сект и направлений в православии). Учтя это, великие прагматики социал-демократы до поры до времени не решались открыто выступать против веры. Они сделали даже вид, что сочувствуют религиозным меньшинствам. В 190Э году Ленин писал: "Социал-демократы требуют... чтобы каждый имел полное право исповедовать какую угодно веру совершенно свободно... Каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, но и распространять любую веру..."
Полтора десятка лет спустя, захватив власть, правительство, возглавляемое Лениным, сочло, что ему более выгодно объявить священников врагами народа, а церкви – местом одурачивания масс. Началось организованное гонение на церковь. Гонения привели к частичному крушению этой твердыни, а крушение церкви выбило из-под веры миллионов главную опору. Верить в собственном сердце, верить для себя и просто жить по Христу народ российский за тысячу лет рабства не научился. А далее, как салазки с ледяной горы, все покатилось быстрей и быстрей. Уже давно замечено: если от религии отходит интеллигент, в его личном и общественном поведении мало что меняется – социальная культура, социальные навыки, пусть внешне, но все-таки компенсируют отвергнутые принципы Нагорной проповеди. Но когда крест с себя срывает мужик, в характере его наступают, как правило, деструкции, непоправимые, общественно-опасные. Сво-1 бода от веры тотчас обернулась для крестьянской России свободой не только от законов божеских, но и человеческих. Возникла самая подходящая среда для размножения, роста и процветания мещанина. Явление это совсем не классовое, а психологическое и этическое – вчерашний мужик или мастеровой, потерявший "страх Божий" и оттого убежденный в том, что все дозволено, нынешний мещанин быстро стал главным лицом нового общества.
У нас с понятием "мещанин" соединено обычно представление о плохом художественном вкусе и наклонности к накопительству. Между тем главное в мещанской психологии вовсе не любовь к канарейкам, а ненависть ко всему, что ему, мещанину, непривычно, ко всякому, кто "не как все". К какой угодно власти привыкает мещанин быстро, без труда. Но если несходное с собой выражение лица заметит в ком-нибудь из нечиновных – враз лютеет. Ибо хорошо знает: на "чужом" можно отыграться, сорвать злобу, разрешить свою ущемленность, ущербность.
В начале двадцатых людьми "не как все" были объявлены те, кто в рясах, в погонах, в рубашках с галстуками. Мещанин размышлять не стал: внешняя форма для него и есть содержание. Чужак? Гав! – и за горло. В начале тридцатых мещанину разъяснили, что "можно галстук носить очень яркий и быть в шахте героем труда". В начале сороковых новое уточнение: золотые погоны ("наши погоны" – это хорошо. И ряса, если она заседает в Комитете защиты мира, – тоже патриотична. Взамен прежних "не как все" получил мещанин для ворчания и кусания новых манекенов – евреев, писателей, непрогрессивных иностранцев. Ибо, как уже говорилось: "Не имея врага, не построишь храма".
Надев рясу, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в тот нее миг превратился для мещанской массы в чудесного, можно сказать, просто великолепного врага. Все в нем было явно вражеское: и облаченье, и поступки. Действительно, как это понять: все с себя кресты снимают, а этот надел? Не боится? Все боятся, а он не боится? Врешь, нас не проведешь! Если ты профессор да подался в священники, значит, была у тебя какая-то выгода. Без выгоды никто ничего делать не станет. И мещанин, как хорошо натасканная ищейка, начинает искать эту "выгоду". Крупных личностей для него нет. Величие идей отсутствует. Причина, по которой ученый пошел в попы, непременно должна быть понятна. Темнит Войно-Ясенецкий, но мы его раскусим, голубчика. Продался за деньги? Нет, не то. Бессребреник – гад. Брезгует деньгами. Ну тогда, значит, тщеславие его расперло, покрасоваться захотелось, внимание на себя обратить. Ишь, франт, поповская морда... Ты у нас покрасуешься где надо...
Что должен делать христианин в эпоху всеобщего, эпидемического паралича совести? "И что сделает праведник, когда разрушены основы?" (Псалмы Царя Давида.) Препоясаться мечом и крушить отступников веры ошуго и одесную? Подставлять хамам то правую, то левую щеку? Или закрыть глаза на мерзость века, или признать вместе с поэтом Фетом и Софьей Андреевной Толстой, что христианство – неосуществимо?
"Валентин Феликсович слушал "разоблачения" Капы Дреновой и только улыбался,– вспоминает профессор 3.И. Умидова.– Снисходительно так улыбался, как взрослый улыбается, слушая ребенка. Как ни старалась Капа, ей никак не удавалось вызвать его на серьезный разговор".
Можно ли сомневаться: у профессора Войно-Ясенецкого достало бы твердости, чтобы отчитать бестактную девчонку, которая позволяет себе вмешиваться в чужую личную жизнь. Но священник отец Валентин не счел возможным ответить молодой дикарке резкостью. Христианин и человек большого жизненного опыта, он знал, что резкостью ничего, кроме озлобления, в молодую душу не внесешь. С терпением относился он к любому мнению. И даже ко взглядам Капы и Царенко.
"Зная многих из нас как безнадежных безбожников, он никогда нам ничего не проповедовал, не агитировал, не стремился "направить на путь истинный",пишет Л.В. Ошанин,– Вообще Войно был терпим к инаковерующим. Среди его учеников было много евреев: одним из ближайших его друзей был профессор Моисей Ильич Слоним". Однажды (это было уже в 1926 году), встретив Ошанина с женой и дочерью, строгий епископ Лука запросто пожал всем руки. "Здравствуйте, здравствуйте,– сказал он улыбаясь,– целое безбожное семейство по улице идет, и как только земля терпит". "Войно был строг, суров, аскетичен,– добавляет Ошанин,– особенно суровыми были его холодные, умные, внимательные глаза. Но иногда он как-то особенно искренне и дружелюбно улыбался. Не я один, а все, знавшие Войно, хорошо помнят его милую улыбку". Именно такой улыбкой приветствовал он "безбожное семейство" Ошаниных.
Но, как ни парадоксально, снисходительность и дружелюбие хирурга-священника проливались в те годы в основном на безбожников и инаковерующих. С верующими он был суров, непреклонен, а по некоторым свидетельствам, даже жесток. Об этом существует несколько рассказов. Один из них относится к лету 1922 года, когда религиозная ситуация в городе до крайности накалилась.
В Москве в противовес традиционной православной церкви, возглавляемой Патриархом Тихоном, возникла так называемая "Живая церковь". Пользуясь поддержкой светских властей, "живоцерковники" (речь о них пойдет ниже) начали захватывать по всей стране церкви, приходы, кафедры, кафедральные соборы. В Ташкенте им удалось занять собор, стоящий в центре города. Сергиевская же церковь на Пушкинской улице, где служил о. Валентин, сохранила верность Патриарху. Между двумя церковными организациями шла жестокая борьба. В эту пору многие верующие, особенно живущие в центре люди, да к тому же не слишком разбирающиеся в церковной политике, обращались к Войно-Ясенецкому с просьбой разрешить им посещать собор на Красной площади. Но о. Валентин на все эти просьбы категорически заявил, что тем, кто станет молиться в "живо-церковном" соборе, он откажет в исповеди и причастии. Стариков (это были в основном интеллигентные люди врачи, профессора, учителя) непримиримость священника огорчала, но делать нечего, приходилось таскать свои старые кости в дальнюю Сергиевскую церковь.
Можно как угодно относиться к этим фактам, но в них нельзя не заметить твердой последовательности: в душе верующего Войно-Ясенецкий желал пробудить твердость, непримиримость, подобные той пламенной непримиримости, с которой он сам относился к делам веры. Различное отношение к верующим и атеистам сохранял хирург-священник всю свою жизнь. Различие это было для него принципиальным и вытекало из его представлений о долге христианина.
А мещанин между тем не унимается: он уже уразумел, что общественный вызов, брошенный о. Валентином, адресован ему, мещанину. Он жаждет мести. Дай ему волю, и он вымазал бы хирурга-священника смолой, перевалял бы в перьях и по всем правилам средневекового обряда протащил по городу. Впрочем, зачем же смола, можно и без смолы. По Ташкенту ползет липкий, грязный слушок: "Батюшка-то Валентин жену схоронил и другую в дом привел. При детях малых... Срам... Стыд... Проповедует в храме, чтобы православные венчались крепким церковным браком, а сам..."
Слух кажется очень достоверным. После смерти жены Валентин Феликсович действительно поселил в доме свою хирургическую сестру Софью Сергеевну Велицкую. В "Мемуарах" он придает этому эпизоду характер мистический. В ночной час, когда стоял он в ногах умершей жены Анны, читая Псалмы, строка 112 Псалма – "И неплодную вводит в дом матерью, радующеюся о детях",подсказала ему нужное решение.
Но если даже оставить в стороне мистическое объяснение, то выбор домоправительницы и воспитательницы детей, сделанный Валентином Феликсовичем осенью 1919 года, не оставляет желать лучшего. Да и не было у него другой возможности. "Когда умерла мама, папа в отчаянии, оставшись с четырьмя детьми, звал к себе приехать тетю Шуру и тетю Женю (родных сестер жены.– М.П.), но они отказались. На помощь пришла к нам Софья Сергеевна Велицкая – ангел наш хранитель – и посвятила себя нам, детям",– пишет Елена Валентиновна Жукова-Войно. О том, что С. С. Велицкая спасла детей Валентина Феликсовича от неминуемой в ту пору гибели, говорят и многие из бывших сотрудников Городской больницы в Ташкенте.
На коллективном снимке, где хирургическая сестра снята вместе со своими коллегами в операционной, мы видим очень худощавую, прямую и, по всей видимости, решительную женщину лет сорока. У нее живое, полное доброжелательства и участия лицо. Настоящая сестра милосердия старой выучки. Была Софья Сергеевна женой убитого на фронте офицера царского. Своих детей не имела. В операционной ценили ее за мастерство и скромность: ни слова лишнего, зато с ходу угадывала, какой инструмент потребует оперирующий хирург в следующее мгновение. Детей Войно-Ясенецкого, как рассказывают, Велицкая любила и в доме младшего – Валентина – дожила до глубокой старости. Что же касается отношений с главой дома, то тут я призываю читателя полностью довериться "Мемуарам" Войно-Ясенецкого:
"Моя квартира главного врача состояла из пяти комнат, так удачно расположенных, что Софья Сергеевна могла получить отдельную комнату, вполне изолированную от тех, которые я занимал. Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, и Богу Всеведующему известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым".
К той же теме Войно-Ясенецкий вынужден был вернуться, получив от архиепископа Иннокентия предложение стать священником.
"Я говорил с Владыкою о том, что в моем доме живет моя операционная сестра Велицкая, которую я, по явно чудесному Божию повелению, ввел в дом матерью, радующеюся о детях, а священник не может жить в одном доме с чужой женщиной. Но Владыка не придал значения этому моему возражению и сказал, что не сомневается в моей верности седьмой заповеди".