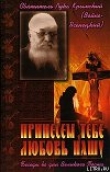Текст книги "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга"
Автор книги: Марк Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
С Михайловским Лука знаком не был (они лишь виделись раза два при случайных обстоятельствах). Зато ему пришлось беседовать с обеими женами профессора. Обе оказались в том людском потоке, который тянулся к отставленному епископу за советом и помощью. Для бесед с просителями у Луки был выделен специальный час после врачебного приема. Однажды, это произошло, очевидно, в начале весны 1929 года, в назначенный час на Учительскую улицу пришла худая, бедно одетая женщина лет за сорок. Низко поклонившись епископу, она сложила руки, прося благословения. Лука благословил. Глазом опытного, много пожившего человека он сразу заметил опухшие в суставах, "застиранные" пальцы профессиональной прачки. Такие люди ему были особенно милы. Еще больше сочувствия к труженице испытал он, когда та рассказала о событиях своей жизни. Алевтина Ивановна Михайловская стала поденщицей и прачкой пять лет назад, после того, как муж оставил ее с двумя детьми без всяких средств к существованию. В Ташкент они приехали с Украины в голодном 1920 году. Семья тогда была дружной, муж любил детей, заботливо относился к жене. Благополучие дома рухнуло после того, как в 1924 году умер от скарлатины их сын Игорь. Смерть эта вызвала у Михайловского взрыв безумия. Он кричал, чтобы жена зарубила его или дала яду: жить без сына ему невозможно. Человек с детских лет религиозный, он вдруг накинулся с топором на домашний киот. "Бог, лишающий отца горячо любимого сына,– не Бог, а гнусное чудовище",– орал он, сокрушая иконы. Постепенно буйство прошло, но началось тихое помешательство. Иван Петрович отказался хоронить сына. Сказал, что воскресит Игоря, и занялся опытами с переливанием крови. В характере его произошел резкий перелом. Был он всегда человеком спокойным и добрым, а тут вдруг стал груб, даже жесток. Случалось, бил жену и детей. Жить с ним стало невыносимо. Семья распалась. "Он помешался,– повторяла Алевтина Ивановна.– Брак с молодой девушкой продолжение безумия, начавшегося пять лет назад". Нет, она не просила вернуть мужа в дом. Пусть живет, как хочет. Но пусть похоронит, наконец, ребенка. Нестерпимо слышать, что крысы грызут тело Игоря, а студенты тайком ходят на кафедру, чтобы там потешаться зрелищем "мальчика, приготовленного для воскрешения".
Не знаю, чем, какими словами утешил Лука свою собеседницу. Известно лишь, что с Михайловским он беседовать не стал. Проблема теодицеи, на которой свихнулся провинциальный естествоиспытатель, крушила мозг и покрепче. Владыке оставалось лишь молиться за оставленную мужем жену и брошенных детей.
Этим, однако, история не кончилась. В июне к Луке пожаловала вторая жена Михайловского, или, как она себя отрекомендовала, невеста профессора. В одном из позднейших фельетонов, посвященных гибели Ивана Петровича, жена его, Екатерина Сергеевна, изображена как "молодая, статная студентка-медичка со злым огоньком в красивых глазах". Достоверность фельетонных портретов сомнительна, но современники свидетельствуют, что Гайдебурова-Михайловская была действительно хороша собой. Верующая дочь верующих родителей, она пришла, по ее словам, поделиться возникшими у нее сомнениями. Михайловский сделал ей предложение. Брак, конечно, неравный. Что думает об этом Владыка? Правильно ли она сделала, приняв предложение? Второй вопрос носил уже совсем исповедальный характер. Оказывается, Екатерина Сергеевна не только приняла предложение, но и официально стала уже женой Михайловского. Их брак зарегистрирован в ЗАГСе еще 13 февраля. Но, по словам "невесты", отношения с мужем остаются "чистыми", они живут на разных квартирах. Свою близость отложили они до того времени, когда будут обвенчаны по церковному обычаю. На этом настаивает Иван Петрович. Молодая женщина против венчания не возражает. Но вот вопрос: подобает ли вступающему в брак вторично снова идти под венец?
Неужели ничто не насторожило Луку в этом признании? Воздержание супругов по религиозным мотивам? И это в 1929-то году, когда вступить в брак и расторгнуть его было так же просто, как войти в спальную комнату и выйти из нее? Ох, крутит девка, скрывает что-то. Не с чистым сердцем пришла к Владыке. Но Лука не считает себя вправе лезть в интимные подробности отношений мужа и жены. Его точка зрения состоит в том, что каждому вступающему в брак христианину следует пройти через таинство венчания. Что же до супружества Ивана Петровича и Екатерины Сергеевны, то на этот счет у него тоже вполне определенные взгляды: "Факт женитьбы пожилого Михайловского на молодой Гайдебуровой не обещал ничего хорошего". Эти слова, зафиксированные в официальном документе, Войно-Ясенецкий произнес не в июне, а почти полгода спустя, в октябре. Но, зная характер и принципы нашего героя, можно не сомневаться: нечто подобное сказал он и пришедшей к нему за советом "невесте".
...У всякого нормального человека история семьи Михайловских должна, очевидно, вызвать чувство брезгливости. Но целитель по самой своей натуре, епископ Лука воспринимал духовную грязь, моральный гной окружающего мира так же, как в своем врачебном кабинете рассматривал гной и грязь физически. Они не вызывали у него отвращения, не коробили его, но побуждали к действию, заставляли искать лекарства и врачебные приемы, чтобы оздоровить, спасти еще сохранившуюся ткань. Этот сверхчеловеческий объективизм, перед которым мы почтительно склоняем сегодня головы, в конкретной обстановке 20-х годов был, однако, роковым. Профессор Войно-Ясенецкий, сам того не зная, все глубже и глубже втягивался в "дело Михайловского". Он сам шел навстречу ловцам человеческих душ, которые только и ждали, как бы опутать его, осудить, лишить свободы и доброго имени.
Михайловские повенчались в конце июня, а днем 5 августа народный следователь Кузмич подал рапорт дежурному по городу Ташкенту, извещая о самоубийстве на Второй Кладбищенской улице в доме No 45. В рапорте значилось, что самоубийца Михайловский Иван Петрович застрелился из револьвера смит-вессон No 211906. В седьмом часу утра он был найден лежащим в своем доме на залитой кровью постели. Револьвер, из которого сделан выстрел, милиционер Ионин обнаружил рядом.
Днем, пятого, Войно-Ясенецкий, как обычно, принимал больных у себя в кабинете. Часов в одиннадцать вошла Шура Кожушко и вполголоса, как была приучена, сообщила, что какая-то дама просит принять ее по срочному делу без очереди. Нет, не больная, но плачет и, видно, очень нервная. Екатерина Сергеевна не вошла, а буквально вбежала в кабинет и с порога повалилась на колени. Все, кто помнит Гайдебурову, говорят о странности ее одежды. Ходила она в длинных, давно вышедших из моды платьях с большими бархатными бантами, воздвигнутыми на том месте, где со времен первой мировой войны никто уже бантов не пришивал. На этот раз явилась она в тяжелом траурном платье и шляпе с вуалью. В этом старомодном обрамлении ее жалкое, испуганное и зареванное лицо казалось еще более жалким и зареванным. Путаясь в длинном шлейфе, она в слезах принялась рассказывать о самоубийстве мужа. Потом перескочила на похороны: стала умолять похоронить Ивана Петровича по-церковному. Самоубийцу священники отпевать не станут, но если бы Владыка попросил, ему бы не отказали... Вызвать у Войно-Ясенецкого сочувствие в делах житейских, семейных было нетрудно. Это знал весь город. Знала и Екатерина Сергеевна. Знала и давила на все педали. Вспомнила вдруг, что когда однажды Иван Петрович болел, то приказал, чтобы в случае смерти отпевал его непременно владыка Лука.
Странный это был визит, подозрительный. Сомнительно выглядело распоряжение "молодожена" Михайловского о своих будущих похоронах, и это траурное платье, в которое вдова успела облечься, несмотря на ранний час, августовскую жару и неутешное горе. Театром попахивало от вуали, от черных перчаток.
Даже с чисто формальной стороны переговоры с Гайдебуровой о похоронах ее мужа – абсурд. Просительница попала совсем не по адресу. Разрешение на похороны имел право выдать только митрополит Арсений Стадницкий, возглавляющий Ташкентскую церковную кафедру. У Луки же никаких административных прав в церкви нет, ему никто не подчинялся. Однако он видит напуганную, растерянную и, очевидно, не слишком умную женщину и пишет ей записку к митрополиту Арсению.
В деле Михайловского митрополит учуял запах чего-то опасного. Но и Луке отказать ему не хотелось. Знал он об огромном авторитете Войно у горожан. Подумал и отослал ответную записочку, в которой и согласия на похороны не дал, и вместе с тем тонко намекнул Луке, как лучше всего сделать, чтобы Михайловского все-таки похоронили. "По прежним законам требовалось врачебное удостоверение, удостоверяющее психическую ненормальность застрелившегося, в каковом случае возможно церковное погребение",– написал он и добавил, что епископу Луке участвовать в похоронах не рекомендует.
Устами многоопытного церковного политика жизнь еще раз подсказала епископу Луке наиболее рациональное решение проблемы. Сам правящий митрополит противился церковным похоронам самоубийцы. О чем было еще говорить? Но, прочитав записку вслух, Владыка увидел, что Екатерина Сергеевна сначала сникла, а потом взгляд ее загорелся надеждой. "Если бы профессор пожелал подтвердить психическую ненормальность..." И он подтвердил. Вырвал из блокнота узкий листок с именной печатью – "Доктор медицины Ясенецкий-Войно В. Ф." (на таких листках писал он свои рецепты) и круглым разборчивым почерком набросал следующие три строки:
"Удостоверяю, что лично мне известный профессор Михайловский покончил жизнь самоубийством в состоянии несомненной душевной болезни, от которой страдал он более двух лет.
Д-р мед. Епископ Лука. 5. VIII. 1929"
Это была неправда. Точнее полуправда. Лично Михайловского Лука не знал. О безумии узнал из разговоров с первой женой физиолога и из рассказов случайных очевидцев. Но не в безумии покойного была для него суть вопроса, а в том глубоком человеческом сочувствии, которое испытал он к сидящей перед его столом измученной женщине. В старинном евангельском споре о Субботе и Человеке Лука безоговорочно стал на сторону Человека. Записку свою он в тот же день сам отнес и лично вручил настоятелю кладбищенской церкви о. Венедикту Багрянскому.
Михайловского отпели шестого, а седьмого августа следователь Кочетков распорядился, чтобы Гайдебурову Е. С. взяли под стражу как подозреваемую в убийстве мужа Михайловского И. П. Узкий листок из рецептурного блокнота, который решил судьбу злосчастных похорон, а впоследствии и самого Луки, нашел я на странице 146. "Следств. дела". Записка числилась основным документом, разоблачающим преступные намерения Войно-Ясенецкого. Именно на этот текст опиралось следствие, на нем зиждился окончательный приговор.
Утром седьмого августа следователь 2-го участка Ташокруга Кочетков допросил двух дорожных рабочих. Пятого рано утром, когда они шли на работу по Кладбищенской улице, какая-то женщина, высунувшись в пролом забора, попросила их зайти в дом. Они вошли и увидели убитого старика в луже крови. Вызвали милицию. На вопрос следователя, была ли женщина достаточно взволнована, растрепана ли была ее одежда, рабочие ответили, что для такого случая женщина показалась им довольно спокойной, одежда ее была в порядке. Показания двух прохожих представились следователю настолько многозначительными, что он немедленно арестовал Гайдебурову и прочно укрепился в убеждении, что именно она убила Михайловского. Не странно ли? Нет, закономерно. Как и любой следователь советской эпохи. Кочетков предпочитал иметь дело с убийством, а не самоубийством. Такое предпочтение коренилось в основах отечественной идеологии. Убийство – преступление, совершенное отдельным нетипичным представителем нашего общества. Это родимое пятно капитализма, пережиток минувших, уже изжитых у нас отношений. Наказывая убийцу, мы наказываем случайно вторгшийся к нам элемент чужого нам быта. Самоубийца – совсем иное дело. Как и христианскую церковь, советскую власть в самоубийстве возмущает прежде всего самоуправство. Произвольный, независимый от власти акт свидетельствует о том, что в стране существует какая-то неуправляемая жизнь, бытие неконтролируемых индивидов. Это недопустимо. Государство рабочих и крестьян не желало уступать гражданину ни одной из своих прерогатив, и прежде всего права казнить по собственному выбору. К тому же тот, кто покушается на свою жизнь, "портит статистику", разрушает миф о стопроцентном единодушии счастливого социалистического общества. "Самоубийца приравнивается к дезертиру,-пишет Надежда Мандельштам.-Допустить, чтобы в прекрасной армии строителей социализма бывали случаи дезертирства, мы не могли..."
И не хотели. Следователь Кочетков желал спокойно есть свой хлеб, карая чуждых строю врагов и убийц, а не занимаясь сомнительными изысками по поводу причин самоубийства советского профессора. Одним словом, ему позарез была необходима Гайдебурова как убийца своего мужа. А уж почему она его убила – следствие разберется. Приняв такое вполне политически грамотное решение, Кочетков арестовал Екатерину Сергеевну. Следующие полгода он добросовестно искал решение задачи, конечный ответ которой казался ему совершенно ясным. В том, что партийный подход не привел в конце концов ни к обнажению истины, ни к справедливости, следователь не виноват. Он действовал старательно и был верен партийным и юридическим канонам своего времени.
Излагать содержание всех четырехсот страниц Дела No 4691 бессмысленно. И не только потому, что большая часть документов не имеет отношения к Луке, но еще и по причине вопиющего антиэстетизма самого "Дела". Листая протоколы допросов, то и дело ловишь себя на мысли, что в течение полугода следователь, потакая своим же не слишком разборчивым вкусам, очевидно, просто смаковал грязные подробности семейной жизни Михайловского и Гайдебуровой. На его допросах все крутится вокруг постели. Подруги Екатерины Сергеевны, соседи и родственницы с жаром обсуждают половые возможности покойного Ивана Петровича, толкуют, почему Катя убегала от него ночевать домой к матери и отчиму. В середине следствия обнаружилось, что Гайдебурова беременна. Тогда все усилия экспертизы и свидетелей устремились на то, чтобы выяснить, с какого же числа началась половая жизнь Михайловских. Когда удалось доказать, что беременность началась не только до венчания, но и до регистрации брака в ЗАГСе, всеобщий ажиотаж достиг высшей точки. Екатерина Сергеевна на допросах путала числа и месяцы, давала показания и тут же отказывалась от них, она рыдала, просила отпустить ее, но при всем том твердила, что в смерти мужа не виновна.
Дело пухло, количество бумаг росло, а истина, которая казалась сначала такой явной, никак не желала выходить наружу. Следователь заметался. Он привлек к ответу мать и отчима Екатерины Сергеевны. Они оказались "из бывших", это его устраивало. Грязи в протоколах стало еще больше, но дело с места не сдвинулось. Муж и жена Гайдебуровы ненавидели друг друга. Мать в корыстных целях пыталась вытолкнуть дочь за "солидного жениха", а потом скандалила с профессором из-за каких-то тазов и простыней. В том хлебове, которое варил следователь, ложь, корысть, фантастическая мещанская пошлость кипели и били ключом, но убийством дело и не пахло. Представшие перед следственным столом мелкие людишки хотели сладко есть, пить, спать, им желательно было также чем-то и кем-то казаться. Но убивать? Зачем же им убивать Михайловского? Зять профессор – это так приятно щекотало тщеславие. Да и жалованье профессорское на улице не валяется.
Еще один нервический рывок в сторону – следователь берется за допрос "попов": митрополита Арсения, епископа Луки, священника Венедикта Багрянского. Вот кого бы хорошо засудить! Открылась история с церковными похоронами Михайловского. В руки следователя попадает записка Луки. Кочетков воспрял духом: вот оно, начинается... Но на допросе 17 октября 1929 года Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, 1877 года рождения, из дворян Могилевокой губернии, доктор медицины, епископ, вдов, образование высшее, беспартийный, увы, не показал ничего такого, за что его можно было бы впихнуть в камеру вслед за Гайдебуровой.
– На каком основании вы дали разрешение на погребение самоубийцы Михайловского? – спросил следователь.
– Разрешения я не давал,– ответил Войно,– священники его похоронили сами, на свой риск. По просьбе жены Михайловского я дал записку священникам, где удостоверил, что Михайловский был психически болен...
– Считаете ли вы возможным отпевание по религиозным обрядам самоубийц?
– Я считаю устаревшими некоторые из церковных канонов, в частности, в отношении запрещения церковью погребать самоубийц...
– Как можно расценивать вашу записку, как написанную врачом или духовным лицом?..
– Записка моя может рассматриваться только как написанная врачом, ибо, не имея административных церковных прав, я в этой части не мог бы пользоваться авторитетом и мои распоряжения не выполнялись бы, с ними могли бы не считаться.
– Видите ли вы какое-нибудь противоречие между научными трудами Михайловского и христианской религией?
– Противоречия между этими понятиями я не вижу, ибо считаю, что глубоко научные материалистические труды не противоречат его религиозности и не идут вразрез с церковью.
Следователь задал для самоуспокоения еще несколько вопросов. Спросил, между прочим, зачем летом текущего года Луке понадобилось ехать в Бурч-Муллу, в то время как было известно, что в этом районе оперируют басмаческие шайки. Но скоро стало ясно: от "попов" проку не будет. Конечно, можно усомниться, насколько законно, что хирург ставит психиатрические диагнозы. Но даже если диагноз фиктивен, какое все это имеет отношение к вопросу о том, к т о убил Михайловского? Одним словом, после шести месяцев работы Кочетков решил, что интуиция в следственном деле главное, а интуиция подсказывала ему одно: убила Екатерина Гайдебурова, больше некому. Версия о безумии, о самоубийстве Михайловского его по-прежнему не устраивала как политически не выдержанная.
Двадцатого января 1930 года на свет, наконец, родилось обвинительное заключение, из которого явствовало, что Михайловская (Гайдебурова) убила мужа по причине тяжести его характера, а также из-за неладов его с горячо любимой матерью, которую муж отказывался лечить. Разойтись с Иваном Петровичем Екатерина Сергеевна не решалась из-за религиозных ("консервативных", как писал Кочетков) соображений.
Ни один свободно действующий независимый суд в Европе не принял бы к разбирательству столь убого обоснованное заключение. Но "азиатское" по сути своей отечественное судопроизводство и тогда и потом удовлетворялось документами куда менее убедительными. Кочетков, который вел следствие "по интуиции" (хотя и не знал скорее всего смысла этого слова), был еще не худшим образцом юриста нового времени. Потомок тех, кто в 1918-1920 годах судил, опираясь лишь на два класса приходского училища и классовое пролетарское правосознание, он и его товарищи доживали в судебных учреждениях последние дни. Шел 1930 год, год темпов, коллективизации, индустриализации, год, когда часто замелькали в газетах портреты мужчины в кителе с черными, как смоль, усами. Начиналась новая эра, и вместе с ней на судебно-следственные небеса восходили звезды куда более страшные, чем Кочетков.
Прежде чем навсегда расстаться с этим старательным и ограниченным служакой, мне придется забежать вперед и рассказать о письме, которое получил он примерно года через полтора после того, как подвел итоги по "делу" Михайловского. Писала его бывшая подследственная Екатерина Гайдебурова, получившая срок и сосланная на Урал созидать индустриальную базу социализма. То ли надеялась она улучшить свое положение, то ли хотела добиться пересмотра дела, но в письме своем выболтала она все тайны, которые так стоически скрывала на следствии. Те нечистоплотные отношения в семьях Михайловских и Гайдебуровых, которые заметил даже Кочетков, оказались лишь слабой тенью подлинной царившей там клоаки. Нет, Екатерина Сергеевна не убивала мужа. Он застрелился сам в ее присутствии после очередного супружеского скандала. Совсем иная причина заставила ее петлять на допросах, лгать, отказываться от своих показаний. Екатерина Сергеевна боялась, что ее уличат в другом преступлении. Начиная с 1927 года она жила со своим отчимом Гайдебуровым. Он приходил к ней ночью, покинув супружеское ложе в соседней комнате. Сначала отчим принуждал ее к сожительству, но потом она уже не противилась, хотя и замирала от страха, боясь, что мамочка узнает правду. Страх стал главным чувством ее жизни. Страх и стыд. Она любила мать и мучилась от двойственного положения дочери и соперницы. Мать ни о чем не догадывалась. В начале февраля 1929 года Катя почувствовала себя беременной. Попыталась "устроить" аборт – не получилось. Оставалось одно: срочно выйти замуж. Неожиданно для всех она дала согласие на брак с этим желтым и лысым Михайловским, который давно домогался ее руки. После регистрации в ЗАГСе и свадебного пира возник первый конфликт: молодая не желала ехать в дом мужа. И не только потому, что не любила старика, но и из-за тяжело протекающей беременности – ее непрерывно мутило, Екатерина потребовала венчания и заявила, что невенчанная в дом Михайловского не войдет. Она лгала, лгала – дома, в институте, матери, мужу, подругам. Она убегала к маме, но та гнала ее назад: "Ты жена, хозяйка, заводя свое гнездо". А когда удавалось заночевать в своей девичьей комнате, туда являлся среди ночи отчим. Муж в общем-то был человеком неплохим. Но он чувствовал, что между ними лежит какая-то ложь. Он действительно был физически не совсем здоров, а от постоянных ее тайн, экивоков, скандалов окончательно помешался. Много раз грозился покончить жизнь самоубийством. И после одной особенно тягостной для обоих ночи исполнил свою угрозу. В том письме, накорябанном на скверной бумаге не слишком грамотной рукой, бывшая студентка несколько строк посвящала епископу Луке. Владыка ни в чем не виноват. Он один отнесся к ней по-человечески, хотя она (грех, грех!) и его обманывала, когда приходила толковать о церковном венчании...
У нас нет причин не доверять признанию Екатерины Сергеевны. Своим рассказом она вовсе не обеляет себя и близких. Наоборот, Гайдебуровы после ее письма предстают перед нами в еще более отвратительном свете. Но как бы то ни было уголовного преступления они не совершали. Следствие ошиблось, но юристы не пожелали признать ошибку. Письмо из Сибири подшили к другим документам, и кровоточащая исповедь изуродованной человеческой души на сорок лет оказалась среди груды фальшивок и бумажного хлама. Никто не ответил Гайдебуровой. Никто не заинтересовался ее постыдной правдой. Следствие по "делу Михайловского" продолжалось, но весной 1930-го оно покатилось по иной колее, все более и более удаляясь от истины, от справедливости, от всего человеческого.
За пять с лишним десятилетий, в течение которых в России существует нынешний режим, у кормила власти перебывало немало лиц. Косоворотки первых вождей сменились полувоенными кителями второго поколения. На смену им пришли вполне европейские костюмы с белыми сорочками и галстуками сдержанных тонов. В тех же примерно пределах менялись и формы власти. Она бывала более или менее терпимой, более или менее жесткой, но в общем решительно не изменялась в своем абсолютном пренебрежении к праву и законности. Создавались и утверждались кодексы: уголовный, процессуальный, гражданский; сменялись конституции; "нормы социалистической законности" сперва нарушались, а потом, наоборот, восстанавливались и укреплялись; был основан даже Институт права Академии наук СССР. Но право на открытый, независимый суд граждане страны так и не получили. Впрочем, не получили они также никаких иных гарантий правовых, охраняющих права личности.
Я не правовед и не знаю, где законодательство лучше: в Советском Союзе или, скажем, в республике Гаити. Думаю, что с законами у нас не все в порядке. А о том, что сталинская конституция самая демократическая в мире, мы слышим с того самого памятного 1936 года ежедневно и еженощно. Тем не менее премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, посетив СССР, заметил, что он и двух дней не смог бы прожить в стране, где правят не законы, а люди. Правление людей, облеченных неограниченной властью и не ограниченных какой бы то ни было ответственностью, сводится в конечном счете к произволу. Тому, кто держит в руках все вожжи хозяйственной, политической и общественной жизни, кто единовластно командует всем: от полиции до прессы, от адвокатуры до армии цензоров, судей, перлюстраторов и специалистов по подслушиванию телефонных разговоров,– тому ничего не стоит парализовать действие любых, самых замечательных законов. Засекреченные, нигде не опубликованные распоряжения, рекомендации суду по прямому проводу из разных учреждений, очень маленькие, совсем крошечные судебные залы – такова лишь малая часть средств, с помощью которых превратить закон в пустую бумажку ничего не стоит.
Среди мер, призванных корректировать исполнение закона и судопроизводства, не последнее место занимает и пресса. Хлесткий фельетончик о любом взятом под стражу гражданине недвусмысленно объясняет судье, как именно ему вести себя в судебном заседании, давать ли подсудимому по "высшей норме" или ограничиться "средней". И если бедолага Кочетков полагался в своей профессии в основном на интуицию, то его более наблюдательные коллеги уже в 20-е годы усвоили, что матерью интуиции является информация. Предварительная газетная информация из достоверного источника сопровождает нашу юстицию от младых ее ногтей и не покидает своими заботами доныне.
...Через две недели после смерти профессора Михайловского фельетонист партийного официоза "Узбекистанская правда" – Эль Регистан (Уреклян) подал судебным органам первый "добрый совет". Хотя следствие только начиналось, в газете была начертана полная и окончательная схема событий, якобы разыгравшихся в доме No 45 по Второй Кладбищенской. Фельетонисту все было ясно: Иван Петрович Михайловский своими недавними опытами, а особенно переливанием крови обескровленной обезьяне, "потряс незыблемые основы старухи-медицины (так! – М.П.), бросил вызов смерти, ежедневно уносящей тысячи человеческих жизней, гибнущих от целой кучи заболеваний, связанных с тем или иным поражением крови". Эти "поражения крови" просвещенный фельетонист тут же перечислил: сифилис, тифы всех видов, скарлатина, заражение крови, малокровие. Оказывается, "удивительный опыт ташкентского профессора произвел сенсацию в научных кругах Европы и Америки".
Что же произошло 5 августа? По мнению Эль Регистана, ни о каком самоубийстве не может быть и речи. Профессора убили. Сделала это скорее всего его жена, та самая Екатерина Сергеевна, молодая статная студентка-медичка со злыми огоньками в красивых глазах... из числа тех, про которых говорят "огонь-баба". Причина убийства фельетонисту тоже ясна. Екатерина Сергеевна – верующая. "Профессор Михайловский ярый атеист, ненавидящий религию, ученый, написавший труд о переливании крови, труд, который стоит только перелистать, чтобы убедиться, что это издевательство над Богом", Сам Эль Регистан труд Михайловского явно не читал. О сути опытов в фельетоне ничего не сказано. Да опыты журналисту и неинтересны. Ему важнее показать, что ученый – жертва конфликта "науки и религии". "Блестящий труд ученого, рукопись его замечательного открытия о переливании крови девизом своим имеет надпись, собственноручно сделанную профессором на правом углу листа: "Я не вижу оснований для пессимистических взглядов, согласно которым превращение мертвого вещества в живое никогда не удастся". Разве не видно, что писал ярый атеист?!
Всего четыре с половиной строки, а сколько наворочено! Все религии мира от века твердят, что животное и человек были вначале созданы из "мертвого" вещества, из земли и глины. А из чего живому и произойти, как не из неживого? О каких "пессимистических взглядах" толкует профессор? А главное, при чем тут переливание крови? Но, огорошив читателя "материализмом" Михайловского, Эль Регистан спешит дальше, к финишу. Ему надо доказать, что "Екатерина Сергеевна, советская студентка-медичка, как известно многим, целующая руку попам из Сергиевской церкви (рикошетом в епископа Луку!), убила мужа из религиозного фанатизма. Двигали ею и другие не менее гнусные цели. Странную поспешность проявила любящая и заботливая супруга, молниеносно перетащив после выстрела ценнейшую рукопись профессора (рукопись, за которую заграничные научные круги предлагали профессору огромную сумму денег) к себе домой, к мамаше Анне Максимиллиановне". (Вот она откуда пошла гулять по свету, легенда об англичанах, которые хотели то ли выпытать, то ли выкрасть великое открытие!) Про "громадную сумму денег" фельетонист просто выдумал – в следственном деле об этом нет ни слова. Выдумал он и "сенсацию", которая якобы охватила научные круги Европы и Америки. О переливании "промытой крови" обезьяне Яшке научные круги могли узнать только читая иллюстрированный еженедельник "Семь дней" (нечто вроде "Недели"), который издавался в Ташкенте как приложение к газете "Правда Востока". Только там и была осенью 1928 года помещена популярная статейка, довольно безграмотно излагающая суть опытов. В специальных журналах научных статей о работах Михайловского не было опубликовано.
Фельетон "Выстрел в мазанке" – родня и предтеча сотен подобных сочинений. Основная ценность подобной литературы в том, что ее никто не может опровергнуть. Публикует ли Ардаматский откровенно антисемитский фельетон "Пиня из Жмеринки", сочиняет ли Чечеткина опус под названием "Почта Лидии Тимашук" или пьяный Шолохов публично несет свой злостный антиинтеллигентский вздор – ответить пасквилянтам и злопыхателям невозможно. Отравленное оружие бьет насмерть. А те, кому ведать надлежит, знают, что независимо от жанра, сочинения такого рода призваны не только убивать, но и сигнализировать. Эль Регистан своим фельетоном выстроил для судебно-следственных органов Ташкента четкую линию будущего поведения. Выполняя заказ начальства, фельетонист указал: "Ищите здесь, и вы найдете то, чего от вас ожидают".
Службист Кочетков бросился по указанному следу. Он вызвал помощника Михайловского, 26-летнего парня Павла Чепова. Перед следователем предстал рослый парень с туповатой физиономией, изъясняющийся в основном лозунгами. Должность Чепова более чем скромная: помощник прозектора. Это, по существу, рабочий на кафедре. Его дело – принести, унести, накормить животных, поймать собаку для острого опыта, а после эксперимента похоронить ее останки. Но у этого деревенского парня, пристроившегося "при науке", были и свои "козыри". Помощник прозектора с 1921 года состоял в рядах ВКП(б). И это, естественно, наполняло его чувством своей высокой общественной ценности. О Михайловском Чепов сказал: "Он любил эксперимент, и никакие неудачи не могли остановить в нем решимости довести идею о прижизненном промывании организма до победного конца". Самоубийсгво профессора отрицал полностью. Какое там самоубийство, если Михайловский ждал из-за границы ультрацентрифугу, за которую заплачено две тысячи рублей валютой! О себе сказал с достоинством: "С первого же прихода на работу он (Михайловский) предложил мне ведение научно-исследовательской работы. Я от последней не отказался, но работать так и не пришлось в силу моей перегруженности по партработе".