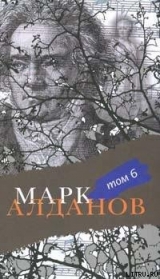
Текст книги "Могила воина"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Марк Алданов
Могила воина
Сказка о мудрости
Seek out – less often sought than found
A soldier's grave, for thee the best,
Then look around and choose thy ground,
And take thy rest.
«Поищи же для себя могилу воина.
Ищут ее реже, чем находят.
Она подобает тебе всего более.
Осмотрись, выбери свое место – и отдохни.»
Предсмертные стихи Байрона.
От Автора
«Пуншевая Водка» и «Могила Воина», разумеется, не исторические романы, а «философские сказки». Не следует ли напомнить, что у этого литературного рода должны быть свои законы?
I
Пещеру приема решено было устроить на этот раз у Флориана. Вначале мастер-месяц, полный, рыхлый, краснолицый брюнет лет сорока, не хотел об этом слышать и даже, по своему обыкновению, вспылил: – «Все имеет границы! Можно пренебрегать уставом, но не до такой степени! Бог знает что вы предлагаете!…» – По уставу, в самом деле требовалось обставлять величайшей тайной собрания карбонариев; устраивать баракку в наиболее людной кофейне Венеции было странно. Однако, хозяин хижины, старый, седой адвокат, славившийся ораторским искусством и мастерством диалектики, спокойно, уверенно, разумно отстаивал свою мысль: – «Ведь в этом-то вся штука: придет ли полиции в голову, что карбонарии собираются у нее под носом, на площади св. Марка!» Мастер-солнце согласился с его доводами и привел еще свой: – «Из-за наших особых условий мы все равно не можем соблюдать букву устава. Как вы знаете, по завету древних угольщиков, идущему от Филиппа Македонского, баракка должна устраиваться в лесу. Где же в Венеции леса?»
Обычно и пещера приема, и рядовые баракки устраивались в уединенной вилле на Лидо. Хозяин хижины еще раз объяснил, что туда Байрон не явится, – он ведь сказал, что в город, пожалуй, приедет, ехать же вечером на остров не согласен: далеко, неудобно, боится простудиться. – «Так что одно из двух: либо мы устроим баракку как всегда, но тогда Байрона не будет. Если же вента считает полезным, чтобы он приехал, то лучше Флориана ничего не придумаешь». Вента приняла во внимание, что управляющий кофейни – старый, испытанный карбонарий третьей степени; и лакей Беппо тоже давно принят и тоже человек вполне надежный. – «Мы снимем две комнаты: в той, что побольше, устроим баракку, в маленькой – камеру размышлений. Управляющий будет всем говорить, что комнаты сданы под обед в честь одного англичанина. Оне часто сдаются под банкеты». – «Хороша будет баракка!» – проворчал мастер-месяц. – «Я все беру на себя. Рано утром мы перенесем к Флориану в корзине чашу забвения, треугольники, подсвечники, одним словом, все, что нужно». – «И пни принесем в корзине?» – «Нет, без пней придется обойтись. Мне поставят кресло, а все остальные будут сидеть на стульях»… «Так я и знал! Но, ведь, стулья у Флориана одинаковые, а вы, быть может, все-таки помните, что для третьей степени требуются пни повыше!…»
Хозяин хижины благодушно улыбался: знал что мастер-месяц, фанатик устава, человек горячий, вспыльчивый, как порох, но золотое сердце, сначала вспыхнет, раскричится, отведет душу, а затем уступит. Мастер-месяц, в самом деле, в конце концов, уступил: «Ну, что ж, может быть, вы и правы. Во всяком случае, приятно будет насмеяться над полицией дорогого Меттерниха»…
Уступил он и по вопросу о церемониале приема. В венту на этот раз принимался приехавший ненадолго в Венецию грек Папаригопулос. Он карбонарием не состоял, но был видным деятелем гетерии филикеров, имел там степень жреца, считался кандидатом в пастухи и привез полномочия от великого мастера элевзиний. Принимать такого человека, как обыкновенного новичка, по обряду первой степени, было признано невозможным. Хозяин хижины предложил смешанный обряд первой и третьей степеней. Устав давал на это право. Мастер-месяц на смешанный обряд согласился, добившись значительных уступок в отношении подробностей. «А то сегодня отказываемся от пней, завтра вы еще прикажете отказаться от сосуда с угольями!…» Вести заседание решено было, как всегда, по-итальянски: не переводить же весь ритуал. Но так как грек по-итальянски почти не понимал, то хозяину хижины разрешено было переводить вопросы на французский язык.
В шесть часов вечера посторонним людям доступ в снятое помещение кофейни был прекращен. Мастер-месяц затворил наглухо двери и, бранясь, сердито расставил на столиках чашу забвения, сосуды с тлеющими угольями, листьями, землей, водой и солью (воду и соль взяли внизу, в кофейне – не приносить же свою воду к Флориану). У короткой стены комнаты поставили стол и три кресла, а вдоль более длинных стен – стулья для карбонариев; для старших справа, для младших слева. Над креслом хозяина хижины повесили крученую нить, трехцветную ленту, дерево с обращенными к небу ветвями. Управляющий беспокойно следил за работой и жалобно просил вбивать как можно меньше гвоздей: «Если б это был мой дом, было бы, разумеется, совершенно другое дело», – говорил он смущенно.
Тем временем в соседней комнате, превращенной в камеру размышлений, мастер-солнце пробовал мешок, который надлежало надеть на голову греку. Мешок был неудобный, дышать было нелегко несмотря на прорезанные большие отверстия для ушей и рта. Папаригопулос имел немалый опыт по таким делам: гетерия филикеров славилась строгостью обрядов. Тем не менее он волновался. По уставу вновь принимаемый не мог знать ничего до присяги, но в частном порядке Папаригопулосу было сообщено, что в баракке будет Байрон. Грек знал, что это очень знаменитый человек, да еще лорд, и боялся осрамиться. Свое вступительное слово он выучил наизусть, однако тревожился: вдруг найдет затмение – все забудет! Или одно и то же место, по игре памяти, повторить во второй раз? Еще больше он опасался вопросов: ответ на неизвестные вопросы приготовить заранее невозможно.
В семь часов хозяин хижины вошел в баракку, осмотрел ее, остался доволен и похвалил: все отлично. Мастер-месяц вспылил: как «все отлично»? пни одинаковой высоты, крученую нить повесили вон куда, ритуал Бог знает какой, ни то, ни се а тут говорят: «все отлично»!..
Стали появляться, с соблюдением всех мер предосторожности, другие карбонарии. Одни старались проскользнуть незаметно; другие, более тонкие, напротив, нисколько не скрывались и шли с видом самым естественным: иду на обед в честь англичанина и знать ничего не знаю. Мастер-месяц требовал у всех пароль и кипятился, когда не сразу вспоминали. «Так нельзя! Такое отношение просто невозможно!» – сердито говорил он.
В ожидании начала баракки карбонарии поболтали о новостях и немного посплетничали. Хозяин хижины, прекрасный рассказчик, смеясь, сообщал подробности своей поездки к Байрону в окрестности города. Всем было известно, что с Байроном в вилле Ла-Мира живет графиня Тереза Гвиччиоли. Карбонарии знали также, что графиня недавно зачислена в сад: равеннская вента основала организацию в которую принимались женщины. Как садовница, графиня Гвиччиоли собственно имела право явиться в баракку вместе с Байроном. Но хозяину хижины очень не хотелось ее звать: венецианские карбонарии сада не имели и женщин пока не принимали. Кроме того он опасался скандала: одна из главных прежних любовниц Байрона грозила при встрече выцарапать графине Гвиччиоли глаза, – еще не хватало бы, чтобы они в этот вечер встретились на площади св. Марка! К счастью, Байрон ни одним словом не упомянул о садовнице, так что приглашать ее не потребовалось.
– Что он в ней нашел? И красивого ничего нет. Ей двадцать лет, – ну если и врет, то двадцать пять, не больше, – а уже толста.
– Ах нет! – вдруг нежно улыбнувшись, сказал мастер-месяц, – прелесть какая женщина! Но как относится к этому почтеннейший граф Гвиччиоли?
– Очень философски: требует от Байрона пять тысяч фунтов.
– Что за подлец! Да, ведь, он сам богат!
– Значит, хочет стать еще богаче.
Из камеры размышлений вышел мастер-солнце, уже все объяснивший Папаригопулосу. Греком интересовались мало: говорили только о Байроне. Хозяин хижины еще рассказал, что сумасшедший поэт привез из Равенны семь слуг, пять карет, девять лошадей обезьяну, собак, и еще каких-то петухов. Встает он в два часа дня, – «когда я приехал, он принимал ванну!» – питается только овощами, чтобы не пополнеть, но за обедом, – «сам рассказывал!» – выпивает две бутылки вина.
– Какого? – с сочувственным любопытством спросил мастер-месяц, знавший толк в вине и в еде.
– Я не спросил. А когда пишет свои стихи хлещет джин с водой. Ему присылают из Лондона, – сказал, смеясь, хозяин хижины.
II
У виллы Ла-Мира мальчишки, поджидавшие выхода хозяев, радостно закричали: «Хромой! Хромой!…» Байрон на лестнице с бешенством поднял хлыст. Лицо его исказилось. Мальчишки разбежались, продолжая орать. В карете графиня Гвиччиоли подавленно молчала: знала, что это у него больное место, но изумлялась, как великий человек может обращать внимание на подобные пустяки: хромота его, которую он научился отлично скрывать особой бегущей походкой, почти незаметна; он и со своим недостатком все же прекрасен, как греческий бог, – в последние месяцы быстро седеет, но от этого, пожалуй, стал еще прекраснее. Ей было известно, что Байрона многие считают сумасшедшим, и она сама порою этому верила; верила и теперь, искоса на него глядя.
Они молчали до самой Фузины. Тянулась скучная Брента, болота с рыжими растениями, чахлые умирающие деревья. Когда сели в гондолу, Байрон как будто успокоился и взял за руку графиню, чтобы оправдать свое долгое молчание. Она обратила его внимание на красоту заката, на розовевшие где-то вдали вершины снеговых гор. Считала себя обязанной говорить с поэтом о поэтических предметах и что-то процитировала на память из «Корсара». Ее английское произношение всегда вызывало у него улыбку. Байрон рассеянно улыбнулся и теперь. Она повторила то же по-итальянски. Он подумал, что это и в подлиннике плохие стихи, а в итальянском переводе просто напыщенный вздор, которым не может искренне восхищаться ни один разумный человек, и что его читатели, не знающие английского языка, сознательно или бессознательно обманывают себя и других.
Высвободив понемногу руну, он изредка – когда это казалось ему необходимым – обменивался замечаниями с Терезой. Заметил, что она – для него и для Венеции – надела стильное платье темно-зеленого бархата, обрадовался, что заметил (иначе вечером были бы попреки и, быть может, слезы), и преувеличенно похвалил, – она вспыхнула от удовольствия. Подумал, что любит ее, но не очень: приблизительно так же, как любил в последние годы других своих любовниц. Сам себя проверил: «Если бы она сейчас в гондоле умерла от разрыва сердца?» – «Было бы крайне неприятно». В этих мыслях тоже было что-то дешевое, – то самое, что он в последнее время видел в своих стихах, – не говоря уже о стихах чужих, – и во всем вообще, и, в частности, в байронизме. Распространившееся по Европе слово это и льстило ему, и было смешно, особенно по несоответствию с его настоящей душевной жизнью. Однако, он подумал, что, вечно создавая невозможные, неправдоподобные человеческие образы, сам стал всерьез немного на них походить. И тут же решил при первом случае сказать печатно, что все эти Корсары и Манфреды, имевшие столь сказочный успех и создавшие ему славу величайшего писателя эпохи, в действительности необычайно способствовали падению в мире литературного вкуса.
Гондола подходила к Сакка-сан-Биаджо. Показалась залитая красным светом Венеция, и в сотый раз он испытал впечатление чуда при виде этого затопленного города, медленно разрушающегося города дворцов и церквей, города с людьми, не научившимися ходить как следует из-за гондол и каналов, города, в котором лодочники с лицами древних патрициев, не думая ни о какой литературе, поют строфы Торквато Тассо. «Ничего прекраснее нет на свете», – сказал он графине, – «хоть все это нажито воровством: они присвоили себе в искусстве чужое – готический, византийский, арабский стили – перемешали на своем солнце и создали изумительнейший город в мире». – «А Venezia si sogna, a Roma si pensa, a Firenze si lavora, a Napoli si vive»,[1]1
«В Венеции мечтают, в Риме думают, во Флоренции работают, в Неаполе живут»
[Закрыть] – заметила она. Глупость поговорки его поразила. – «Жаль, что из зверей в Венеции существуют только люди и крысы», – сказал он и устыдился: это было замечание в духе плохого, давнего Байрона, одно из тех изречений, который часто цитировались его поклонниками и врагами, а у него самого вызывали теперь отвращение, – «Вы не находите, что я становлюсь глуп и пошл?» – спросил он Терезу; желал придать вопросу покаянный тон, но вышло опять нехорошо, очень нехорошо. Он взглянул на графиню и увидел, что ей его изречение понравилось, что она вечером непременно это изречение запишет. – «Я не нахожу, Байрон!» – сказала Тереза восторженно. Его раздражало то, что она, ради поэзии и оригинальности, называла его по фамилии, но он почувствовал ее желание перейти в гондольный тон и, взяв ее за руку, заговорил самым байроновским своим, бархатным голосом, так чаровавшим женщин: «Tu sei, е sarai sempre mio primo pensier… Non posso cessare ad amarti che colla vita…».
Он велел гондольеру остановиться у Riva degli Schiavoni, легко выскочил из гондолы, оставил в фельце хлыст и простился с графиней, условившись встретиться с ней в одиннадцатом часу, в снятом им Palazzo Mocenigo. – «Но не ужинайте, ради Бога, Байрон, мы поужинаем одни.» – сказала она. Он кивнул головой и побежал вдоль дворца к площади. Графиня видела, что на Пиаццетте какие-то люди побежали вслед за ним. «Тотчас узнали! Может быть и ждали здесь, чтобы на него посмотреть!» – с гордостью подумала она. На берегу тоже собралось несколько человек. Они с любопытством глядели на отходившую гондолу. Одна дама с раздражением что-то говорила другой. Тереза Гвиччиоли поняла, что говорят об ее наружности, о наружности любовницы лорда Байрона.[2]2
Через много лет маркиз де Буасси, второй муж Терезы Гвиччиоли, так знакомил с ней людей: «Моя жена… Когда-то любовница лорда Байрона.» Автор.
[Закрыть] Эта мысль наполняла ее счастьем. Графиня приняла в гондоле вид Байроновской героини. Она не очень читала его книги, – только просматривала и кое-что заучивала наизусть, чтобы цитировать, – но все отлично угадывала и смотрела ему теперь вслед с влюбленной и счастливой покорностью.
Пробегая, он подумал, что эта бальная площадь с ее вечным маскарадом тоже до несерьезности прекрасна, что нужно бы поскорее положить ее в футляр, и прежде всего, эту ювелирную игрушку, называющуюся у них собором. Со злостью и наслаждением чувствовал, что его узнали, что о нем шепчутся, что на него показывают взглядами. Столики Флориана на площади были почти все заняты. «Здесь сегодня собираются карбонарии», – равнодушно сказал кто-то. Две некрасивые дамы, вскочив и раскрыв рты, без малейшего стеснения на него уставились. Он злобно пробежал по проходу между стульями. «Байрон! Лорд Байрон!» – доносились до него радостно-взволнованные голоса.
III
Хозяин хижины подошел к Байрону, крепко пожал ему руки и поблагодарил его за честь, оказанную им венте. Затем, познакомив гостя с наиболее видными членами баракки, полуспросил: «Что ж? Пожалуй, начнем», и, взяв жезл, постучал им по полу. Карбонарии стали занимать места вдоль правой и левой стен комнаты. Все вынули из карманов веревки и надели их наподобие пояса. Старшие положили рядом с собой кинжалы. Справа от двери камеры размышлений сел мастер-солнце, а слева – мастер-месяц. Для гостя был приготовлен пень рядом с председателем. Кто-то с улыбкой подал гостю запасную веревку. Он, морщась, поблагодарил.
Многие из карбонариев теперь видели Байрона впервые; вблизи его не видел почти никто. Поглядывали на него с любопытством, а люди помоложе – с восторженной завистью. Это был невысокий, скорее полный человек, с лицом бледным и почти изможденным. Относительно его наружности потом были споры, но все признавали, что лицо у него очень красивое и выразительное. Одни говорили, что «лицо Байрона так и дышит презрением к человечеству»; другие, напротив, прочли в его глазах «неземную доброту», особенно в те минуты, когда он слушал доклад грека. Верно было, что выражение его лица менялось почти непрерывно и чрезвычайно сильно; быть может, это отчасти способствовало установившейся за ним в Венеции репутации полоумного человека. Почти все слышали, что он сумасшедший, и ждали от него всевозможных странностей. Однако, ничего странного он не делал и вел себя именно так, как должен был вести себя важный гость на собрании баракки. Щеголи из молодых карбонариев обратили внимание на то, что этот лорд, еще недавно бывший королем лондонского общества, одет нехорошо и не по моде. Старый костюм сидел на нем мешком, точно куплен был в магазине готового платья, да и то неудачно. Не было в общем облике Байрона и величия, полагавшегося знаменитому поэту, борцу за свободу и лорду (часть его престижа основывалась на титуле, без которого он и как поэт нравился бы, вероятно, меньше). Молодые люди у левой стены разочарованно перешептывались. Мастер-месяц заметил, что один глаз у Байрона значительно больше другого. «Какое, однако, необыкновенное лицо» – шепнул он, наклонившись к соседу.
Председатель взял со стола топорик и постучал по столу.
– Добрые родственники,[3]3
В подлиннике карбонарского обряда: buoni cugini. Автор
[Закрыть] – сказал он значительным, проникновенным, глухим голосом, показывавшим, что началось серьезное дело. – Какова цель угольщиков?
– Она в том, чтобы очистить лес от волков, – ответил, немного запинаясь, мастер-солнце.
– Такова ли, в самом деле, цель нашей венты?
– Да, она такова: орден угольщиков хочет очистить лес от волков, – громко и отчетливо произнес мастер-месяц, точно хотел попрекнуть мастера-солнце за вялость.
– Ежели так, то приступим к нашему великому делу, – сказал председатель. Он встал и объявил, что на их долю выпали большая честь и большая радость: хижину посетил великий английский писатель и государственный деятель, член палаты пэров лорд Байрон. Карбонарии затопали ногами, принося конспирацию в жертву обряду.
– Добрые родственники, – сказал хозяин хижины (голос его опять изменился: он стоя говорил не так как сидя), – наш знаменитый гость не входит в нашу венту. Но мы никак не должны считать его язычником. Он входит в близкое и родственное нам общество Романтика. Другое общество, Американцы, ставящее себе те же цели, что и мы, избрало его своим главой. Наш знаменитый гость имеет, следовательно, право присутствовать в хижине, и все мы рады приветствовать в его лице одного из благороднейших людей мира, великого борца за свободу народов и, в частности, за нашу страждущую страну, имеющую столь великое прошлое. Освобожденная единая Италия, создание которой составляет нашу цель, вечно сохранит в своей благодарной памяти людей, боровшихся за ее освобождение и за освобождение человечества. Ибо мы знаем, как прочна любовь к свободе в душе нашего народа! – Все снова шумно затопали. – Добрые родственники, – сказал хозяин хижины, немного понизив голос в знак того, что сейчас будет говорить слова тягостные. – В каждой стране есть люди разные. Великим британским народом теперь править виконт Кэстльри, враг свободы, защитник угнетателей во всем мире. Мы об этом скорбим. Но мы твердо помним, что великий британский народ не несет ответственности за своих правителей. Наряду с лордом Кэстльри, – он немного помолчал, – у Англии есть и лорд Байрон!
Карбонарии затопали. Хозяин хижины сел и вопросительно взглянул на гостя. Наступила тишина, будто все ожидали, что теперь-то странности и начнутся. Байрон совершенно не предвидел, что ему придется сказать слово. Никакой речи он не приготовил и смутился, хоть умел и любил говорить. Лицо его изменилось и побледнело. Он встал (веревка, оказавшаяся не повязанной, свалилась на пол) и заговорил, к общему удовлетворенно, по-итальянски, при том довольно свободно, хоть с ошибками. Поблагодарил за оказанную ему честь, за добрые слова, столь им незаслуженные, и выразил радость по тому случаю, что оказался в Венеции, с которой у него связано столько приятных воспоминаний.
– В вашей прекрасной стране, – сказал он, – в вашей прекрасной стране… Ибо для меня нет австрийской Венеции, папского Рима и бурбонского Неаполя, а есть одна великая, прекрасная, единая Италия! – Снова все восторженно затопали. – В вашей прекрасной стране существуете превосходная поговорка: A Venezia si sogna, a Roma si pensa, a Firenze si lavora, a Napoli… Он запнулся, забыв, что делают в Неаполе. Несколько голосов радостно ему подсказали: «Si vive!… Si vive»! Байрон улыбнулся, повторил: «Si vive!» – и заявил, что все, итальянцы и не-итальянцы, должны одновременно и мыслить, и мечтать, и трудиться, и жить во имя будущей великой, свободной Италии!
Когда долгое топанье кончилось, Байрон попросил разрешения перейти на английский язык. «Просим, просим», – закричало несколько голосов. Хозяин хижины ласково-бережно протянул руку к оратору, предлагая ему на мгновенье остановиться, и сказал, что, так как всем дорого каждое слово знаменитого гостя, а прекрасным английским языком владеют лишь немногие, то не согласится ли мастер-месяц, хорошо знающий иностранные языки потом перевести речь? – «Хозяин, я повинуюсь» отчетливо, солдатским тоном, сказал мастер месяц и вынул из кармана карандаш.
… Он не хотел говорить серьезно. Был зол, что сюда пришел, и думал, что пора бы перестать делать вид, будто его беспокоит судьба венецианцев, греков, венецуэльцев, еще каких-то экзотических людей, непременно желающих сделать из своей родины второсортную Англию, – ему была достаточно противна и первосортная (хоть в душе он интересовался почти исключительно Англией и только Лондон, при всей своей ненависти к нему, считал настоящим городом, – да еще Париж, в котором никогда не был). Вдруг настроение у него совершенно изменилось, – он сам никогда не знал причин перемены своего настроения, – на этот раз оно, быть может, изменилось от вызванного его словами у экзотических людей искреннего и бурного восторга. Сидевший в нем второй Байрон, контролировавший изнутри мысли и слова первого Байрона, обычно контролировавший их критически, а то и с издевательством, теперь ему подсказал, что экзотические люди смешны и провинциальны, но что они все же менее смешны и менее глупы, чем разные лорды Кэстльри, отравляющие жизнь и им, и ему. Он вдруг с радостью почувствовал прилив злобы: это чувство считал своей главной силой и в литературе, и в жизни. Внезапная злоба придала мощь его речи, и говорил он, по общему отзыву, превосходно, – «как Байрон». «Просто метал громы!» – восторженно повторял потом мастер-месяц. Это ясно было даже людям, совершенно не понимавшим по-английски. Громил он людей, правивших Европой, людей, пришедших на смену Наполеону и бывших в сто раз хуже его, ибо них не было его ума и гениальности, – с ними восторжествовали глупость и бездарность. Когда он назвал имя Меттерниха, кое-кто невольно оглянулся на дверь. Она была затворена плотно. Байрон сказал, что Меттерниха следовало бы назвать самым презренным человеком на свете, если б не существовало лорда Кэстльри. Хоть эта фраза и произнесена была так, что явно требовала знаков одобрения, топнул ногой только юный, недавно принятый в венту карбонарий края левой стены и сам смутился, увидев, что его не поддержал никто: старшие из понявших фразу, очевидно, признали, что в такой форме может говорить о британском министре лишь англичанин, а с их стороны тактичнее помолчать. Оратор и в самом деле не поскупился на выражения.
– Я не могу признать свободной страну, в которой владычествуют идиоты и негодяи, подобные Кэстльри, – сказал он, показывая интонацией что кончает. – В настоящее время все народы нуждаются в освобождении. Свободное и культурное государство существует в мире теперь только одно: это Венецуэла великого Боливара!
Послышалось новое долгое топанье: имя разобрали все и в английском произношении оратора. Мастер-месяц гладко и подробно перевел на итальянский язык речь, имевшую огромный успех. Хозяин хижины горячо пожал руку гостю и перешел к порядку дня. Сказал, что сейчас в венту должен быть принять язычник… (он заглянул в бумажку) Папаригопулос, по национальности грек, по профессии негоциант, постоянно проживающий в России, в городе Одессе. Он – видный член греческой гетерии филикеров, основанной именно в этом городе.
– Добрые родственники, – сказал хозяин, – как мы стремимся к освобождению Италии, так гетерия филикеров ставит себе целью освобождение Греции. Вы знаете, что три угольщика, в том числе мастер-месяц и я, рекомендовали принять язычника… Папаригопулоса в нашу венту. При предварительной баллотировке он ни одного черного шара не получил. Если нет возражений, он сейчас будет принять и, по принесении присяги, прочтет нам доклад о борьбе греческого народа за независимость. Цели греческих революционеров те же, что наши: они хотят очистить лес от волков! – Мастер-месяц затопал, другие последовали его примеру. – Добрые родственники, есть ли возражения против того чтобы язычник… Папаригопулос был принят в венту? Возражений нет. Мастер-месяц, введи язычника в хижину.







