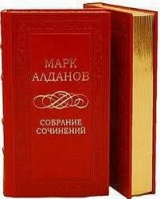
Текст книги "Печоринский роман Толстого"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Марк Алданов
I
II
III
IV
V
*
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Марк Алданов
Печоринский роман Толстого
I
Называю так роман Толстого с В.В. Арсеньевой, – называю с некоторым упрощением: он не был «Печоринским» во всем смысле слова; но в нем было немало от лермонтовского Печорина. Выяснился вполне характер этого романа лишь теперь, после появления в полном виде дневников Льва Николаевича за 1854—1857 годы{1}.
Очень многое в Толстом освещается этими дневниками по-новому. Освещается к лучшему или к худшему? Не все ли равно? Всем известно, что величайший писатель был и человеком высокого душевного благородства. Так называемые теневые стороны его характера принадлежат нам по собственной его воле. Они и интересны главным образом потому, что объясняют путь этого столь необыкновенного, ни на кого не похожего человека.
Мы теперь привыкли к тому Толстому, которого еще застали наши поколения, к Толстому доброму, кроткому, просветленному. Разумеется, мы знали, что он не всегда был таким, – и все же дневник Льва Николаевича за 1854– 1857 годы вызывает у нас удивление. Правда, это было самое худшее время его жизни. «Я был тогда отвратителен», – писал он на старости. Он был тогда совершенным мизантропом. Это сказывается на каждой странице его дневников. Приведу несколько его отзывов (личные впечатления) о людях – известных нам и неизвестных, близких ему и от него далеких:
«Филимонов, в чьей я батарее, самое сальное создание, которое можно себе представить...» «Генерал – свинья...» «Кригскомиссар – ужасный дурак...» «Ковалевский – сукин сын...» «Сазонова внушила невыразимое отвращение...» «Погодина с наслаждением прибил бы по щекам...» «Полонский смешон...» «Панаев нехорош...» «Писемский гадок...» «Лажечников жалок...» «Граф Блудов – стерва...» «Авдотья (Панаева) – стерва...» «Горчаков гадок ужасно...» «Волков – черт знает что такое...» «Мордвинова – отвратительная, лицемерная либералка...» «Мещерские – отвратительные, тупые, уверенные в своей доброте, озлобленные консерваторы...» – Не привожу отзывов совершенно непечатных.
Разумеется, он так отзывается далеко не обо всех. Есть в дневниках отзывы и добрые и лестные. Но обычно люди, вначале ему нравящиеся, очень скоро вызывают у него скуку и антипатию. Так, он не раз без большого, впрочем, восторга хвалит И.С.Тургенева. Позднее пишет: «Тургенев скучен...» «Увы, он никого никогда не любил...»{2}, «Тургенев – дурной человек...» При первом знакомстве Лев Николаевич был очень увлечен личностью декабриста Пущина (Михаила): «Пущин – прелестный и добродушный человек...» Потом в дневнике встречаются такие записи: «Вечером сидел Пущин и хвастался изо всех сил...» «Счастливый человек Пущин, ему все кажется, что в нем сидит что-то много прекрасного, чего он не может высказать – особенно когда он выпьет. Ежели бы он был умнее, он увидал бы, что все, что сидит – гадость...» Всем известна любовь Толстого к тетушке Ергольской – Соне «Войны и мира». В пору нежных разговоров и переписки с ней он заносит в дневник: «Скверно, что начинаю испытывать тихую ненависть к тетеньке, несмотря на ее любовь. Надо уметь прощать пошлость...»
Почти так же резок он в суждениях о людях церкви. Еще более резок в суждениях о литературе, о больших писателях, которых он лично не знал, которые уже были классическими и в его время: «Читал Пушкина, 2 и 3 часть. «Цыганы» прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, исключая «Онегина», – ужасная дрянь...» «Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь...»{3}. О России будущий автор «Войны и мира», только что вернувшись из-за границы, пишет: «Противна Россия. Просто ее не люблю...» «Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна...»
Во имя чего же судил он обо всем столь резко и несправедливо? Не понять. В сущности, он был тогда совершенным нигилистом – не в базаровском, а в подлинном смысле слова. После смерти брата он писал в дневнике: «Во время самых похорон пришла мне мысль написать материалистическое евангелие». Тогда же писал Фету: «Правду он (брат Николай) говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет». Без всякой смерти близкого человека – запись в дневнике от 16 августа 1857 года: «Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Материальное наслаждение тоже к чему? Скоро ночь вечная». В одном из писем к Арсеньевой он вскользь замечает: «Я во всем мире сомневаюсь, исключая, что добро – добро». О «добре» в дневниках говорится много, но весьма неясно. Есть и такая запись – «страннее в 100 000 раз... что мы живем, зачем сами не знаем, что любим добро, и ни над чем не написано: то добро, то худо».
Какие могли быть причины его нигилизма, мизантропии, тоски? Толстой прощался с первой молодостью, – это обычно тяжелое время в жизни человека. Других внешних причин мы не видим. У него как будто было все нужное для счастья. Дневники его полны жалоб на болезни. Мы знаем, однако, что он был в общем вполне здоровый человек и прожил до 82 лет. Выбор карьеры был сделан. «Детство», «Отрочество» уже появились и имели большой, хоть, быть может, не очень шумный успех. Толстой был – и навсегда остался – писателем и для «масс» и для «элиты». Широкая публика тогда, впрочем не слишком еще многочисленная, читала его первые произведения с восторгом. «Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору», – вспоминает Головачева-Панаева. «Элита» хвалила сдержаннее, но хвалила.
Мне уже приходилось говорить, что знаменитый отзыв о «Детстве» Некрасова – первый отзыв первого читателя, – столь часто приводимый в доказательство критической проницательности редактора «Современника», скорее, по своей крайней сдержанности, мог бы свидетельствовать о противном. Прочитав книгу, составившую эпоху в русской литературе, Некрасов написал Толстому: «Не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе есть талант... Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет побольше живости и движения, то это будет хороший роман». То же самое любой редактор мог, собственно, сказать писателю второстепенному или даже третьестепенному. Очень скоро, однако, Некрасов высказался более определенно, а после личного знакомства с Львом Николаевичем писал Боткину: «Что это за милый человек, а уж какой умница! Милый, энергический, благородный юноша-сокол! А может быть – и орел... Читал он мне первую часть своего нового романа – в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии». «Это талант первостепенный», – писал почти одновременно Колбасину Тургенев. Из Сибири Достоевский просил непременно ему сообщить, кто такой автор появившихся в «Современнике» «Детства» и «Отрочества».
В совокупности это можно было считать началом литературной славы. Во всяком случае, в середине пятидесятых годов вопрос, тревожащий молодых людей: что делать в жизни? – для Толстого уже был вполне разрешен, и разрешен не только теоретически. Несмотря на беспрестанное самобичевание за «лень», он в действительности (как всю жизнь) работал очень много. В советском издании теперь впервые опубликованы его записные книжки. Они полны черновых заметок для писательской работы, – это та самая литературная кухня, которую Чехов полунасмешливо изобразил в «Чайке». Если не ошибаюсь, от Толстого первого в русской литературе остались столь пространные страницы «тригоринщины». «Солнце блестит на его глянцевитом сертуке...» «Любовник на театре перебирает пальцами по руке любовницы...» «Господин с волосами и бородой рамкой наслаждается своей ловкостью, кидает куски в рот, надевает хлеб на вилку, все делает как будто – раз два...» «Толстый немец без галстука рассказывает, как он моет спину. Он ужасен за свое здоровье. За одно здоровье его убить можно...» Эти записи Льва Николаевича в большинстве тоже весьма неблагожелательны к людям.
Наряду с мизантропией был в нем – и странно уживался с тоской – огромный запас чисто физической, физиологической жизнерадостности. Черта эта осталась у Толстого до конца дней. Он глубоким старцем от беспричинной радости иногда прыгал на столы или через стулья. Прыгал, верно, и в те времена, когда писал «Не могу молчать».
Был он баловнем судьбы и помимо своей гениальности. В своих дневниках молодой Толстой беспрестанно жалуется еще на безденежье. В самом деле он был кругом в долгу – был должен родным, друзьям (если они у него были, что не очень вероятно), сослуживцам, даже малознакомым людям, как тот же Пущин{4}. Однако к его услугам всегда было надежное убежище: Ясная Поляна.
Люди, знакомые с мемуарной литературой первой половины прошлого века, знают, что жизнь в имении в те времена не стоила помещику ровно ничего или, по крайней мере, могла ничего не стоить. Господствовала система натурального хозяйства: дом, мебель, прислуга, отопление, освещение, лошади, еда, даже одежда, все было свое. Деньги средний помещик тратил лишь на французские вина (водки и наливки тоже были свои), на поездки в город, на игру, на книги, на коллекции{5}, на «мадаму» для детей, на какую-нибудь «Кармскую мелисную воду» или на «амбровые яблоки», безошибочно предохранявшие от заразных болезней. Съестные припасы стоили денег только записным гастрономам вроде Рахманова, – у него раки содержались в сливках с пармезаном и рокфором, а из рыб им признавался лишь какой-то «вырезуб», ловившийся из всех рек России в одной реке Сосне, приток Дона, и оттуда ему доставлявшийся за сотни верст. По общему правилу гастрономия уходила главным образом в количество – это отразилось и в бытовой поэзии того времени{6}. Бедные или скупые помещики жили даром в самом настоящем смысле слова. Вдобавок, Ясная Поляна приносила в те времена ежегодно две тысячи рублей серебром. Около тысячи рублей в году уже тогда давала ее владельцу литературная работа. Таким образом, о бедности молодого Толстого (как впоследствии о его богатстве) можно говорить лишь с большой натяжкой.
II
Раздражал его, по-видимому, и вопрос об «аристократах». Это трудно понять. Очень редко люди бывают вполне равнодушны к своему знатному происхождению (я в жизни знал лишь двух таких людей). Верно говорят французы: «Аристократы тоже кому-то подчиняются...» Что до Льва Николаевича, то он, без сомнения, принадлежал к числу родовитейших людей России. Толстые, как известно, происходят от «мужа честна Индриса», который вышел в XIV веке «из цесарския земли» в Чернигов с трехтысячной дружиной, то есть сам был важным лицом. Проследить всех предков человека, род которого восходит к XIV веку, немыслимо. Известный французский генеалог Ле Арди в своей книге «О принципе аристократии» математически точно подсчитал, что в 20-м колене у человека есть 1 048 576 предков. А Толстой был от Индриса именно в 20-м колене. Но поскольку основная генеалогическая линия Льва Николаевича нам известна, в ней нет, по выражению 16-го столетия, ни единой «мерзячки». С большим правом, чем кто бы то ни был, он мог сказать о себе и о своих предках:
...Люблю встречать их имена.
В двух-трех строках Карамзина.
От этой слабости безвредной,
Как ни старался, видит Бог,
Отвыкнуть я никак не мог.
Несмотря на позднейшее теоретическое положение о равенстве всех потомственных дворян, титулованная аристократия в европейской истории всегда считала себя гораздо выше нетитулованного дворянства. Герцог Сен-Симон даже баронов не считал людьми, хоть герцогский титул – за весьма сомнительные заслуги – получил всего только его отец. В России в XVI веке старые князья считали равными себе из нетитулованных лиц только Захарьиных, да разве еще в меньшей мере Бутурлиных. У Толстого почти псе предки были именно князья, Рюриковичи или Гедиминовичи: Волконские, Горчаковы, Щетинины, Трубецкие. Однако под «аристократами» или «так называемыми аристократами» он в дневниках обычно разумеет других людей. По-видимому, для него главным признаком тут было сочетание близости ко двору с большим состоянием.
Это сказывается и в «Анне Карениной»: Рюрикович князь Облонский называет аристократом Вронского – «человека, отец которого вылез из ничего пронырством». Но Облонский говорил об аристократизме Вронского без всякой иронии. Толстой говорит об «аристократах» то с иронией, то чаще просто со злобой. Флигель-адъютантов, например, он положительно ненавидел. Не любил и гвардейцев. Усмотрев в каком-то замечании Салтыкова, адъютанта фельдмаршала Паскевича, нечто вроде «социального пренебрежения» к себе или отношения сверху вниз, он пишет в дневнике: «Это было для меня во время бессонной ночи, которую проводил нынче, одним из тех воспоминаний, при которых вскрикиваешь». Об аристократии вообще Лев Николаевич говорит то как бы изнутри, то как бы извне, хотя в условном смысле чистоты «голубой крови» он стоял выше почти всех людей, которых когда-либо в своей жизни встречал.
Определенных политических взглядов в только что опубликованном дневнике Толстого мы не видим, да их, собственно, и не могло быть при еще общем философском нигилизме. В «Воскресении» вице-губернатор Масленников говорит Нехлюдову: «Я знаю, ты либерал». «Не знаю, либерал ли я или что другое», – отвечает Нехлюдов, «всегда удивлявшийся на то, что его все причисляли к какой-то партии и называли либералом только потому, что он, судя человека, говорил, что перед судом все люди равны, что не надо мучить и бить людей вобще, а в особенности таких, которые не осуждены». В таком приблизительно смысле мог считаться либералом и молодой Толстой. С другой стороны, он уже тогда был отчасти и анархистом. Он громил ту цивилизацию – что сказал бы о нынешней? В Париже видел казнь – и потерял веру в прогресс. «В бытность мою в Париже вид смертной казни обличал мне шаткость моего суеверия прогресса», – говорит он в «Исповеди». Теперь одной казнью едва ли кого-либо можно поколебать в чем бы то ни было или просто произвести впечатление.
Впрочем, политика его интересовала меньше, чем многое другое. Читал он запоем все, что попадалось. «Я почти невежда, – пишет он в дневнике. – Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками без связи, без толку и то так мало». Тургенев подавлял его своей ученостью. Впоследствии Толстой стал одним из наиболее разносторонне образованных людей своего времени – он был и остался ученейшим из всех русских писателей-беллетристов. Однако в 50-х годах не будучи, конечно, «невеждой», Лев Николаевич не был и тем, что французы называют эрудитом. Огромный природный ум – истинно необыкновенный и в некоторых отношениях неповторимый – заменял ему книги: ум чрезвычайно проницательный, недоброжелательный, недоверчивый и скептический. Было в нем, разумеется, и сознание своей гениальности, – по привычке хорошо воспитанного человека он ее скрывал даже от самого себя, даже в дневнике.
Совершая в 1857 году поездку с Тургеневым из Парижа в Дижон, он в дороге (на глазах у спутника?) записал: «Тургенев ни во что не верит, вот его беда, не любит, а любит любить...» Это было, кажется, более верно в отношении его самого, чем в отношении Тургенева. Во всяком случае, Полины Виардо – как бы ни относиться к этому знаменитому роману – в его жизни не было. «Тургенев, – пишет Лев Николаевич, – плавает и барахтается в своем несчастьи». Сам он не плавал и не барахтался, – «несчастья» не было. Верно, и его романы, как многое в нем, раздражали Тургенева. «Толстой, – писал он тогда Анненкову, – смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича, что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо, – высоконравственное и в то же время несимпатичное».
В ту свою заграничную поездку Лев Николаевич был «влюблен» несколько раз. В Париже влюбился в княжну Александру Львову, – записей об этом в его дневнике немного, их можно привести целиком: «Вечер к Львову, его племянница славнейшая барышня, и вообще приятно...» «Зашел к Львовым, и княжна так мила, что я вот уже сутки чувствую на себе какой-то шарм, делающий мне жизнь радостною...» «Зашел к Тургеневу, он к Виардо, я к Львовым. Княжна была. Она мне очень нравится и, кажется, я дурак, что не попробую жениться на ней. Ежели бы она вышла замуж за очень хорошего человека и они были бы очень счастливы, я могу прийти в отчаяние...»
Это был, так сказать, апогей любви; дальше начинается снижение. «Княжна Львова слишком старается быть по-русски умна, но мила очень. С ними ужинать, разные пошляки русские, мне было хорошо, но по робости и рефлексии сидел мало с Львовой, проводил ее». Затем, в Женеве, до него дошел слух, что княжной увлекается князь Орлов. Он пишет письмо Тургеневу, просит узнать, так ли это, и добавляет: «Но ежели этого вовсе нет, скажите откровенно, может ли случиться, чтобы такая девушка, как она, полюбила меня. То есть, под этим я разумею только то, что ей бы не противно и не смешно бы было думать, что я желаю жениться на ней...» Однако Лев Николаевич немного подумал и не отослал этого письма Тургеневу, – очевидно, Бог с ней, с княжной!
Он встретился с ней еще раз вскоре после того в Дрездене и написал А.А.Толстой: «В Дрездене еще совершенно неожиданно встретил кн. Львову. Я был в наиудобнейшем настроении духа для того, чтобы влюбиться: проигрался, был недоволен собой, совершенно празден (по моей теории, любовь состоит в желании забыться, и поэтому так же, как сон, находит на человека, когда недоволен собой или несчастлив). Кн. Львова красивая, умная, честная и милая натура; я изо всех сил желал влюбиться, виделся с ней много, и никакого!»{7}
Думаю, что Ромео, Вертер, Мортимер, Алеко умерли бы от негодования, ознакомившись с этой теорией любви от скуки, от проигрыша и «чтобы забыться». Нет, Толстой описывал любовь в своих романах лучше, чем ее переживал. В том же роде было и другое его увлечение в ту поездку: некоторое подобие романа с княжной Е.Н.Трубецкой (о ней он 4/16 марта 1857 года кратко пишет в дневнике: «Княжна разонравилась...»). Это были, конечно, ненастоящие увлечения. Какие же были настоящие? На старости лет он сказал, что никогда не был влюблен в Софью Андреевну. Десятки свидетельств есть, что был страстно влюблен. Однако знал же он, что говорил.
Замечу тут же, что в своем отношении к женщинам из общества он проявлял совершенно исключительную порядочность. Ведь у нас теперь кое-что и в «Анне Карениной» вызывает недоумение. Вронский «скомпрометировал» Китти тем, что часто бывал в доме Щербацких и танцевал с ней на балах! Анна Каренина – погибшая женщина! Что было бы с современным обществом, если бы считались погибшими все женщины, совершившие такие преступления, как Анна? Нравы тогда были другие? Мемуарная литература свидетельствует, что нравы в XIX веке были точно те же, что в XX, если не хуже. Это он, Толстой, смотрел на многое не так, как смотрели его и наши современники. Поэтому и роман его с Арсеньевой был все-таки не вполне Печоринским.
О Валерии Владимировне Арсеньевой мы знаем (я по крайней мере) очень мало. Она была восемью годами моложе Толстого, ей, следовательно, в пору их романа шел двадцатый год. Несколько позднее она вышла замуж за А.А.Талызина, в 1893 году овдовела и вступила во второй брак с Н.Н.Волковым; скончалась за границей в 1909 году. По-видимому, это была милая, красивая, неглупая барышня. Семья Арсеньевых старая, дворянская, татарского происхождения: они происходили от Ослана-мурзы, выехавшего в Россию из Золотой Орды и принявшего крещение с именем Прокопия. Старший сын его Арсений был родоначальником Арсеньевых. В 1699 году пятьдесят пять членов этой семьи владели в России имениями; многие занимали видные государственные должности. Роль двух сестер Арсеньевых в биографии князя Меншикова, женившегося на младшей из них, всем достаточно известна.
У отца Валерии Владимировны, служившего в лейб-гвардии уланском полку, большого состояния, кажется, не было. По крайней мере, в одном из писем к ней Лев Николаевич, определяя их средства к жизни в случае брака, говорит, что у него «есть 2000 р. серебром дохода с имения (то есть если он не будет тянуть последнего, как делают все, с несчастных мужиков), есть еще около 1000 серебром за свои литературные труды в год (но это не верно, он может поглупеть или быть несчастлив и не напишет ничего)»; у нее же «есть какой-то запутанный вексель в 20 000, с которого, ежели б она получила его, она бы имела процентов 800 руб., – итого, при самых выгодных условиях, 3800 рублей...» Надо ли говорить, что Лев Николаевич не искал приданого за женой. Он и «влюблялся» всегда в барышень небогатых. Арсеньевым принадлежало имение Судаково, расположенное недалеко от Ясной Поляны.
Первое упоминание о Валерии Владимировне встречается в дневнике Льва Николаевича 13 июня 1856 года, но в форме, уже предполагающей доброе знакомство: «Валерия приехала (в Судаково). Завтра поеду к ним». Через два дня он пишет, что его друг Дьяков «советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать».
III
«В то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение...» «Кто из нас в 19 лет не бросался, очертя голову, вслед отцветающим кокеткам, которых слова и взгляды полны обещаний и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их – блеск очаровательный, внутри – смерть и прах». «Женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно...»
Это не из Марлинского, а из Лермонтова. И говорит это не Грушницкий, а сам автор «Княгини Литовской» и «Героя нашего времени». Так писали всего только за двадцать лет до появления в литературе Толстого, и если перестали так писать, то в значительной степени благодаря ему. Стилистически между его печоринством и лермонтовским – пропасть; по существу – пропасти нет. Лермонтовский Печорин очень подробно излагает свои любовные и другие теории, – многое и тут теперь у нас вызывает улыбку: «Есть минуты, когда я понимаю вампира...» «Сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления...» Несмотря на всю художественную красоту, на редкую словесную прелесть «Бэлы», «Максима Максимыча», «Тамани», чеховский Соленый навсегда стал между нами и героем нашего времени.
По существу же печоринство заключалось в том, что центральное место в жизни холодного, замкнутого, невлюбчивого человека занимали весьма странные и запутанные любовные романы, не очень страстные, разъеденные мыслью и самоанализом, ни к чему не ведущие, да, собственно, никакой цели себе и не ставившие. «А ведь есть, – говорит Печорин, – необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившей души! Она, как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет...» Он говорит также (и уж это никак улыбки не вызывает): «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки со строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...»
Первое большое письмо Толстого к Арсеньевой написано 23 августа 1856 года. В этом письме (я приведу выдержки из него дальше) он уже как будто почти ее жених. Объяснение в любви последовало между 13 июня (день приезда Арсеньевых в Судаково) и серединой августа. Вот как отразилась эта глава их романа в его дневнике:
«Бедняжка... ее тетка дрянь... Беда, что она (Валерия) без костей и без огня, точно лапша. А добрая. И улыбка есть, болезненно покорная...» (15 июня). «Валерия была ужасно плоха, и совсем я успокоился...» (24 июня). «Валерия в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе...» (26 июня). «Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа...» (28 июня). «Валерия славная девочка, но решительно не нравится. А ежели этак часто видеться, как раз женишься. Оно бы и не беда, да не нужно и не желается, а я убедился, что все, что не нужно и не желается, – вредно...» (30 июня). «Провел весь день с Валерией. Она была в белом платье с открытыми руками, которые у нее нехороши. Это меня расстроило. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась недоконченно. В улыбке слезы. Потом она играла. Мне было хорошо, но она уже была расстроена...» (1 июля). «Валерия очень мила, и наши отношения легки и приятны. Что, ежели бы они могли остаться всегда такие...» (10 июля). «Валерию дразнили коронацией до слез. Она ни в чем не виновата, но мне стало неприятно, и я долго туда не поеду. Или, может, это от того, что она слишком много мне показывала дружбы. Страшно и женитьба и подлость, то есть забава ею. А жениться – много надо переделать; а мне еще над собой надо работать...» (13 июля). «В первый раз застал ее без платьев, как говорит Сережа. Она в 10 раз лучше, главное – естественна. Закладывала волосы за уши, поняв, что это мне нравится. Сердилась на меня. Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо...» (25 июля). «Странно, что Валерия начинает мне нравиться как женщина, тогда как прежде, как женщина именно, она была мне отвратительна. Но и то не всегда, а когда я настроюсь. Вчера я в первый раз заметил ее руки, которые прежде мне были отвратительны...» (28 июля). «Валерия совсем в неглиже. Не понравилась очень. И говорила глупо, что Давид Копперфильд много перенес несчастий и т.п...» (30 июля). «Валерия, кажется, просто глупа...» (31 июля). «Валерия была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа...» (1 августа).
После этого – он решил на ней жениться! В самом деле, в следующей записи сказано: «Мы с Валерией говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра...» (10 августа). «Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет?..» (1 августа). «Я все больше и больше подумываю о Валериньке...» (16 августа).
По свидетельству всех биографов, свой роман с Арсеньевой он изобразил в «Семейном счастье». Это далеко не лучшее произведение Толстого, – его единственное произведение бледноватое: только в «Семейном счастье» мы у него не видим ясно, не представляем себе людей – ни этой Маши, ни этого Сергея Михайловича, – у них, как нарочно, даже и фамилий нет, да и все действующие лица не по-толстовски называются буквами: г-жа H.H., графиня Р., маркиз Д., леди С. Все же сопоставление дневника с его прославленной повестью о любви поучительно: вот как он все это описал, – вот что было в действительности. Кое-что опускаю, – не очень удобно приводить из дневника факты характера интимного, тоже по-новому освещающие поэзию «Семейного счастья».
26 августа 1856 года состоялась коронация императора Александра II. Коронационные торжества в России всегда отличались пышностью, но это коронование было особенно блестящим. В Москву съезжались люди со всех концов Европы, – за балкон на пути следования царской процессии платили до трех тысяч рублей. Сестры Арсеньевы тоже отправились в Москву и очень веселились на разных балах. Валерия Владимировна, по-видимому, танцевала с какими-то флигель-адъютантами; было у нее платье не то цвета смородины, не то с украшениями в виде смородины, и что-то с этим платьем случилось, и о происшествии она написала тетушке Ергольской. В ответ Лев Николаевич послал ей письмо, в котором говорилось следующее:
«Сейчас получили милое письмо ваше... Я всеми силами старался удерживаться... от тихой ненависти, которую в весьма сильной степени пробудило во мне чтение вашего письма к тетеньке, и не тихой ненависти, а грусти и разочарования в том, что ты его в дверь, а он в окно. Неужели какая-то смородина просто прелесть, высокий полет и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия?.. Вы должны были быть ужасны в смородине просто прелесть, и, поверьте, в миллион раз лучше в дорожном платье...
Любить высокий полет, а не человека – нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, чем из всякой другой volée, a вам даже и невыгодно, потому что вы сами не haute volée, a потому ваши отношения, основанные на хорошеньком личике и смородине, не совсем-то должны быть приятны и достойны – dignes. Насчет флигель-адъютантов – их человек сорок, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть, радости тоже нет. Как я рад, что измяли вашу смородину на параде... Хотя мне и очень хотелось бы приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, пожелав вам всевозможных тщеславных радостей с обыкновенным их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга гр. Л.Толстой».
Казалось бы, преступления Валерии Владимировны были невелики; да и женихом-то Лев Николаевич был тогда еще не вполне, так что на такие нотации, быть может, не имел и права. Мы видим, однако, что в письме он сказал Арсеньевой все неприятное, что только мог сказать, – поговорил и о ней самой, и о ее платье, и даже о недостаточной знатности ее семьи. Сам Печорин не мог бы быть более неприятен в разговоре с княжной Мэри.
Инцидент со смородиной и флигель-адъютантами удалось замять, – Толстой почувствовал, что зашел слишком далеко. Затем Валерия Владимировна вернулась в Судаково. В дневнике появляются следующие записи:
«Приезжала m-lle Вергани (гувернантка Арсеньевых), по ее рассказам Валерия мне противна...» (24 сентября). «Ездил к Арсеньевым. Валерия мила, но, увы, просто глупа...» (25 сентября). «Была Валерия мила, но ограниченна и фютильна (т.е. пуста и ничтожна) невозможно...» (26 сентября). «Валерия нравилась мне вечером...» (28 сентября). «Валерия не способна ни к практической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только неприятную часть того, что хотел сказать, и потому оно не подействовало на нее. Я злился. Навели разговор на Мортье (учитель музыки), и оказалось, что она влюблена в него. Странно, это оскорбило меня, мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то вроде чувства...» (29 сентября). «Она страшно пуста, без правил и холодна как лед, от того беспрестанно увлекается...» (1 октября). «Не могу не колоть Валерию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятное воспоминание...» (8 октября). «Смотрел спокойно на Валерию, она растолстела ужасно, и я решительно не имею к ней никакого чувства, дал ей понять, что нужно объяснение, она рада, но рассеянно...» (19 октября). «Поехал на бал. Валерия была прелестна. Я почти влюблен в нее...» (24 октября). «Приехала Валерия. Не слишком мне нравилась, но она милая, милая девушка, честно и откровенно она сказала, что хочет говеть после истории с Мортье, я показал ей этот дневник, 25 число кончалось фразой: я ее люблю. Она вырвала этот листок...» (27 октября). «Она была для меня в какой-то ужасной прическе и порфире. Мне было больно, стыдно, и день провел грустно, беседа не шла. Однако я совершенно невольно сделался что-то вроде жениха. Это меня злит...» (28 октября). «Нечего с ней говорить. Ее ограниченность страшит меня. И злит невольность моего положения...» (30 октября). «Она не хороша. Невольность моя злит меня больше и больше. Поехал на бал, и опять была очень мила. Болезненный голос и желание компрометироваться и чем-нибудь пожертвовать для меня. С ними поехали в номера, они меня проводили, я был почти влюблен» (31 октября).





