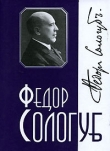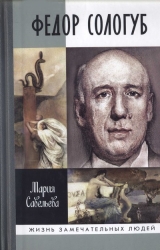
Текст книги "Федор Сологуб"
Автор книги: Мария Савельева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Премьера драмы состоялась в Киеве, в театре «Соловцов», и привлекла внимание публики, конечно, в первую очередь благодаря популярности романа. Журналист П. Шубин в «Киевской мысли» писал, что желал бы видеть Передонова более «простым», каким Гоголь видел своего Хлестакова: «Я ожидал этого не потому, что Передонов, который плюет в лицо Варваре или крадет у кухарки изюм, сценически невозможен… Но мне казалось, что теперь, после 5-го издания романа, когда передоновщина простейшего типа разоблачена… у художника является возможность, откинув всё анекдотическое и случайное, претворить ее в образы более легкие, прозрачные, богатые…»
Вскоре постановка была осуществлена и в Москве, в театре Константина Незлобина. Сологуб считал его трактовку слишком привязанной к быту, но в целом был доволен этим опытом. Разумеется, достигнуть вершин лучшего сологубовского романа постановка не могла, и ее популярность была недолговременной. Интерес к пьесе проявляла Комиссаржевская, желавшая поставить «Мелкого беса» в провинции. В переговорах, которые Федор Кузьмич вел с ней в том числе через режиссера Аркадия Зонова, он комментировал литературный материал: «Постановка не сложная, но число действующих лиц велико (до 60)». На гастроли такой большой состав актеров вывозить было сложно. Комиссаржевская лично отвечала драматургу, что труппа состоит в поездке всего из пятнадцати человек, но что «Мелкий бес» ее «крайне интересует». Тем не менее постановка так и не состоялась.
В 1912 году Сологуб затевает еще одну инсценировку – при содействии Чеботаревской переделывает для театра отдельные сцены из «Войны и мира» Льва Толстого. Русская классическая литература, которую он смело использовал как «ничейный» текст (например, в «Ночных плясках»), казалась писателю своего рода мифом: «Если могут быть романы и драмы из жизни исторических деятелей, – то могут быть романы и драмы о Раскольникове, о Евгении Онегине… которые так близки к нам, что мы порою можем рассказать о них такие подробности, которых не имел в виду их создатель»[33]33
Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская. Переписка с А. А. Измайловым // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб.: Дм. Буланин, 1999. (Публикация М. М. Павловой.)
[Закрыть]. Подобно античным героям, эти персонажи, на его взгляд, должны были заново родиться на сцене. К инсценировке Сологубы отнеслись со всей серьезностью, не допуская в нее иронии или игры и стараясь сохранить дух оригинала, хотя свое отношение к тексту, отличное от авторского, у Федора Кузьмича, безусловно, было. В поздние годы он говорил, что все герои Толстого – мерзавцы: «Болконский – дрянь, Николенька – идиот, Карл Иваныч – дурак, Соня – паскуда, ни на ком отдохнуть нельзя!»[34]34
Смиренский В. В. Воспоминания о Федоре Сологубе // Неизданный Федор Сологуб. М.: Новое литературное обозрение, 1997. (Публикация И. С. Тимченко.)
[Закрыть]
Часть средств от спектакля автор и его супруга собирались перевести в фонд Толстого, уже была достигнута договоренность о постановке с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко, однако внезапно режиссер получил от наследников Толстого немотивированный запрет на инсценировку. Лишь позднее Сологубы смогли добиться согласия со стороны Александры Львовны, дочери Толстого. Между тем авторы натыкались и на другие подводные камни, пытаясь адаптировать роман-эпопею к пространству театра. «Батальных сцен и полей сражения Ф. К. намеренно избежал, есть лишь „бивак“, но в сумерках и в отдалении», – писала Чеботаревская Мейерхольду. Из опасений, что цензура могла выкинуть эпизод расправы над Верещагиным (купеческим сыном, которого Растопчин отдал на растерзание толпы в погибающей Москве 1812 года), была предусмотрена альтернативная редакция.
Нужно было снова искать театр, готовый осуществить инсценировку. Сологубы пытались договориться с Александринкой, но директор Императорских театров Теляковский – человек, по мнению Чеботаревской, нерешительный – не давал однозначного ответа, хотя, по всей видимости, был заинтересован материалом. Мейерхольд тоже проявлял интерес: «Пьесу прочитал вчера вечером. Превосходно сделано. Имею только кое-что сказать по поводу картины смерти Андрея. Но это при свидании». Анастасия Николаевна через знакомых пыталась устроить публикацию в периодике, которая повлияла бы на Теляковского, однако ее усилия ни к чему не приводили. Об идее Сологуба было известно из прессы, но она была встречена неодобрительно. В газетах писали, что обращение современного писателя к сюжету Толстого показывает исчерпанность символизма и желание Сологуба любыми способами привлечь к себе внимание. Федора Кузьмича сильно раздражали подобные замечания. «На 50-м году жизни мне поздно делать что-нибудь для привлечения к себе кого-нибудь», – говорил он.
Драмы Сологуба ставились на многих провинциальных сценах, столичные театры вывозили их на гастроли. Последнее обстоятельство было для Федора Кузьмича немаловажным: благодаря влиянию супруги он считал необходимым как можно шире распространять идеи нового искусства. Но следующая большая удача посетила Сологуба-драматурга, только когда в 1912 году Мейерхольд вновь взялся за постановку его пьесы. Творческая симпатия писателя и режиссера была взаимной. После «Победы смерти» на протяжении пяти лет Мейерхольд практически не обращался к российской драматургии – и вот именно Федор Кузьмич смог вернуть режиссера к русскоязычному материалу. Всеволод Эмильевич писал Иде Рубинштейн о том, что он «влюблен» в пьесу Сологуба «Заложники жизни».
Однако этого было мало. Необходимо было еще включить драму в репертуар Александрийского театра. А добиться этого было трудно. Сам Мейерхольд был в казенном классическом театре чужеродным элементом. Придя на эту сцену, он радикально обновил декорации, привнес с собой опыт старинного театра. Далеко не вся труппа готова была одобрить эти эксперименты. И вот театру предлагали драму на современном материале, да еще и скандальную. По сюжету совсем юные герои, Михаил Чернецов, сын земского врача, и Катя Рогачева, дочка ветреных и разоряющихся помещиков, любят друг друга, но родители против того, чтобы они обвенчались, не будучи в состоянии обеспечить свою совместную жизнь. Проходит несколько лет, их любовь не угасает, но Михаилу еще предстоит долго учиться, чтобы стать, как он хочет, инженером. Катя поддается уговорам родителей и выходит замуж за прагматичного Сухова – по всему видно, что он сделает хорошую карьеру, и Рогачевы рассчитывают, что зять поможет семье расплатиться с долгами. Катя и Михаил решаются стать «заложниками жизни» и принести ближайшие годы в жертву, чтобы потом соединиться, как только будущий инженер исполнит свой замысел. Герой на это время поселяется с неземной Лилит – женщиной-сказкой, лунной тенью, которая любит его, но никогда не станет земным существом. Она – только грустная мечта, посетившая благородного строителя.
Проходит восемь лет, Михаил становится известным и состоятельным. Как и было решено, они с Катей вновь сходятся, легко и радостно. Катя бросает мужа и двоих детей, ее прозаический супруг устраивает сцены, и только грустная, не признанная людьми, никогда не плачущая мечта-Лилит тихо отступает в тень, давая дорогу земной жизни. Катю-жизнь она раздражает своей возвышенностью. О жилище соперницы Катя говорит ей: «Хоть бы эта комната! Какой траурный вид! Точно взято с одной из твоих картин. Недостает только гроба и катафалка», – почти теми же словами, которыми в год премьеры «Заложников жизни» Горький высмеивал Сологуба в своем памфлете о Смертяшкине.
Голоса из публики и критические статьи обвиняли Сологуба в пропаганде проституции, в оправдании брака по расчету. Более искушенные читатели, такие как Гиппиус, считали, что пьеса не удалась, поскольку ее мысль высказана слишком прямолинейно. Философов укорял Сологуба в том, что тот слишком не любит жизнь. Это был настоящий скандал. Сологубу и Чеботаревской стоило больших усилий разъяснять публике, что все действующие лица – не более чем символы, что не стоит размышлять в плоскости реальных человеческих отношений о том, имела ли Катя право бросать своих детей, и о прочих подобных вопросах. «Правда художественная не всегда совпадает с правдой жизни и может быть убедительной сама по себе», – писала Анастасия Николаевна.
Принятию «Заложников жизни» в репертуар Александрийского театра особенно сильно сопротивлялся критик и театральный деятель Федор Батюшков – тот самый, который почти десять лет назад не принял в печать рассказ «Жало смерти» из-за злонравия его главного героя. На этот раз во время заседаний Театрально-литературного комитета Батюшков признал талант Сологуба как рассказчика, но… не как драматурга. Пьеса, по его словам, вовсе не годилась для театра: ремарок в ней было больше, чем следовало для постановки. И действительно, в «Заложниках жизни» значительное место отводилось повествованию. Батюшков не принимал во внимание, что Сологуб как драматург представлял себе на сцене рассказчика, читающего текст от автора. Желая помочь Сологубу, Вячеслав Иванов пытался повлиять на комитет, но всё было тщетно. Батюшкову удалось убедить коллег в своей правоте, и пьесу не приняли.
Так бы и не состоялось второе сотрудничество Сологуба с Мейерхольдом, но, к счастью, «Заложники жизни» понравились «нерешительному» директору Императорских театров Теляковскому, который отослал драму в московский Театрально-литературный комитет. Там пьесу одобрили, и вопрос о постановке был решен.
О допуске «Заложников жизни» на сцену Сологуб узнал во время своего заграничного путешествия, находясь в Генуе. Полностью доверяя Мейерхольду, он высказал только одно пожелание: приступить к работе так скоро, как будет возможно. Однако писатель, вероятно, не учитывал, что за пять лет, прошедшие с момента их предыдущего сотрудничества, театр Мейерхольда стал динамичнее. Скоро обнаружилось разногласие между драматургом и режиссером, и оно касалось ключевой для обоих сцены – танца Лилит, поставленного балетмейстером Пресняковым и связанного с финальным монологом героини. В этом танце режиссер планировал показать двойственность образа земной Елены Луногорской, которая оборачивалась мифической, библейской Лилит.
По возвращении Сологуба на родину Мейерхольд прислал к нему музыкального критика, композитора Вячеслава Каратыгина, чтобы тот вживую сыграл писателю музыку к спектаклю. Федор Кузьмич оценил мелодию саму по себе, но посчитал ее до смешного не сочетаемой с образом Лилит. «Моя Лилит так отплясывать не может вообще, и особенно в этот переживаемый ею момент и в связи с произносимыми ею словами, – писал он. – Ради Бога, милый Всеволод Эмильевич, отправьте к Черту [вставка: „или хоть за кулисы“] кошмарную пианистку, – я протестую против нее всеми силами моей души». Убрать этот танец Мейерхольд никак не мог, хотя не только Сологубу, но и впоследствии критикам он показался слишком затянутым. Сологуб с Чеботаревской просили по крайней мере не выводить на сцену пианистку – и опустить занавес во время ее исполнения. Эту условную фигуру, вторгшуюся в его символический ряд, драматург решительно возненавидел. Сцена казалась ему пародией на декадентство, танцы Федор Кузьмич считал слабым местом спектакля: «Танцы Фокина хороши, но кое-что в них слишком знакомо; лишь кажется, что он не так много работал, как мы читали в его интервью».
Работой актрисы Тхоржевской (исполнительницы роли Лилит) Сологубы тоже были не вполне довольны. Придя на репетицию, они застали ее больной и были раздосадованы. «Вчера она не давала никакого образа, никакого лиризма, из которого соткана вся Лилит, – мало чувства, какие-то выкрики, явное непонимание иных произносимых слов („и в безнадежности есть счастье“, „Я первозданная Лилит“ и пр.), какая-то беготня, разрывающая монологи…» – писала Чеботаревская Мейерхольду. В исполнительнице этой роли Сологубы искали потустороннего и не находили. Как выяснилось потом, особенно огорчена была Анастасия Николаевна. «Самовольство Мейерхольда и Головина чрезвычайно огорчало ее»[35]35
Федор Сологуб. Поминальные записи об Ан. Н. Чеботаревской // Неизданный Федор Сологуб. М.: Новое литературное обозрение, 1997. (Публикация А. В. Лаврова.)
[Закрыть], – вспоминал Сологуб об отношении супруги к режиссеру и художнику-декоратору спектакля.
Спектакль, несмотря ни на что, вышел и пользовался большим успехом. Пространство сцены было разделено дверями, в которые герои беспрестанно входили и выходили, и это символизировало тщету жизни. Михаил и Катя, наивные дети человечества, перебрасывались мячом. Теляковский, ответственный за принятие пьесы Императорским театром, оценил декорации Головина как «превосходные» и одобрил первые два действия в ущерб третьему. «В 3-й картине реальное перепутано с фантастическим, разговоры – с танцами по рассыпанной канифоли, папиросами и т. п.», – сетовал он. В отличие от пьесы, в спектакле было не пять, а три действия: последние из них, разделенные небольшим промежутком времени, Мейерхольд соединил.
В день премьеры атмосфера была торжественная, но нервная. Сквозь шквал аплодисментов изредка прорывался свист недовольных. Порядки Императорского театра давали о себе знать, и после спектакля публика торжественно чествовала его создателей. На сцене появились венки с лентами, на каждой из которых была поздравительная надпись: «Всеволоду Мейерхольду, рыцарю искусства – поклонники красоты», «Федору Сологубу – заложники жизни», «А. Я. Головину, художнику вдохновения, – поклонники красоты».
Пресса, однако, раздувала скандал вокруг постановки. Так, «Петербургский листок» обвинял режиссера в интриганстве против актрисы Ведринской, изначально готовившейся к исполнению роли Лилит. Во время ее болезни Тхоржевская, которая должна была лишь заменять основную актрису, успела поучаствовать во многих репетициях и закономерно заняла ее место. Мейерхольда пытались уличить в том, что он сразу отвел эту роль Тхоржевской, дав Ведринской ложную надежду: костюм якобы шился на первую из них и не шился на вторую. «Авгиевы конюшни кулис Александрийского театра требуют немедленной и радикальной чистки», – негодовал взволнованный «листок». Атмосфера в театре была напряженная. Старейший актер Александринки Владимир Давыдов выдумал разошедшееся по труппе словечко «сологубиться», что означало «кривляться». Корифеи театра на репетициях «Заложников жизни» даже не показывались.
На страницах газеты «Речь» Батюшков высказывался о пьесе презрительно: мол, не выступать же ему в роли «босоножки» (имелась в виду, очевидно, всё та же Лилит) «в какой-нибудь пьесе Сологуба». Федор Кузьмич в ответном открытом письме ерничал: «Не понимаю, как возникла у г. Ф. Батюшкова такая мысль; ни о чем подобном я его никогда не просил; напротив, если бы мне привелось узнать, что г. Ф. Батюшков изъявляет желание исполнить роль босоножки в моей „какой-нибудь“ пьесе, то я настойчиво просил бы режиссера и дирекцию не потворствовать такой фантазии и дать дорогу молодым талантам». Дискуссия продолжилась и после премьеры. Батюшков, в частности, апеллировал в печати к тому, что «очень дурно высказывались о Сологубе наиболее почтенные артисты Александрийского театра» – вероятно, те самые, которые не принимали Мейерхольда. Сологуб в личном письме просил Батюшкова печатно разъяснить, в связи с чем так раздосадованы эти артисты.
Автор был в целом скорее удовлетворен результатом. Как и прежде, он оценил экспериментаторскую смелость Мейерхольда, его почерк и стиль. Позже писатель не раз возвращался к идее возобновить «Заложников жизни», мечтая о постановке в Петербурге или в Москве. Еще летом 1912 года Сологуб задумался о спектакле на московской сцене. Мейерхольд уверял его, что это возможно без всякого применения связей: надо лишь, «чтобы кто-нибудь из актрис Малого театра влюбился в Лилит или Катю или кто-нибудь из режиссеров влюбился в пьесу. Тогда или эта актриса, или этот режиссер начнут хлопоты о пьесе». Также обсуждалась возможность командировать Мейерхольда в Москву, но командировка всё не выходила. Гораздо позже, в 1921 году, лишенный средств к существованию, Сологуб вынужден был подстраиваться под новые революционные ориентиры Мейерхольда (Гиппиус в этот период говорила об общественном рвении режиссера, что тот как будто «особенная дрянь»), Федор Кузьмич писал ему: «Мне кажется, волевое упорство строителя Михаила вполне подходит к тому, что надо современности. Его монолог (Я буду строить новую жизнь) – это и есть то, что надо повторять». Однако Мейерхольд в это время был очень занят как заведующий театральным отделом Наркомпроса, а в 1-м театре РСФСР, где он работал как режиссер, репертуар и без того был перегружен, не успевали ставить тех авторов, которым уже обещали место в афише. Мейерхольд предлагал передать пьесу 2-му театру РСФСР (бывшему театру Незлобина) и собирался сам консультировать режиссера, однако этот замысел так и не удался.
После революции Сологуб всё еще не оставлял надежды на сценическую жизнь своих пьес, но в это время появилась только одна относительно удачная постановка его драмы. Длительная переписка с Немировичем-Данченко привела к тому, что в 1917 году МХТ включил в репертуар пьесу Сологуба «Узор из роз» – инсценировку его же повести «Барышня Лиза». Осенью 1916 года Анна Ильинична, жена Леонида Андреева, сообщала Чеботаревской, что Немирович-Данченко интересуется этой пьесой, просила срочно переслать текст режиссеру. Возможно, только благодаря их разговору с Андреевым пьеса смогла пойти в театре. До этого Немирович-Данченко, высоко ценивший творчество Сологуба и называвший его «большим русским писателем», всё же неоднократно писал Федору Кузьмичу о несовпадении его художественного метода с режиссерской манерой МХТ. К тому же Константин Станиславский был категорически против сотрудничества с декадентом, говоря, что лучше закрыть театр, чем ставить Сологуба. Не были приняты в Художественный театр ни «Заложники жизни», ни «Любовь над безднами»: психологизм Сологуба был слишком условен, слишком схематичен для МХТ. Наконец, видя, что театр не идет на уступки, навстречу его принципам пошел Сологуб. Повесть «Барышня Лиза» была вариацией на тему сентименталистских повестей, напоминала одновременно о «Бедной Лизе» и о «Барышне-крестьянке», об архаике Карамзина и о солнечном мире пушкинской прозы. Разумеется, в ней был привнесенный Сологубом элемент игры и иронии, но он исчез в постановке Второй студии МХТ (режиссер – Василий Лужский, настоящая фамилия – Калужский). Сложно сказать, зачем Сологуб так добивался сотрудничества со знаменитым театром, зная, что несовпадение методов было очевидным. Вероятно, немаловажным фактором для него мог быть в это время размер гонорара. Конечно, Федор Кузьмич желал видеть свое детище не в студийном исполнении, а в спектакле основной труппы, но там пьеса не прижилась. Говорили, что не смогли подобрать актрису на основную роль – барышни Лизы. Репетиции начались осенью 1918 года и продолжились до марта 1920 года. Игравший в спектакле актер Евгений Калужский, сын режиссера постановки, вспоминал: «Пьеса работалась в самое тяжелое время, студия отказывала себе во всём, а костюмы и обстановка требовали громадных денег. Только счастливый случай, давший возможность очень дешево купить мебель для первого действия, помог окончить монтировку…»
Спектакль вышел в 1920 году. Противоречие между литературным материалом и исполнением привело к тому, что ни театральное начальство, ни критика не знали, как в новых политических условиях трактовать премьеру. Заведующей театральным отделом Наркомпроса Ольге Каменевой (сестре Троцкого и жене Каменева) доносили, что пьеса поэтизирует барский быт, хотя в тексте демократа Сологуба, напротив, проявлялось всяческое сочувствие к тяжелому крестьянскому труду, а главная героиня в финале духовно преображалась благодаря тому, что начала вышивать сложный узор и работать в поле вместе с крестьянскими девушками. Критика подчеркивала антикрепостническое настроение пьесы. Наркому просвещения Луначарскому, посетившему премьеру, спектакль понравился. Однако форма, в которой «Барышня Лиза» была задумана Сологубом, оказалась разрушена. Как писал критик Павел Марков, верность эпохе, соблюденная Второй студией, еще не делала спектакль удачным: нужно было большое мастерство, чтобы наполнить почти «археологические» формы пьесы новым чувством.
Профессиональные театры после этого еще долгое время не ставили Сологуба: его имя на афише становилось опасным. Малоизвестен тот факт, что творчество писателя однажды привлекло внимание молодого Сергея Эйзенштейна. Еще до получения театрального образования он уже был страстно увлечен театром благодаря спектаклям Федора Комиссаржевского и Александринки. Вступив в годы Гражданской войны добровольцем в Красную армию, будущий режиссер выполнял обязанности художника-декоратора в агитбригадах и расписывал агитпоезда. В 1920 году во время войны с Польшей он нарисовал эскизы декораций и костюмов к пьесе Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан». Неизвестно, была ли поставлена эта пьеса политотделом Западного фронта, однако рисунки Эйзенштейна сохранились в его архиве. В европейской части сцены рисунок утонченный, линии плавные и изящные, изображены замок и дама в островерхом головном уборе, который сочетается с острыми башнями и возносится выше их. Объемная грудь графини, обтянутая одеждами, игриво подчеркнута. В русской части сцены все детали округлы, нелепы, позы героев комичны. Княгиня в кокошнике широко расставила руки и ноги, Ванька раскрыл рот. Но композиция западной и российской мизансцен отражают одна другую.
Эйзенштейн интересовался средневековой тематикой театрального декора, и, возможно, именно этим будущего режиссера привлекла пьеса «Ванька Ключник и паж Жеан». Также притягательной для него была эротическая линия в пьесе, она отразилась в графике, сохранившейся до наших дней.
Между прочим, среди городов, в которых останавливался Эйзенштейн на пути фронта, в конце 1919 года оказались Великие Луки – бывшее временное пристанище Сологуба. И, как будто переняв у писателя просветительскую миссию, молодой декоратор включился в деятельность местного культурного клуба. В Великих Луках Эйзенштейн познакомился с известным театральным деятелем Константином Елисеевым, с которым он потом вместе будет заниматься агитработой. Маленький город для него был большим пространством творческого энергообмена, в то время как для Сологуба замкнутое пространство провинциального быта было подобно погребению заживо…
Сологуб и Чеботаревская не раз предпринимали попытки совместного драматического творчества, но они вызывали справедливую критику. Так, драма «Камень, брошенный в воду» была полна длиннот и разговоров о пустом, прямолинейностей и пошлой женской болтовни (образцом ее может служить выражение «шкурку переменить» по поводу смены прически). Творческое содружество супругов наталкивалось и на жизненные трудности. Зная о нестабильной психике своей жены, Сологуб еле отговорил ее от трагического финала этой пьесы. В результате окончание текста получилось как будто оборванным, невыразительным.
Путь Сологуба в театре был менее сложным, чем у многих других символистов, но всё же тернистым. Писатель считал, что главная причина этого – в неравноправных отношениях между сторонниками старого и нового театра: «Мы, новые художники, не отрицаем, например, Островского, не говорим, что не надо ставить пьесы этого писателя». Теме нового искусства Сологуб с супругой посвятили драму под названием «Мечта победительница», своего рода оптимистичный вариант «Заложников жизни». Сходны даже системы образов двух пьес. В «Мечте победительнице» талантливая молодая актриса Марья Павловна, пораженная провалом нового искусства на сцене, уступает ухаживаниям адвоката Красновского, но, прожив с ним три года, возвращается на сцену.
Поводы для оптимизма Сологуб-драматург черпал в самых неожиданных источниках. Начиная примерно с середины 1910-х годов он видел будущее нового искусства в просвещении масс. Ему казалось, что простой народ с большей вероятностью понял бы символистскую драму, чем критики, зашоренные своей излишней образованностью. Как в прозе он изгонял «зверя» городов, так в театральном искусстве ему хотелось раскрепощения первозданных инстинктов. Поэтому Сологуб не видел необходимости обращаться только к благородным или изысканно воспитанным зрителям. «Хоть и называют нас, символистов, идеологами буржуазии, но, очевидно, не от буржуазии дождемся мы признания, а от демократии», – писал Федор Кузьмич. Подтверждения этому могли быть лишь эпизодическими. Так, 20 июля 1912 года Корней Чуковский писал драматургу, что ему очень понравились пьесы Сологуба и Гиппиус, и не ему одному: «Обеими упивается наша нянька, значит, хороши». Напротив, Аркадий Горнфельд, высоко ценя Федора Кузьмича как драматурга, полемизировал с ним в печати, доказывая, что единственная культура, которая у нас есть, – буржуазная и что признание подлинной демократии Сологуб может получить нескоро, «в том далеком бессмертии, которым давно увенчала его буржуазия». К сожалению, ошибку писателя позднее подтвердит его судьба. Вера в народ совсем не укрепилась в нем после революции и не помогла популяризации его творчества, а, напротив, принесла Федору Кузьмичу только горькие разочарования.