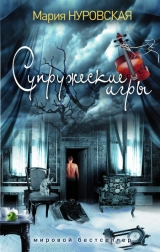
Текст книги "Супружеские игры"
Автор книги: Мария Нуровская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Старик»
Он шел напевая. Люди останавливались. Глазели.
«Поет», – говорили они.
А куда идет?
Болтают, Ядвига вернулась.
Ядвига вернулась? А Старик знает?
Знает. Идет ее на станцию встречать.
А что еще знает?
Ему сказали – Ядька вернулась. Он надел лапсердак [8]8
Верхнее длиннополое платье у польских и галицийских евреев, сюртук особого покроя.
[Закрыть] итеперь идет за ней на станцию. Шапку снял с головы и идет. Седые волосы упали ему на глаза, а он идет и поет.
А что сказали Старому о приезде Ядьки?
Ну что вернулась. Что сидит на станции.
Он молча снял с распялки лапсердак и теперь вот на пути к станции.
Старик, когда у него родилась дочка, назвал ее именем жены Старосты.
Староста пошел в шинок и здорово надрался. Потом стал у дома Старика и стоит. Старик из дома вышел, облокотился на забор.
– Ты дочь Ядвигой назвал? – спрашивает Староста.
– Назвал… – отвечает Старик.
Староста развернулся и пошел себе. Сел на лошадь, но недалеко уехал. Потом долго еще не мог спустить ноги с кровати.
Весной все знали – Старик идет к Старосте. Старостиха передником со стола крошки смахнула, водку поставила. Староста кое-как сполз с кровати, присел на лавку со Стариком.
А Старик и говорит:
– Выпьем, Староста, обиды на тебя не держу. У тебя своя Ядвига – у меня своя. Что было, забудем и опять подружимся…
Однако, Ядька не одна вернулась. Старик-то знает, что Ядька вернулась не одна? Наверно, не знает, иначе бы так не шел и не пел. А он идет и поет.
Надо задержать Старика. Бегите к Старосте, пускай он придумает что-нибудь, чтоб задержать Старика. А не то, если Старик увидит, что Ядька вернулась не одна, прибьет ее.
Срочно надо бежать к Старосте – пускай садится на велосипед и догоняет Старика. И не дай бог ему опоздать, не то Старик Ядьку убьет.
Староста садится на велосипед. Клянет всех подряд, на чем свет стоит, потому что вчера у Витеков были крестины и он здорово надрался. У него аж глаза на лоб лезут от головной боли. Староста Ядьку клянет, что ей приспичило вернуться именно сегодня. И Старика клянет, что тот идет за ней на станцию и ничего не знает: Ядька-то не одна вернулась. Клянет велосипед, что тот не хочет ехать по песку.
Когда Старосту придавило деревом и его забрали в больницу, люди начали поговаривать, что Шимонов парень повадился к Старостихе захаживать. Старик пошел к жене Старосты. Без слов ремень расстегнул и всыпал бабе по голому заду.
Больше Ядвига не пускала на порог Шимонова парня.
Старик уж на горку поднялся. Оттуда видать станционные постройки. Он уже на горке, а Староста может не успеть, потому что цепь у велосипеда слетела. Старосте придется велосипед оставить и дальше пешком идти. Надо бы коня запрячь да подвезти Старосту, иначе не поспеет.
Но все лошади в поле на работах.
У Шимона кобыла в конюшне без подковы стоит. Шимон собирался к кузнецу, да здорово нализался у Витеков на крестинах и теперь дрыхнет в сарае на сеновале.
– Будить Шимона! Пускай запрягает кобылку в телегу и везет Старосту, иначе тот не догонит Старика, который уже взошел на горку, откуда видны станционные постройки.
Староста со Стариком вместе были на войне. Когда Старик пулю получил, Староста нес его на плечах десять километров. В деревню вернулись вместе. И оба подкатили к красавице Ядвиге. Встретились возле ее дома.
– Она моя! – кричит Староста и преграждает дорогу Старику.
– А ну с дороги, Староста! – говорит Старик.
А потом – так никто и не дознался почему – отступился Старик, а Староста остался с ней.
Староста, кляня все на свете, карабкается на горку, Шимон слезает с сеновала, а Старик остановился и, приложив руку ко лбу козырьком, смотрит в сторону станционных построек. Старик стоит на горке и высматривает Ядьку на станции. Пускай уж поскорее Шимон слезает с сеновала.
Э-э… с такого расстояния Старику ничего не увидать, не рассмотреть ему, вернулась Ядька одна или нет.
Но на всякий случай пускай Шимон скоренько слезает с сеновала. Старик перестал всматриваться в сторону станционных построек и идет дальше. Да он вовсе не на станцию идет! Свернул в переулок у Витекового поля. А может, Старик не знает, что Ядька вернулась и сидит на станции? Как это не знает? То, что вернулась, зна-а-ет, только не знает, что вернулась не одна.
О! Вышел из пережска, сук дубовый в руках держит. Опирается на него и опять идет по направлению к станции.
Видать, Старик знает, что Ядька вернулась не одна, и хочет прибить ее палкой.
Пусть уж скорее Шимон запрягает кобылу в телегу, потому что Староста совсем задохнулся и идет все медленнее, а Старик все ближе к станции. Хотя не так и близко еще. До станции от горки с три километра будет. Если Шимон поспешит, успеет подвезти Старосту вовремя.
Красивая была эта Ядька у Старика. Может, даже красивей, чем жена Старосты была в девках.
Деревенские парни влюблялись в нее насмерть, но Старик сторожил дочку. Близко не давал к ней подойти. Впрочем Ядька на парней вовсе не заглядывалась…
Кобыла Шимона хромает, потому что вчера потеряла подкову. Шимон должен был ехать к кузнецу, но здорово напился на крестинах у Витеков и проспал. Кобыла хромая, и Шимон не может подвезти Старосту.
Надо обязательно задержать Старика. Вот что, пускай пацаненок Старосты летит в поле и выпряжет из плуга конягу. За полчаса догонит Старика.
Да ведь не пацаненок должен догнать Старика, а сам Староста. А Староста на коня не залезет, потому что в последний раз садился на лошадь в день появления Ядьки на свет. С той поры двадцать лет минуло. Тогда Староста здорово назюзюкался, свалился с коня и повредил себе позвоночник. С той поры Староста не может ездить на лошади. Раз Староста на коня не сядет, пусть Шимон поедет и задержит Старика.
Незачем Шимону ехать, потому как единственным человеком в деревне, способным задержать Старика, может быть только Староста.
Ничего не получается, надо бы послать парнишку к Коменданту. Пускай Комендант даст мотоциклетку. На мотоциклетке Староста легко догонит Старика.
Но Староста не умеет водить мотоцикл.
Ну тогда, может, Комендант его подбросит. В конце концов, Комендант тоже заинтересован в том, чтобы Старик Ядьку не убил. Случись такое, Коменданту несдобровать.
Так пускай парнишка летит к Коменданту, и поспешит, потому что Старик уже в километре от станции.
Слава богу, притомился, видать, – уселся в кювете и отдыхает.
Что там Старик делает?
Старик сидит в кювете и покуривает самокрутку.
Комендант выехал на мотоциклетке, теперь Староста враз догонит Старика.
Старик сидит в кювете. Ноги вытянул перед собой. Самокрутку курит и поет.
Старик в первый раз запел с тех пор, как Ядька сбежала. Но он не знает, что дочка не одна вернулась. Поэтому и сидит-посиживает в кювете и поет себе.
Комендант догнал Старосту, тот еще только на полгорки вскарабкался, потому что здорово надрюкался вчера на крестинах и дело у него пока плохо продвигается. Прямо-таки катастрофа: Староста наотрез отказывается на мотоциклистку садиться – когда-то он с лошади свалился, с тех пор позвоночник у него болит, а сзади на седле трясет немилосердно.
Пусть уж лучше Комендант один едет, задержит Старика. В конце концов, он больше всех заинтересован в том, чтоб Старик Ядьку не убил. Комендант в случае чего хлопот не оберется!
Да незачем Коменданту ехать – единственный человек, который в состоянии Старика задержать, – это Староста.
А Старик встал, лапсердак отряхнул и пошел себе дальше.
Бабы на деревне дивились – надивиться не могли, как это мужик может вокруг ребенка так прыгать, как Старик возле своей Ядьки. Пеленки стирал, из бутылочки кормил. Жене не давал к малютке подступиться…
Ядька, когда немного подросла, хвостом за ним ходила. Старик терпеливо пристраивал свой широкий шаг к ее семенящему. Частенько можно было видеть, как они отдыхали у дороги. Пел он ей тогда голосом красивым и чистым.
Да ведь вчера к Витекам на крестины приехал свояк из города. Приехал на циклете с коляской – тещу привез. А утром один в город возвратился, вот и оставил коляску на дворе у Витеков. Комендант коляску возьмет, посадит в нее Старосту, и поспеют вовремя.
Да ворота у Витеков на замке. Все в поле, а пока Витек с поля подскочит, Старик десять раз до станции дойдет.
Надо ворота высаживать. Лучше всего позвать Шимона, Шимон поможет Коменданту ворота взломать. О, вот и Шимон!
Плохо у них как-то это дело с высаживанием ворот продвигается. Ничего удивительного, оба вчера были у Витеков на крестинах. Ну наконец-то…
Через десять минут Старик будет на станции. Коменданту со Старостой надо сильно спешить, если они хотят поспеть вовремя.
К счастью, Старик остановился по малой нужде. Да идет теперь медленнее, на палку опирается. Этой палкой Старик хочет Ядьку убить. Все-таки зна-а-ет он, что Ядька не одна вернулась.
Сын Шимона, тот, что на медицинском в городе учится, влюбился в Ядьку. Шимон пришел к Старику просить руки его дочери.
Старик помолчал и говорит:
– Плохо ты сына воспитывал, Шимон. На чужих жен он засматривался. К Старостихе Ядвиге шастал, когда ее мужа в больницу забрали. Не отдам я ему Ядьку!
Мотоцикл Коменданта увяз в песке и встал. Даже на горку не успели въехать. Теперь уже не поспеют.
Старик как раз на станцию вошел.
Надо сообщить приходскому ксёндзу. Пускай прикажет бить в колокола.
Бедой в воздухе запахло.
Ксёндз дает ключи органисту.
Органист, пыхтя, поднимается по лестнице – всю ночь ему пришлось играть на крестинах у Витеков. Сейчас ударит в колокола…
Ядька утром приехала, а уж на дворе вечер спускается. Сидит она себе в зал ожидания. Платком плечи накрыла.
Старик подходит, прихрамывая. На палку оперся.
Старик молчит, и Ядька молчит.
– Ну, Ядька! – наконец говорит Старик. – Вернулась, Ядька, и вдобавок не одна вернулась!
Ядька со скамейки поднялась, слезы у нее из глаз как горох посыпались.
Старик седые свои волосы со лба откинул и к Ядьке подошел, сверток у нее из рук забрал.
– Ну, Ядька, бери чемодан, – говорит. – Застелил я колыбельку, что твоя покойница мать на чердак вынесла. Идем, Ядька, домой!
Старик с самого начала знал, что Ядька не одна вернулась.
Свой рассказ я отнесла в редакцию журнала, которого давно уже нет. Возможно, мой выбор пал именно на этот журнал из-за его подзаголовка: «Еженедельник молодых». Я была настолько молодой и зеленой, что совершенно не знала, куда пойти и к кому обратится. Ответственный секретарь редакции взял текст, заявив при этом, что ничего не может обещать, но когда месяц спустя я снова появилась в редакции, он уже совершенно другим тоном сообщил, что со мной хочет побеседовать главный редактор. Войдя в кабинет главного, я увидела перед собой мужчину среднего роста в сером костюме. У него было вполне заурядное лицо, если выражаться моими словами – лицо первого встречного.
– Рад с вами познакомиться, – сказал он, протягивая руку, а когда я ему в ответ подала свою, мужчина задержал ее на какое-то мгновение в своей ладони.
Я была так взволнована, что чуть не потеряла сознание.
– Пожалуйста, присаживайтесь, пани Дарья. – Он указал на кресло возле журнального столика, сам сел напротив. – Чай, кофе?
– Спасибо, – с усилием выдавила я.
– Спасибо «да» или спасибо «нет»? – усмехнулся он.
– Спасибо, нет.
Ну как я могла пить чай в его присутствии? Я ведь не сумела бы и стакана в руках удержать.
– Дарья – красивое имя, редкое. У ваших родители богатая фантазия.
– Я свое имя не люблю, – поспешно ответила я.
– Почему?
– Ну… как-то так… не люблю… – пробормотала я, думая одновременно о том, что он заговаривает мне зубы, чтобы подсластить пилюлю, – забраковал мой рассказ и теперь не знает, как мне об этом сказать. Словно угадав мои мысли, он сказал:
– Ваш рассказ мне страшно понравился. До такой степени, что мне захотелось с вами познакомиться. Знаете, в чем его необычность?
Я молча помотала головой.
– Рассказ совершенен с точки зрения мастерства – кто– то как будто наблюдает за действием сверху и комментирует его. Я настоятельно советовал бы вам писать.
Повисла пауза.
– Я не думала об этом всерьез.
– Вы учитесь на филологическом факультете, чем вы намереваетесь заняться потом?
– У меня… пока еще нет каких-то конкретных планов…
Не могла же я ему признаться, что выбрала филологию
только для того, чтоб как-то самоопределиться. Мне хотелось как следует научиться говорить по-польски и наконец избавиться от акцента, который невольно становился моей визитной карточкой. Известное дело – кацапка [9]9
Унизительное прозвище русских, употребляемое украинцами, поляками, словаками, белорусами.
[Закрыть].
Если уж мой родной дядя ненавидел выходцев оттуда, что говорить о посторонних. Мне удалось. Я перестала растягивать слова, кроме тех случаев, когда сильно волновалась.
– А может, придете работать к нам в редакцию?
Если бы я тогда сказала «нет, ни в коем случае», возможно, теперь меня бы здесь не было. Потому что тем мужчиной, главным редактором еженедельника молодых, был Эдвард. Действительно, при первом взгляде он не производил впечатления – какой-то невзрачный тип, – но когда очень хотел понравиться, становился интересным мужчиной. Он покорял своей улыбкой. Лицо Эдварда неожиданно менялось, начинало светиться, как будто внутри зажигалась лампочка. Меня всегда волновали его руки – почти квадратные, с короткими узловатыми пальцами, словно сделанными из шпагата. Во время наших многочисленных ссор руки эти меня мгновенно обезоруживали, стоило лишь на них взглянуть. Они казались мне беззащитными.
В ту ночь я не сомкнула глаз, хотя мне казалось, что Агата спит. Она даже жалостно посапывала носом, как обиженный щенок. Но на этот раз я уже не могла ей сочувствовать – именно она нанесла мне смертельную обиду.
С того момента, как я оказалась за решеткой, моя натура без конца подвергалась насилию – я была оторвана оттого, что любила. Здесь не было моих книг, пластинок, без которых я не могла прожить и дня. Когда умолкал проигрыватель, это превращалось для меня в целую трагедию. Я бегала по разным мастерским и умоляла срочно его починить. Готова была заплатить любые деньги, лишь бы иметь возможность слушать свои утренние, полуденные и, наконец, вечерние концерты. Самыми любимыми моими композиторами были великие Бах, Бетховен, но чаще всего я слушала Моцарта, окунаясь в его музыку как в чистую прозрачную воду. Она не требовала таких усилий и сосредоточенности, как музыка тех двоих. Под музыку Моцарта я писала свои книги, убирала квартиру, болтала по телефону – она была фоном. А теперь я была ее лишена. У меня отняли мою личную неприкосновенность, которую я так ценила. С самого начала я боролась за собственную отдельную комнату, с самого первого дня, как только переселилась к Эдварду. Он в этом усматривал своеобразную уловку с моей стороны, желание отгородиться от него, а для меня это было просто жизненной необходимостью. Просто время от времени я нуждалась в одиночестве, может, поэтому я так легко переносила месяцы в одиночке во время предварительного заключения. Мой адвокат сказал, что постарается перевести меня в более просторную камеру, где у меня будет общество, но я умоляла его этого не делать. Я вовсе не намеревалась нанимать адвоката, считая, что мне он вообще ни к чему, а если уж это так необходимо, можно воспользоваться услугами государственного защитника. Но дядя придерживался иного мнения. Он обратился к одной знаменитости в адвокатских кругах, и тот согласился меня защищать. Наверное, дядя был прав: будь у меня адвокат послабее, может, и приговор оказался бы более суровым. Я получила девять лет, а минимальный срок наказания по моей статье был восемь.
Тогда мне было все равно – восемь, десять или пятнадцать. Я была согласна даже на смертный приговор – мир для меня рухнул, разлетелся на куски. Но сейчас, с того момента, как я попала в эту тюрьму, все стало выглядеть иначе. Теперь единственное мое желание – выйти отсюда, и поскорее.
Мы вернулись с отдыха, и наша жизнь потекла своим чередом. Эдвард писал свои статьи, я готовилась к дипломным экзаменам. После того как мы с ним поженились, из редакции я уволилась.
– Может, наконец начнешь писать? – говорил Эдвард.
– Я и так пишу – дипломную работу.
– Не выкручивайся. Ты написала шесть рассказов, допиши еще пару-тройку, и получится сборник.
– А зачем?
Эдвард только покрутил пальцем у виска.
Наше положение оставалось довольно двусмысленным. Мы жили вместе, но часть моих вещей оставалась у дяди, чтобы он не думал, что я навсегда его покинула. Когда Эдвард уезжал в командировки, я частенько ночевала у дяди, а после его возвращения снова жила с ним. То есть жила с ним в одной квартире, потому что мы не спали вместе. Я позволяла целовать себя, ласкать, но ничего большего не допускала. В последний момент мне удавалось выскользнуть, убежать. Временами наши сближения походили на борьбу. Однажды Эдвард порвал на мне одежду, был груб со мной. На коже остались синяки.
– Если ты не любишь меня, то так и скажи! – говорил он расстроенным голосом.
– Я люблю тебя.
– Тогда в чем же дело, черт возьми? Хочешь меня довести до сумасшедшего дома? Если дело так дальше пойдет, это вполне вероятно.
– Я боюсь.
– Чего ты боишься? – не понимал он. – Боишься забеременеть? Так для того, чтобы этого не случилось, существуют разные средства.
– Нет! Не знаю, чего я боюсь, – дрожа как в лихорадке, отвечала я. – Это сильней меня….
Я сидела за конторкой, на которой в деревянных ящичках стояли формуляры читателей, и разбирала их. Те, что были уже ненужными, складывала в ящик стола – я не знала, что с ними делать. Вдруг они кому-то понадобятся и их придется отдать в тюремный архив? Если какому-нибудь аспиранту взбредет в голову написать научную работу о работе библиотек в польских тюрьмах, эти старые формуляры вполне могут пригодиться для статистики.
Моя надзирательница Мышастик пришла ко мне и облокотилась на деревянный барьер со странным выражением лица – в ее взгляде читалось смущение.
– Кто написал «Вишневый сад»? Пять букв.
– Чехов.
– Была такая песенка, но я не знаю автора…
– Нет, здесь речь идет о пьесе.
– Ну вам видней, – отрезала она и вернулась в дежурку.
– Подошло! – спустя время крикнула Мышастик.
Она обратилась ко мне на «вы». Видно, назначение на эту должность повысило мою значимость в ее глазах. Прежде она обращалась ко мне на «ты» и говорила презрительным тоном. А может, просто оговорилась. Хотя все-таки нет, потому что когда она вела меня на обед, то заговорила со мной.
– Я слышала, вы – писательница? – начала она, криво усмехаясь.
– От кого?
– А… наша Иза что-то говорила насчет этого: писательница или что-то в этом роде… А что вы пишете?
– Книги…
– А какие – о любви или детективы?
– И то, и другое.
Мое объяснение ее удовлетворило – в глазах мелькнуло подобие легкого восхищения.
– А Флешерову-Мускат вы знаете?
– Не знаю. Впрочем, ее уже нет в живых.
– Нет в живых! – искренне огорчилась она. – Я любила ее читать. Теперь-то у меня глаза болят и я вообще ничего не читаю.
Мне, в свою очередь, подумалось, как все странно переплелось… Чехов уже в который раз появлялся в моей жизни, и, по крайней мере в последнее время, эти появления не оставались без последствий. А сейчас? Закончится ли все только на клеточках кроссворда?..
Бывало, бабушка уезжала к сестре в Бялысток, и мы оставались с батюшкой одни.
Тогда я не могла себе позволить бегать от него как дикая кошка. Я ходила в школу и должна была дома делать уроки, которые он старательно проверял. И так уж повелось, что если он был доволен мной, то рассказывал какую-нибудь историю. Я обожала эти вечерние часы, когда мы сидели у стола, на котором горела керосиновая лампа. В доме уже провели электричество, но по вечерам отец Феодосий зажигал керосиновую лампу. Священник говорил, что, в отличие от электрической лампочки, она обладает настоящей душой. И, прикрыв веки, начинал рассказывать. Я тоже закрывала глаза и представляла себе трех сестер, таких несчастных, тоскующих по иной, интересной жизни. Вздыхающих: «В Москву… в Москву…» Или славного дядю Ваню, влюбленного в жену брата, которая, в свою очередь, тоже была влюблена, но в другого. Ей не хватало смелости прислушаться к зову сердца… В этой истории все были друг в друга влюблены и один другого несчастней…
– Тогда зачем любить вообще? – спрашивала я. – Чтоб слезы лить? Лучше уж никого не любить и быть веселой…
– Любить необходимо, Дарья Александровна, – ласково говорил батюшка. – Жизнь без любви пуста.
Кажется, тогда я ему не поверила. А верю ли я в это сейчас?
Спустя годы, уже учась в лицее, я поняла, что батюшка пересказывал мне пьесы Чехова. Разумеется, в упрощенной форме, приспособленной к восприятию ребенка. Но в моем детском воображении сложилось свое, особое видение чеховских героев, и похоже, ни один театр в мире уже не способен был его поколебать. Когда я впервые увидела «Трех сестер» на сцене, то расплакалась…
После обеда я вернулась в библиотеку, разумеется не одна – меня отвела туда Коротышка. На месте Мышастика сидела незнакомая надзирательница. Она хмуро следила взглядом за мной, а когда я скрылась за стеллажами, чтобы хоть на минуту избавиться от ее всевидящего ока, притащилась посмотреть, что я там делаю. Я расставляла книги – оказалось, что не все они стояли по алфавиту. Так я обнаружила «Современный сонник», затерявшийся под другой буквой, и это открытие наполнило меня радостью, как будто я случайно встретила на улице старого приятеля.
Мои мысли все время вертелись вокруг Агаты. Как мне отделаться от нее? Шантаж мог бы стать действенным оружием, только надо воспользоваться им раньше, чем она опять захочет напомнить о себе. Я должна застать ее врасплох. И не медлить слишком долго. Однако я не могла вести с ней разговор при свидетелях, а отозвать ее в сторонку и поговорить с глазу на глаз – шаг небезопасный.
Вечером, когда после поверки Агата выскользнула из камеры, я переживала страшные часы. Надзирательница погасила свет, и камера погрузилась в полную темноту. Как назло, фонарь за окном не светил – видно, снова перегорела лампочка. Это погружение во мрак и так было не особенно приятно, особенно если учесть, что свет в камере в случае чего включить было невозможно – выключатель находился снаружи. Теперь же погружение в кромешную темноту казалось еще более зловещим. Нервы были напряжены до предела. Я с ужасом ожидала возвращения Агаты. Мое тело одеревенело и стало непослушным, будто его связали веревками.
Агата вернулась после полуночи. Одновременно с ее тяжелой поступью послышался скрежет ключа в замке – значит, проводив Агату, надзирательница заперла камеру. От напряжения мои руки сжались в кулаки – как будто это могло чем– то помочь. В горле пересохло, я с трудом могла проглотить слюну. А она вскарабкалась на свои нары и повернулась лицом к стене – в темноте были видны очертания ее мощной спины. И все же я боялась заснуть – до утра было еще далеко. Рассвет я встретила с облегчением. В это утро я не пошла в библиотеку, пользуясь своей привилегией оставаться в камере, когда все остальные уходили на работу. Сквозь дремоту я слышала все, что происходило снаружи: шаги в коридоре, какую-то возню, голос диктора по радио. Берушами я решила больше никогда не пользоваться. Если бы не они, быть может, в ту злосчастную ночь я бы услышала, как Агата лезет ко мне на нары. Учитывая ее вес и тесноту в камере, наверняка было бы слышно. Странно, что эта громадина выбрала себе место наверху – каждодневное лазанье туда и обратно было для нее явно делом нелегким. Может, она считала это своего рода гимнастикой? Мысленно я задавала себе вопрос: можно ли вообще воспринимать ее как женщину? Она представляла собой некий гибрид, ошибку природы, смешение полов, даже видов. Действительно, после всего, что случилось, ее с трудом можно было называть человеком. А уж по сравнению с Изой она вообще казалась чудовищем. Иза была женщиной в полном смысле этого слова, в этом у меня не было ни малейшего сомнения. Она была женщиной в большей степени, чем я, – ее женственность будила воображение. Иза была явлением, вспоминать о котором можно было часами. Ее лицо, эти необыкновенные рысьи глаза… ее улыбка…
Странно, она столько курила, а зубы у нее были белые, красивые, ровные. Интересно, как в дальнейшем сложатся наши отношения… Иза была умна, интеллигентна, правда, употребляла похабные словечки, отчего меня немного коробило. Но, с другой стороны, в этих стенах не предусматривалось ведение салонных бесед. Это показалось бы искусственным, даже смешным. Я тоже временами выражаюсь, прямо скажем, языком не слишком изысканным. Если бы кто– нибудь подслушал мои мысли, то он пришел бы в ужас. Но в этом мрачном месте все мгновенно становилось гадким.
Женщины меня восхищали, но только настоящие, осознающие свою женственность. Красивые, пахнущие духами. Обычно они же и смущали меня. Я обходила их стороной, стремясь к обществу подобных себе, обыкновенных. Кто– нибудь мог бы возразить: писательница не может считаться обыкновенной женщиной. Да, но не такая писательница, как я. Я не творила действительность, я только описывала ее, будто совсем не имела воображения. Продавала по кусочкам то, что имела на продажу, каждый раз становясь из-за этого немного беднее. Может, поэтому меня и не хватало на личную жизнь. Любое сильное чувство, которое я не отдавала бумаге, казалось мне пустой тратой материала. Мне вполне хватало чужой жизни, чужой любви, чужого материнства.
Я панически боялась забеременеть, и, к счастью, сия чаша меня миновала. Не миновала она, к сожалению, мою лучшую подругу по школе. Мы добирались с ней на занятия по нашей узкоколейке.
В школе Наталья была очень худой, но уже тогда у нее были пышные волосы, заплетенные в две толстые косы. А когда подросла, превратилась в очень красивую девушку. Я присутствовала на ее венчании в церкви – их венчал еще отец Феодосий. Это было до того, как он вышел на пенсию. Рядом с ней муж казался невзрачным, но, похоже, она его сильно любила. Однажды, где-то в конце лета, я увидела в окно своей светелки, как по дорожке сада идет крестная мать Натальи. Помню, очень удивилась, что на плечи ее был наброшен большой черный платок – и это в такую жару! А потом бабушка позвала меня вниз. Оказывается, Наталья скоропостижно скончалась. Обе женщины что-то скрывали, приводили какие-то неясные причины, и только позже я узнала, что она умерла от внематочной беременности. А тогда я пошла к ее родителям – существует такой старинный белорусский обычай: причитания над умершим. В избе с затемненными окнами, на столе, покрытом белой простыней, лежала Наталья, в изголовье горели тонкие свечи. Она выглядела спящей. Особенно тронули меня ее неподвижные босые ступни. Она всегда спешила, ходила так быстро, что я не могла порой за ней угнаться.
По углам расселись старухи, которых всегда созывали в случае чьей-либо болезни или смерти, и они слетались как стая черных, пророчащих несчастье птиц. Они сидели в черных платках, завязанных под подбородком, и черных накидках, из которых выглядывали морщинистые шеи. Их беззубые рты беспрестанно двигались, словно в молчании пережевывали вечную жвачку жизни. Наконец одна из них завела поначалу тихим голосом:
– Отлетела наша голубка, беззвучно, не загулила даже на прощанье. Такая кроткая, такая смирная…
В избе повисла тишина, которую нарушало только потрескиванье плавящегося воска, когда пламя свечки неожиданно выстреливало вверх.
– Вечный ей покой, да снизойдет на нее вечный сон, да упокой ее душу, – снова зашептала первая старуха.
– Упокой Господь ее душу, – проговорила вторая.
– Ее глазоньки, – вторила третья.
– Ее ушеньки, – вступала четвертая.
Потом снова первая:
– Чтобы серденько больше не страдало…
– Чтоб ушенькам больше не слышать, – заводила вторая.
– Чтоб глазонькам больше не плакать, – заканчивала третья.
Странное впечатление производил на меня этот заунывный плач, в нем было что-то языческое. Этот обычай, как мне показалось, не имел ничего общего с религией. Я вышла из избы, перед глазами еще долго стояли неподвижные босые ступни.
Мои разговоры с Изой были как внезапный полет в другой мир. Я могла слушать ее, любоваться ею, и это снимало внутреннее напряжение.
Вот уже несколько дней я ходила в полубессознательном состоянии от недосыпа, жила в вечном страхе оттого, что Агата может застать меня врасплох во время сна.
Мне еще не представлялась возможность предостеречь ее каким-либо способом от такой попытки. Ничто, правда, не предвещало беды, но я старалась соблюдать осторожность. Во время наших общих купаний я становилась под душ как можно дальше от нее, стараясь не оказаться в каком-нибудь слишком укромном уголке, где она могла бы меня настичь. Я боялась как-нибудь невзначай спровоцировать ее. Она, в свою очередь, делала вид, что не обращает на меня внимания. Постепенно во мне крепла надежда на то, что она просто отказалась от дальнейших поползновений или, возможно, предметом ее интереса стала какая-нибудь новенькая. Тем более, как я заметила в последнее время, она не требовала услуг от соседки с нижних нар. И все-таки наступила ночь, когда сквозь сон я услышала легкий шум и через минуту увидела лапы Агаты, цеплявшиеся за край моих нар. Сердце прыгнуло к самому горлу, в висках застучало. Нельзя ни в коем случае позволить ей забраться наверх, где справиться с ней я уже не смогу. Нельзя было терять ни минуты. Вскочив, я уперлась ногами в ее плечи и изо всех сил толкнула. Мне удалось – руки Агаты отцепились от края моих нар. Я услышала глухой стук внизу, после чего наступила тишина. Спустя некоторое время в темноте послышался короткий стон. Затем стон повторился.
– Веслава, помоги! – наконец простонала Агата.
Вероятно, она обращалась к той девице с конским хвостом.
– Веська!
Скрипнули нижние нары, заспанный голос спросил:
– Агата? Чего тебе? Что стряслось?
– Свалилась, давай помоги.
Внизу все пришло в движение, Маска тоже проснулась. Теперь они вдвоем пытались поднять Агату, которая выла от боли. Позвали надзирательницу.
– Кажется, я сломала ногу, – сказала Агата страдальческим голосом. – Встала в парашу и споткнулась.
Надзирательница привела из тюремной больницы двух санитаров с носилками. Им пришлось изрядно помучиться, прежде чем удалось взгромоздить Агату на носилки. После чего дверь с грохотом захлопнулась – здесь никого не волновало, что чужой сон может быть нарушен.
В конце концов произошло то, что должно было рано или поздно произойти. Я познала полную близость с мужчиной. Тогда мы еще не состояли в браке. Эдвард собирался в Тревир [10]10
Другое название Трира, одного из стариннейших городов Германии.
[Закрыть]на симпозиум и решил взять меня с собой.
– Полюбуешься по дороге виноградниками, – сказал он. – Да и сам Тревир – красивейший город, там много следов романской культуры….








