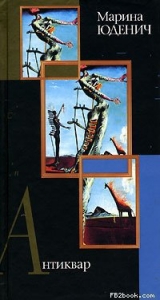
Текст книги "Антиквар"
Автор книги: Марина Юденич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Командование, впрочем, быстро смекнуло, что к чему, – отряды укрепили надежными товарищами из политотдела дивизии и губернской ЧК.
И вот уж январь на исходе.
День холодный, но яркий и безветренный, оттого и мороз не пробирал до костей – пощипывал слегка обветренную кожу, румянил щеки.
Небольшой – девять всадников – отряд ленивой рысцой миновал опушку леса.
Впереди искрилось так, что больно смотреть, заснеженное поле.
За ним, будто большие приземистые грибы, не ко времени повылезавшие из земли, жмутся запорошенные снегом избы. Тянутся к небу едва различимые в ослепительной белизне струйки дыма. Топят печи – значит, жива деревушка, скрипит, копошится потихоньку.
– Покровское… – Молодой красноармеец привстал в стременах, щурясь, прикрыл глаза ладошкой.
– А говорил – усадьба…
– Есть усадьба. Отсель не видать. За деревней, слышь, – река, за рекой – пригорок, а на нем, как положено, барский дом.
– Кому – положено? – Уполномоченному политотдела соглашательское «положено» резануло слух.
– Ясно кому – хозяину.
– Нет больше хозяев, Красавченко. Трудовой народ – ты, вот, к примеру…
– Слышь, комиссар, кончай агитацию! Здесь все идейные. Отря-я-яд, рысью!
Коренастый рыжеватый мужичок на горячем, злом жеребце редкой бронзовой масти церемониться, похоже, не привык. Но привык командовать – уверенно и зычно. И первым легко перешел на прибавленную рысь. Конь размашисто влетел на спящее поле, разбудил, растревожил, разворошил копытами нетронутый, чистый покров.
Отряд рванул следом – снег взметнулся из-под копыт, клубясь, заметался над землей. Окутал всадников плотным искрящимся облаком.
Двое отстали.
– Суров командир? – Ян Лапиньш из губернской ЧК не скрывал иронии.
– Он – прирожденный вояка. Видел бы, что творит в бою! Это золотой запас нашей армии, погоди – станет маршалом.
– У нас нет маршалов.
– Так будут. Наши, красные маршалы.
– Такие необразованные?
– Мы все учились понемногу…
– О, Пушкин! Ты-то точно учился. Кстати – где?
– А везде… И отовсюду вылетал с треском. Из гимназии отчислен за чтение запрещенной литературы, добился экстерна, получил аттестат, потом, разумеется, – университет. Вышибли – марксистские чтения, кружок, партийная работа… И начались настоящие университеты – крепость, каторга. Медвежий, скажу я тебе, угол – это Карымское, под Читой. Побег, разумеется…
– Эмиграция, революция…
– Верно. Как у всех.
– Действительно, классический путь. Из благополучных дворянских детей – в профессиональные революционеры.
– Путь действительно классический. Только не мой. Я, батенька, из крестьян.
– Но – Раковский?
– Фамилия? Так это случай, а вернее – барская блажь. Прадед мой, крепостной графа Шереметева, талантливый художник был – такой, знаешь самородок, соль земли. Тогда это модно было – крепостные театры, балеты, живописцы. Граф, однако, человек был с амбициями – доморощенный талант пользовать не желал, отправил холопа учиться в Петербург, а после – шлифовать мастерство в Италию. А фамилию велел изменить. Чтобы для господского слуха привычнее. Стал Васька Раков – Василием Раковским. Только не надолго. В Питере, как водится, подхватил чахотку, и – finita la comedia – не спасло даже итальянское солнце, умер.
– А семья?
– Прабабка домой вернулась, чуть не босая, в лохмотьях и с младенцем. Без денег, разумеется, и даже без документов – пропали в дороге. А дед мой – представь! – родился в Италии, уже после смерти прадеда.
– И стал художником?
– Нет. Однако ж к крестьянскому труду оказался непригоден. Мальчишкой помогал учителю в сельской школе, а после сам ступил на эту стезю. Выучился на подачки благотворителей. А дальше – по цепочке, как водится. Отец, матушка…
– Учительствуют?
– Представь, по сей день. И – сестра. Ну а я взял, да и нарушил традицию.
– Не жалеешь, товарищ Раковский?
– Не жалею, товарищ Лапиньш. Мы теперь всей России преподаем урок. И не чего-нибудь – новой жизни.
Отряд между тем деревню миновал, не задерживаясь, на рыси.
Лед на узкой реке был надежен, крепок, к тому же густо запорошен снегом – разгоряченные кони прошли легко, вмиг оказавшись на другом берегу.
Сразу за рекой, на пригорке открылся взглядам большой дом с колоннами. Издалека показался белым, нарядным, богатым.
Пришпорили коней. Однако спешили напрасно.
Запустение царило здесь безраздельно и, похоже, давно. Ни ворот, ни ограды не осталось в помине. Только пара щербатых, покрытых морозной плесенью столбов да ржавые куски чугунного литья наводили на мысль о торжественных воротах и нарядной кружевной ограде.
Усадьба – большой дом, издали отчего-то показавшийся белым, был, по всему, давно заброшен и разграблен. Теперь – разоренный, забытый – медленно разрушался сам.
В окнах не было стекол, а кое-где и рам. Видать, пригодились в хозяйстве рачительным покровским крестьянам. Им же, надо думать, пришлись ко двору и двери, разделявшие внутренние помещения дома.
Теперь дверей не было – и морозный ветер по-хозяйски куролесил в старых стенах, наметал сугробы в парадных залах. Резвясь, задувал закопченное чрево большого камина, с воем и хохотом кувыркался в трубе.
Давно уж истлела шелковая обивка стен – крохотные выцветшие лоскутки, чудом зацепившись за остатки карниза, трепетали на ветру, как маленькие флаги – вестники позорной капитуляции.
Запоздалой, впрочем.
Все уж свершилось.
Капитулировали. Сдались. Напрасно уповая на милость победителя.
Победители – девять всадников, примчавшихся издалека, – смотрели разочарованно. Некоторые, спешившись, отправились все же бродить по дому.
Серафим Раковский остался в седле – только отпустил поводья.
Конь неспешно шагал по заснеженному, вздыбленному паркету, последовательно обходя анфиладу залов, будто прежде только и занят был тем, что гулял в опустевших усадьбах.
– Ну, вези, если знаешь куда, – сказал Раковский и полез за махоркой.
Самое время было перекурить.
Рассеянно роясь в кармане, взглянул вниз – что-то алое припечатало в этот миг могучее конское копыто.
Показалось сначала – кусок шелка, отлетевший со стены.
Но закрались сомнения.
– Осади-ка, дружок! – Комиссар едва тронул повод, конь аккуратно отступил на полшага.
Раковский перегнулся в седле.
Шелк – не шелк.
Но кусок алой ткани, покрытой вроде каким-то рисунком или грязью, валялся на полу.
– Платок, что ли? А может, просто лоскут. Ерунда какая, – сказал себе Раковский.
Однако ж любопытно.
Спешился легко, присел, протянул руку.
– Ах ты, батюшки…
Не лоскут – кусок холста, мокрый, покрытый грязью, со свежим отпечатком конского копыта.
А все же рисунок едва различим.
Любопытствуя, поднял, подошел к большому оконному проему – там было светлее. Правда, врываясь с улицы, жалил лицо мелкий колючий снег.
Приладил холст на колене, нетерпеливо отер рукавом новенькой овчиной бекеши. Рисунок проступил явственнее.
– Надо же…
Женское лицо на портрете было юным, свежим и… совершенно живым. Печальные глаза внимательно смотрели на комиссара.
И, завороженный взглядом, он вдруг подумал: вот ведь – смотрит, будто и вправду видит. И неожиданно украдкой пригладил ладонью короткую мокрую бороду.
В ответ девица с холста улыбнулась едва заметно.
– Бред какой! Однако – живопись.
Улыбки – легкой, едва различимой – он, конечно же, не заметил сразу.
Только и всего.
Теперь, напротив, не мог отвести глаз.
Такой загадочной и манящей казалась эта улыбка.
– Определенно – живопись. Жаль, если погибнет.
«Отряд – по коням!» – зычный рык командира громыхнул в пустом доме.
Времени для раздумий не оставалось.
Комиссар Раковский аккуратно сложил холст, убрал за пазуху.
Так было надежнее.
Москва, год 2002-й
Был полдень, когда он наконец добрался до Крымского вала.
С неба беспрестанно сыпалась какая-то мерзость – то ли мокрый снег, то ли ледяной, слегка подмерзший дождь.
На мостовых растекалась грязная кашица, сваливалась в сугробы, к тому же подсыхала на ветру, образуя опасный скользкий наст.
Москва немедленно встала – то есть встал нескончаемый поток автомобилей. Но вследствие этого городская жизнь сразу же выбилась из колеи.
Все всюду опаздывали, но не было виноватых – потому раздражение срывали на ком попало.
Влажное промозглое пространство над городом осязаемо полнилось раздражением.
Непомнящий никуда особенно не спешил, но монотонное стояние в пробках изрядно потрепало и его напряженные нервы. К тому же Игорь Всеволодович волновался.
Сведущая публика, что собралась теперь на салоне, разумеется, была в курсе теперешних его неприятностей и, конечно же, со смаком их обсуждала.
Непомнящий не питал иллюзий – искренне сочувствовали единицы.
С некоторыми из них он, собственно, и встречался накануне, получив в большинстве случаев то, за чем обращался, – рекомендации, гарантии, деньги. Это были друзья или по крайней мере добрые приятели.
Прочие, по расчетам Игоря Всеволодовича, должны были встретить его настороженно. И на всякий случай соблюдать дистанцию.
Кто-то, возможно, откровенно радуется теперь – несчастья ближних, как известно, благотворно действуют на души озлобленных неудачников, завистников всех мастей и прочей мрази.
Все он знал, ко всему был готов – и все равно волновался. Чем ближе к ЦДХ – тем сильнее.
Потому особо бесило ожидание в пробках, а после – долгие поиски места для парковки. В итоге оставил машину далеко, на набережной.
Долго шел пешком, с непокрытой головой – под холодной изморозью, падавшей с неба. Вдобавок промочил ноги. Тонкие туфли на кожаной подошве для пеших прогулок по осенним московским улицам не годились по определению.
Не Париж.
Наконец – добрался.
Толпа в вестибюле неожиданно подействовала успокаивающе.
Было тесно, пробираясь к гардеробу, народ усиленно толкался локтями и по сторонам почти не глазел.
Непомнящего никто не узнал, не увидел, не окликнул. И это было очень кстати – он перевел дух и немного успокоился.
На втором этаже толпа заметно редела, разбредаясь вдоль прилавков и открытых площадок.
Здесь тоже было тесно, шумно и суетно, но несколько по-другому.
Искусно изображая досадливое, брезгливое раздражение или полнейшее безразличие к окружающим, публика в первую очередь интересовалась собойи только потом – экспонатами.
Игоря Всеволодовича заметили сразу.
– Игорек! – Невысокая полная дама, владелица известного частного ломбарда и небольшого антикварного магазина, перегнувшись через узкую витрину с драгоценностями, неестественным, театральным жестом протянула ему сразу обе руки. Игорь Всеволодович галантно поцеловал предложенное. – Ах, дорогой мой… Я все знаю. Но не могу поверить. Какое варварство! Ужас. Боже, бедный, бедный, как ты все это пережил? И теперь? Что же теперь? И – кто? Ведь это что-то из ряда вон…
Не отнимая рук, она засыпала его вопросами, не дожидаясь ответов, но смотрела сочувственно.
Поймав паузу, Игорь отговорился невнятной, невразумительной скороговоркой, но дама, похоже, и не рассчитывала на иное. Разжав руки, она тут же трагически заломила их, прижав к пышной груди. Непомнящий взглянул проникновенно и поспешил ретироваться.
Потом та же сцена была сыграна множество раз – более или менее талантливо разными исполнителями, с разной степенью темперамента, вкуса, меры, искренности – et cetera…
Игорь Всеволодович пообвык, неожиданно вошел во вкус и даже выпил чуть больше, чем следовало, благо наливали все – и, похоже, от души.
К тому же были встречи…
– Георгий! – Хорошо поставленный, низкий с хрипотцой голос был скорее мужским, но принадлежал женщине.
И – какой!
Окруженная многочисленной свитой, она величественно шествовала меж рядами, неповторимая и обворожительная в свои девяносто с лишним.
Если не все сто.
Вера Дмитриевна Шелест – легендарная питерская коллекционерша, обладательница сокровищ, сопоставимых с теми, что хранят Эрмитаж и Гохран, вместе взятые.
Мать ее была фрейлиной императрицы, дружила с двумя самыми красивыми женщинами той эпохи – великой княгиней Елизаветой Федоровной и Зинаидой Юсуповой, по слухам – почти не уступала обеим красотой и роскошью туалетов.
Верочка каталась на коньках с наследником, пела шансонетки с Феликсом Юсуповым, тайком бегала на поэтические собрания символистов (или акмеистов?), зналась с Малей Кшесинской и однажды передала от нее записку цесаревичу, сама же, собравшись с духом, написала длинное письмо Зине Гиппиус, но не получила ответа.
Все это, однако, всего лишь забавная присказка, ничуть не оригинальная к тому же, ибо таких Верочек на заре двадцатого века в Петербурге было пруд пруди.
Сказка же – история воистину потрясающая – началась в октябре 1919 года, когда оголодавшая Верочка грохнулась в обморок. Но не куда-нибудь – под колеса авто, неспешно катившего по пустой улице.
Автомобиль – вот забавная ужимка истории – недавно принадлежал Мале Кшесинской, теперь на нем рассекал комиссар революционного правительства. По тогдашним грозовым временам – почти бог.
Революционный бог над Верочкой сжалился настолько, что, подлечив и подкормив немного, женился. И сотворил второе чудо – обратив чуждый классовый элемент в боевую революционную подругу. С той поры ей везло постоянно.
Комиссара убили басмачи в тридцать четвертом. И вороново крыло тридцать седьмого вдовы героя не коснулось, повеяло только могильным холодом.
В тридцать девятом в нее влюбился героический летчик-ас – симпатяга, национальный герой. И конечно – женился, и конечно – героически погиб в сорок пятом, оставив НКВД с носом.
А она опять выступала в роли жены Цезаря.
Оставалось дотянуть совсем немного.
В пятьдесят шестом Вера Дмитриевна в третий раз вышла замуж.
Этот брак оказался долгим и, возможно, даже счастливым.
Муж был инженером-конструктором, сначала – молодым и малоизвестным, позже – известным узкому кругу лиц, и наконец, не известным никому. То есть засекреченным настолько, что знать о его существовании просто не полагалось.
Как жила все эти годы Вера Дмитриевна со своими мужьями – любила, была ли счастлива, ревновала, изменяла ли сама? – доподлинно не знал никто.
Сентиментальных воспоминаний она не терпела. О прошлом говорила скупо.
Зато – все знали – коллекции антиквариата, которую собрала Вера Дмитриевна, нет равных.
В России – точно.
В основе – Вера Дмитриевна и не скрывала – маменькины драгоценности и кое-что из домашнего собрания, укрытое некогда за широкой комиссарской спиной.
Потом – покупалось, благо деньги были всегда и понимание истинных ценностей – слава Богу – тоже.
Дарилось, менялось.
Так, собственно, и рождаются подлинные коллекции.
Годами.
По крупицам.
Однако ж фортуна – фортуной, а сама Вера Дмитриевна, хоть и обласкана была судьбой, в фарфоровую старушку превращаться не спешила, недюжинный ум и железный характер по-прежнему были при ней.
И – время пришло – пригодились.
В конце восьмидесятых засекреченный муж-конструктор благополучно почил в бозе.
Завеса тайны, долгие годы окружавшая Веру Дмитриевну, рассеялась, и почти одновременно рухнул железный занавес.
Выходила какая-то сумасшедшая, двойная свобода.
В Париже вдруг обнаружилась младшая сестра и еще целый сонм родных людей.
А молва о коллекции, разумеется, разнеслась по миру.
И начались искушения.
В итоге Вера Дмитриевна собралась уезжать во Францию.
Побродить по бульварам, поесть жареных каштанов.
Тихо умереть на руках близких, упокоиться на Сент-Женевьев, рядом с Феликсом Юсуповым и прочими, с кем прошла счастливая беззаботная юность.
Тогда и случилась неприятность, едва не обернувшаяся трагедией, – ее ограбили и чуть не убили.
Бандиты ворвались в квартиру, страшным ударом рассекли пожилой женщине голову.
И, будучи уверены, что хозяйка мертва, методично собрали и вынесли все самое ценное.
Каким-то чудом Вера Дмитриевна выжила.
Дальнейшее еще больше похоже на сказку. Не стоит, впрочем, забывать о том, что лучшие сказки, как правило, придумывают сами люди.
Словом, преступников поймали, сокровища вернули владелице. Но под гром оваций и поздравлений негромко намекнули относительно некоторых возможных и, несомненно, правильных шагов, которые Вера Дмитриевна могла бы совершить… Дабы избежать в дальнейшем…
Она не стала искушать судьбу – или сказочников? – дважды. Всенародно заявила, что считает несчастье знаком, посланным свыше, дабы удержать от скоропалительных решений.
Понимать эту мистическую сентенцию следовало таким образом, что знаменитая коллекция навсегда остается в России. И более того – дабы не вводить в соблазн ничьи алчные души, – завещается городу Санкт-Петербургу. Вся целиком – от черных юсуповских бриллиантов до скромной миниатюры неизвестного монограммиста.
А Париж?
Разумеется, Вера Дмитриевна слетала повидаться с сестрой и поесть каштанов.
Но отчего-то вернулась скоро.
И больше не ездила.
Теперь, окруженная почтительной свитой, Вера Дмитриевна громогласно звала Непомнящего, сопровождая восклицание властным жестом красивой, хрупкой руки.
Она, к слову, была из тех немногих, оставшихся в живых, кто работал со Всеволодом Серафимовичем. Игоря знала с пеленок и упорно звала Георгием – как в святцах.
Он подошел, целуя исполненную изящества, худую старческую руку, унизанную кольцами. Затылком ощутил слабое дыхание. В ответ она коснулась губами склоненной головы.
– Пойдем-ка прочь. Куда-нибудь подальше от прилипал. Ходят, коршуны, – думаешь, они меня так любят?
– Почему – нет?
– Чушь несусветная! Любят! Они глаза мои любят и нюх. Понял? Как у гончей хороших кровей. Я настоящую вещьвижу за версту, клейма не нужны, и атрибуции ваши можете засунуть в известное место. Я – вижу. Вот и таскаются следом. Да пес бы с ними! Что тебе теперь – совсем худо?
– Худо, Вера Дмитриевна.
– Денег сколько надо?
– Много.
– Понимаю, что не на мороженое. Не крути, Георгий, не просто так любопытствую, по старости.
– Три с половиной.
– Я так и прикидывала. Что собрал?
– Полтора – это с квартирой, плюс кое-что дома было. Малевича помните?
– Как не помнить. Ну?
– Ну, обещает один банкир кредит, под залог, конечно. Ищу.
– Банкир надежный?
– Десять лет работаем.
– Мог бы и без залога.
– Так сейчас не бывает, Вера Дмитриевна, дружба – дружбой, а денежки врозь.
– Не бывает… Ну так слушай меня! Эта богадельня закрывается послезавтра, и давай-ка, дружок, со мной в Питер. Подберем залог для твоего банкира…
– Вера Дмитриевна!..
– Все! Сказано – и конец. А теперь иди, мои прилипалы, вишь, истомились. Иди. И не опаздывай к поезду, Бога ради. Любите вы, молодежь, примчаться в последнюю минуту и прыгать на ходу – а я волнуюсь.
Игорь Всеволодович перевел дух.
Везение, манна небесная – ничего, по сути, не подходило.
Не те слова – замусоленные, выхолощенные от частого употребления.
Разумеется, он думал о ней, но держал, как вариант, про запас. На самый последний, черный день или даже час, когда не останется уже никакой надежды.
Старуха была с норовом, взаймы – общеизвестно – не давала никогда, никому, ни при каких обстоятельствах. Жалости, говорят, не ведала, да и сострадала нечасто – исключительно тем, кого знала сто лет.
Он еще не до конца вписался в окружающую действительность. Еще парил, окрыленный. И почти рассердился нежданной помехе – кто-то слабо, но настойчиво теребил рукав пиджака.
– Простите, вас зовут Игорь Всеволодович?
Лицо женщины показалось мимолетно знакомым. Именно мимолетно, не знакомым даже – виденнымгде-то случайно, мельком, возможно, в магазине.
Потом он вспомнил: несколько раз она попалась на глаза здесь же, в залах салона. Следила? Выискивала в толпе? Или случайно набредала в людском потоке?
Немолода, но еще не старуха. Некрасива и даже не привлекательна. Одета блекло, невыразительно и в целом непонятно во что. Серая унылая мышка.
Однако ж нечто неуловимо приметное было в лице, возможно, необычное, но – совершенно точно – неприятное.
Впрочем, в тот момент ни о чем подобном Игорь Всеволодович еще не думал – на незнакомку взглянул с раздражением. Была причина – Игорь Всеволодович не переносил прикосновений посторонних людей. Невинное похлопывание по плечу, палец, приставленный к груди, пуговица, оказавшаяся в чьих-то цепких пальцах, могли основательно вывести его из себя.
Она теребила его за рукав и не отняла руки после того, как он обернулся. Двумя пальцами Игорь Всеволодович взял тонкое запястье – сухое и очень холодное, – аккуратно отвел руку женщины в сторону.
Она наконец смутилась. Румянец, яркий, скорее, болезненный, полыхнул на бледном узком лице.
– Простите, это привычка. Так вы Непомнящий? – Она говорила глухо и отрывисто, будто все время превозмогала кашель.
Сухая, холодная кожа, лихорадочный румянец, кашель, готовый в любую минуту сорваться с бледных, тонких губ, странный надтреснутый голос…
Больна? Хорошо бы не психически.
На всякий случай он несколько смягчился.
– Непомнящий. Собственной персоной.
– Я ищу вас… Мне сказали, вы коллекционируете Крапивина…
– О нет. Боюсь, теперь я уже ничего не коллекционирую…
Игорь Всеволодович вдруг заговорил легко и слегка небрежно. Потому что понял наконец – она из тех, кто вынужден продавать последнее, потому так необычно и неприятно себя ведет. В то же время разозлился еще сильнее – потому что, не ведая того, женщина просыпала добрую щепотку соли на свежие раны. Вот же идиотизм какой! Приходится фальшивым, легкомысленным тоном объяснять каждой мымре, что не коллекционирует, дескать, больше…
Так думал Игорь Всеволодович, а говорил, как водится, что-то другое и вдруг… осекся на полуслове.
Осознал наконец услышанное.
И – не поверил ушам.
– Кого, простите, коллекционирую? – Вопрос прозвучал глупо, но это уже не имело значения.
– Мне сказали – Крапивина.
– А у вас что же – есть Крапивин?
– Да. Вы, должно быть, слышали о пропавшем портрете, «Душеньке»?
Игорь Всеволодович решил, что бредит.
Или странная женщина действительно была не в себе.
Следовало, наверное, прямо сказать ей об этом и пойти прочь.
Определенно следовало.
Однако ж он поступил иначе.
Москва, год 1937-й
Вот уж и полночь отлетела со Спасской башни.
Город спал или делал вид, что спит, чутко вслушиваясь в неровное дыхание ночи. Ждал, затаясь, шелеста шин по пустым мостовым, гулких шагов в спящем дворе, уверенной, чеканной поступи на лестнице.
Бред, конечно.
Спит себе город, уставший, натруженный, – спит спокойно и видит, наверное, сны.
В своем просторном кабинете на Лубянке Ян Лапиньш отошел от окна, хрустко потянулся сухим, жилистым телом, энергично покрутил головой.
Третья ночь без сна – вот и лезет в голову всякая чушь.
Однако ж как посмотреть.
На столе у товарища Лапиньша несколько листов машинописного текста – впрочем, какой там текст! – узкие столбцы, а в них четко пронумерованы в строгом алфавитном порядке имена, имена, имена.
Вернее, фамилии с инициалами.
Так принято.
Лапиньш взглянул в конец списка – последним значился номер шестьдесят четыре.
Стало быть, шестьдесят четыре семьи – ждут они того или нет – будут разбужены нынче ночью.
Шестьдесят четыре узника примет внутренняя лубянская тюрьма.
Шестьдесят четыре… Нет, допросить всех этой ночью вряд ли удастся – люди работают на пределе возможностей…
Ну, не сегодня – так завтра.
Главное – неотвратимость наказания. Неотвратимость и последовательность. Только так.
Шестьдесят четыре…
Эти наверняка ждут. Что ж, не стоит обманывать ожиданий…
Бланк сопроводительного письма рябил десятком росчерков – многие товарищи скрепили своей подписью решение, которое предстоит исполнить сегодня. Стало быть, верное решение, ошибка исключена. Осталась последняя подпись – его, Яна Лапиньша.
Еще раз пробежал глазами список – и нахмурился, зацепившись взглядом за чье-то имя. Поколебавшись, все же поднял массивную телефонную трубку.
Молодой человек в форме офицера госбезопасности возник на пороге через несколько секунд.
– Слушаю, товарищ комиссар государственной…
– Ладно. Сегодняшних – ты готовил?
– Так точно. С майором Коняевым.
– Коняева я отправил отоспаться. А ты относительно всех в курсе?
– Разумеется, товарищ комиссар государственной…
– Да оставь ты, заладил…
– В курсе, Ян Карлович. Кто именно вас интересует?
– Меня интересует именно комбриг Раковский.
– Есть такой.
– Вижу, что есть. Я спрашиваю, что на негоесть?
– Все.
В полумраке Лапиньшу показалось, в глазах подчиненного мелькнула усмешка. В общем, понятная – группе военачальников, привлекаемых теперь к ответственности, инкриминировались одни и те же преступления.
Лаконичное «все», таким образом, означало, что Раковский оказался замешан всюду.
Как, впрочем, большинство.
Все так.
Однако не повод для ухмылок – высшее руководство РККА, едва ли не в полном составе, – предатели!
Умные, опасные, коварно затаившиеся враги.
Теперь не до смеха.
– Извольте доложить по форме.
– Следствие располагает неопровержимыми доказательствами активного участия комбрига Раковского в организации и деятельности разветвленной военно-троцкистской организации, возглавляемой бывшим маршалом Тухачевским. Кстати, Ян Карлович, Раковский состоит с Тухачевским в близких дружеских отношениях. Служил под его началом в 1920-м, еще на Южном фронте. С той поры практически неразлучны. Академия РККА, Генштаб и, наконец, Поволжский округ.
– Их что же, на пару сослали?
– Относительно Раковского такого решения не было.
– Выходит, он самовольно покинул место службы и зайцем рванул за Тухачевским?
– Никак нет. Написал рапорт с просьбой перевести для дальнейшего прохождения службы…
– Ясно. А почему сейчас в Москве?
– Десятого мая прибыл, сопровождая маршала, то есть бывшего маршала… Ну и семья у него здесь. Не успел перевести.
– Значит, неопровержимые доказательства?
– Так точно. Получены признательные показания большого круга лиц, имевших непосредственные контакты…
– Что ж, жаль… Начинал хорошо – мальчишкой ушел в революцию. В гражданскую воевал достойно.
– Происхождение, Ян Карлович, что ни говори, все же дает себя знать. Сколько бы лет ни прошло.
– Да? И кто же Раковский по происхождению?
– Насколько я помню, из дворян. Но можно уточнить в деле…
– Не нужно. В отличие от вас я совершенно точно знаю, что дед Раковского был крепостным художником, родители – сельские учителя. Происхождение, таким образом, самое что ни на есть правильное – крестьянское. Однако вины его это ни в коей мере не умаляет.
– Виноват, Ян Карлович. Ориентировался по фамилии. Выходит – ошибся.
– Я, представьте себе, тоже. Однажды, в девятнадцатом году… Мы тогда добивали корниловцев на Орловщине. Фамилии – вообще штука сложная. И порой обманчивая. Не находите?
– Честно говоря, не задумывался.
– Напрасно. Наша профессия побуждает размышлять на самые разные темы. Ну вот… – Лапиньш поставил на листе размашистую подпись. – Ступайте. Работы сегодня много… Полагаю, до утра.
Утро наступило уже через несколько часов. Вернее, обозначилось, проступило густой синью, разбавляя антрацитовый сумрак небес. Еще горели фонари. И первые трамваи только собирались выползти из депо.
Он велел шоферу остановить подальше от арки, нырнув в которую сразу оказался в родном дворе.
Ночью шел дождь – мокрая сирень пахла легким, мимолетным счастьем.
В другое время он наверняка не удержался бы – наломал охапку влажных душистых веток. Аккуратно пристроил бы букет возле Нинкиной подушки.
И все равно, как ни старался бы, разбудил жену.
Она чуткая, Нинка, и тревожная, как маленький пугливый зверек, – просыпается сразу от малейшего шороха. Замирает, с ужасом вглядывается в темноту огромными глазищами. И моргает часто – шелестят чуть слышно ресницы.
Сегодня не до сирени.
Прав был Лапиньш, ночка выдалась напряженная – варфоломеевская, пошутил кто-то из ребят.
Воистину так.
А спроси его: у кого были этой ночью?
Что толком происходило в тех домах, куда входили аккуратно, без лишнего шума?
Да и кому, собственно, шуметь, если ясно как день: пришли – значит, заберут. Забрали – значит, за дело. Невинных не забирают.
Так вот, спроси его кто: кого, собственно, брали этой ночью? – не ответит.
Промелькнула ночь, и не осталось в памяти ничего, только саднит невыносимо одна-единственная мысль, большим ржавым гвоздем застрявшая в мозгу, а еще – страх.
Даже ужас.
С тем и шел теперь домой.
Куда ж тут сирень?
* * *
Жена – теплая, румяная со сна, тонкие волосы цвета спелой ржи путаются, падают на лицо, хоть и заплетает Нинка на ночь в косу. Да разве ж такая копна удержится в косе?
Едва набросила на сорочку старенький платок – выскочила на кухню, в глазах тревога.
– Ты что куришь, Коля, не ешь? Говори – что?
– Может, еще ничего – пока.
– Может? – Лицо у нее сразу помертвело, осунулось, словно и не было только что нежного, во всю щеку румянца. – Николай, говори толком. Это невозможно, в конце концов.
– Погоди ты! Нечего еще говорить толком. Может, и вообще нечего. Был у Лапиньша. Обычное дело – ночные списки подписывал. И что-то… А, зацепился он за одного комбрига, оказалось – воевали в гражданскую. Не в комбриге, короче, дело, но фамилия его – Раковский. Я докладываю по форме, к тому же, говорю, происхождение явно чуждое дало себя знать. А он: какое происхождение? И смотрит так, знаешь… Внимательно смотрит. Комбриг, между прочим, крестьянских кровей оказался. А Лапиньш вдруг закусил удила. Фамилии, говорит, штука сложная. Не замечали? Нет, говорю, не задумывался. А он: напрасно, наша профессия обязывает над такими вещами задумываться. Все. Бумаги подписал. Вроде и не говорили ни о чем.
– Все. Ты прав, Коленька, это все. Лапиньш! Такие люди просто такничего не говорят. Конечно же, он знает. Но давал тебе шанс… самому… Теперь все, конец! – Она тяжело упала головой на стол, зарыдала в голос. – Ой, Коленька, погубила я тебя! Пригрел, милый, змею на груди. Господи праведный, за что мне все это? За какие грехи? На свою беду ты, Коленька, меня спас… Зарубили бы вместе с мамочкой и сестрами – и лежала бы теперь там, в степи. А ты горя бы не знал.
– Хватит, Нин! Спас – значит, судьба такая. Что теперь голосить? И вины за собой не признаю – хоть перед Лапиньшем, хоть перед самим товарищем Сталиным. Спас! А кто не спас бы? Как вспомню… В чистом поле – поезд, вагоны – нараспашку, половина – горят. Банда свое взяла – и в степь. Выходит, опоздали мы – и вроде как виноватые. Вокруг люди порубанные – кто насмерть, кто жив. Стон, неразбериха. И – ты… Девчоночка… Сорочка тоненькая, вся в крови. Глаза открыла – смотришь. Как не спасти! Я ж не знал, что ты княжеского рода.
– А знал бы, так не спас? – Она затихла, пока он говорил, и теперь медленно подняла от стола распухшее от слез лицо.
– А ты не знаешь? Да и какая из тебя, к черту, княгиня, Нинка? Сколько годков ты этой княжеской жизнью жила?
– Ну, сколько… – Втягиваясь в беседу, она понемногу приходила в себя. Задумалась, наморщила лоб, прикидывая что-то в уме. – Я – седьмого года. Значит, в семнадцатом – ровно десять. Я, кстати, помню последний день рождения в Покровском. В июле. А в декабре крестьяне пришли нас жечь, и мамочка сама вынесла им ключи. И началась бесконечная кочевая жизнь, страх, безденежье – и постоянный, до полного отупения, поиск ночлега, еды, одежды… Мы все время куда-то переезжали. Знаешь, что-то такое страшное однажды просто должно было случиться. Не этот поезд – так следующий… – Она снова заплакала. Но иначе – тихо и как-то обреченно.








