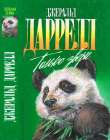Текст книги "Косматая на тропе любви"
Автор книги: Марианна Бенлаид
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
19
Я открываю глаза. Мне так тяжело, я задыхаюсь. Когда не хватает воздуха для свободного дыхания – это самое страшное.
Я сдавлен и сверху и снизу. Я не могу верно почувствовать, что сталось с моим телом, живо ли оно еще, цело ли. Но нет, я не душа, нет. Я все еще единство земное тела и души.
Я пытаюсь пошевелиться. Нет, не получается. Что с моим телом? Что с моими ногами и руками? Я не мертв, я еще жив. Но неужели я так искалечен, что уже никогда не смогу двигаться?
Но о каком «никогда» я могу говорить! Это самое «никогда» совсем скоро наступит на меня. Я пытаюсь вздохнуть, пытаюсь дышать, но воздуха нет. Я умру? Я умираю?
О, какой тоскливый страшный ужас!
Я не думаю ни о ком, у меня сейчас нет ни братьев, ни сестер, ни отца, ни матери. Нас только двое – я и смерть. И мы боремся друг с другом. Мы должны бороться.
Я делаю отчаянные усилия.
Вверх. Но нет. Глухо и плотно сверху прикрывает меня, навалилось. Вниз? Невозможно.
Мой разум не угас и напряженно ищет путь к спасению.
Ползком. Ползти. Но удастся ли мне?
Головой вперед начинаю двигаться, словно подземный жук. Вот уже двигаю локтями. Вот уже ноги помогают. Я ползу.
Как мне трудно! Но все же это в тысячу раз лучше неподвижного ожидания неминуемой смерти!
20
Голова моя проталкивается наружу. Я и вправду чувствую себя насекомым, тяжелым и неуклюжим.
Я уже понимаю, что я лежал под рухнувшей палаткой. Сейчас я выползаю из-под нее. А что было? Песчаный вихрь. Какой же тучей песка я был придавлен? Как я нахожу силы? Я сам себе изумляюсь.
И вот я знаю, что уже лежу на свободе. Уже дышу свободно. Но воздух горячий. Значит, день? Или это после ночного вихря песчаного такое жаркое утро? Вижу песок и небо. Даже и нельзя сказать, что я вижу песок и небо. Нет, вернее было бы сказать, что я их ощущаю взглядом.
Теперь я вне опасности. И силы снова оставляют меня. Песок мне кажется мягким. Глаза мои закрываются. Давящая усталость сковывает меня забытьем.
21
Когда я снова открываю глаза, я уже в состоянии все понять, все осознать.
Повсюду грудами изгибается с какой-то спокойной плавностью песок. Небо кажется совсем неподвижным.
Тишина.
Сгибаю руки и пытаюсь приподняться на локтях. Сначала очень больно, голова кружится. Пережидаю. Наконец поднимаюсь.
Вокруг нет ничего, кроме неба недвижного и этого плавного песка.
Встаю. Пошатываюсь. Поворачиваюсь. В песке – осыпающийся лаз. Песок. Один лишь песок. Но как у меня хватило сил выбраться?
Вдруг новый приступ ужаса. Неужели песком засыпано все? Может быть, даже все на свете, И что делать мне, единственному уцелевшему, среди песка? Среди песка под небом.
Здесь, под этой толщей песка погребены циновки с едой и палатка. И черные рабы моего брата мертвы под этими грудами песчаными.
Наконец-то я вспомнил, подумав о рабах, о людях, наконец-то я вспомнил о братьях и сестрах. Где они? Бежали? Спаслись? Где отец и мать?
22
И вдруг на моих глазах медленный тихий и низко струящийся ветер принимается отвеивать песок. Медленно, тихо, даже словно бы бережно. Легкое-легкое шуршание осыпающегося песка.
Я смотрю, как зачарованный.
Тихо длятся это странное шуршание, это осыпание, эта тихая работа ветра.
Мне начинает казаться, что все это производит кто-то, наделенный всеми чувствами и мыслями, подобными человеческим. Но он – не человек. Его чувства и мысли бестелесны в пространстве. Сейчас он тихо отвеивает песок.
Но кто он?
Неужели Бог? Ягве?
Нет, нет, этого не может быть. Я почему-то знаю, что Бог не стал бы ничего такого делать. Почему не стал бы? Да, почему?
Пытаюсь сам себе ответить. Песок осыпается с таким тихим шуршанием.
Бог. Бог не стал бы делать такую простую работу. Что еще? Этот кто-то, отвеивающий песок, он странный какой-то. Он знает, что сделал страшное; кажется, он хочет увидеть мое отчаяние, услышать мои вопли тоски и печали по умершим. Но он не зол. Это странно, но он не зол. В нем много какого-то живого и тихого любопытства, и он странный.
Бог не возьмется за такую простую работу, как отвеивание песка. Но Бог прост. Бог милует или карает. А этот, отвеивающий песок, он непонятный. Зачем он? Чего хочет? Мне кажется, с ним можно говорить и даже спорить можно с ним.
Я не чувствую страха. Мне вдруг передается это тихое любопытство. Вот сейчас не будет этих груд песка. Что я увижу? Цела ли посуда? Как будут выглядеть тела погибших рабов?
Вдруг я осознаю, что мысли мои – это дурно. Как я могу спокойно любопытствовать, глядя на погибших людей? Нет, это не мое любопытство. Я не таков. Это любопытство того, кто отвеивает песок, передалось мне.
Вот они, тела мертвых рабов. Скорченные предсмертным ужасом, скрюченные тела. Широко раскрытые красногубые рты, эти рты словно бы навеки застыли в гримасе последнего мучительного и бесполезного вдоха. Я вдруг с ужасом чувствую, что начинаю находить в этом страшном зрелище что-то смешное. Умершие смешны. Смешны гримасы их лиц, смешны застывшие корчи их тел.
Я тихо смеюсь.
Но почему я смеюсь? Ведь я знаю, что это жестоко и очень дурно – смеяться над умершими, над погибшими так страшно, даже если они рабы.
Но какие-то странные мысли одолевают меня. Эти мысли разлиты в воздухе, они заполнили пространство. А почему мне нельзя смеяться, думаю я. Почему я должен заставлять себя печалиться, когда мне хочется смеяться? Почему?
Проклятые мысли развиваются, не останавливаясь.
Должно быть, и мои братья и сестры, и все другие юноши и девушки мертвы. Я должен пойти и увидеть их мертвые тела. Это будет очень смешно. Мне самому не грозит уже больше никакая опасность. Я должен пойти и увидеть.
Но ведь я не должен так думать! Человек не должен так думать.
И новые мысли: а почему не должен? Кто запретил? Но ведь я знаю, кто запретил. Бог! Но почему я должен следовать каким бы то ни было запретам? Почему я не должен делать то, что мне хочется делать?
Никогда у меня не было таких мыслей. Они влекут и пугают. Еще немного и они запутают меня в свои ловушки, и мой страх окончательно покинет меня.
Но нет, этого нельзя, нельзя.
«Почему? А почему нельзя?» – коварно впивается в мозг.
– Нельзя, потому что нельзя!
О, я, кажется, отвечаю вслух. Кому?
– Нельзя, потому что нельзя! – повторяю громко, почти выкрикиваю. – В жизни человеческой должны быть такие «нельзя»; должны быть запреты, которые нельзя нарушать!
«Но почему? Почему нельзя?» – бьется в мозгу назойливой мухой.
Решительно отворачиваюсь от страшного зрелища трупов. Палатка разворочена, все умерло. Еще недавно все было живо.
Нет, я ни о чем не буду думать. Я найду братьев и сестер. Я хочу, хочу, чтобы они спаслись.
Но эти проклятые мысли!
А разве я хочу спасения братьев и сестер? Нет, нет, нет! Мне хочется увидеть их мертвыми и смеяться над мертвыми гримасами их лиц, над мертвыми застывшими корчами их тел. Мне интересно будет смотреть на все это. Я только заставляю себя испытывать чувства жалости, печали, боли. На самом деле ничего этого нет. Одни лишь любопытство и странный интерес, желание увидеть, увидеть.
Я не могу больше! Я должен идти. Я знаю, что когда идешь решительно вперед, все мысли отступают перед силой и уверенностью твоих движений.
23
Я вижу много юных тел, иные из них совсем обнажены. Тела юношей и девушек брошены песчаным страшным вихрем друг на друга, полуприкрыты смятыми тканями, забросаны украшениями. Сердце мое дрогнуло от боли и жалости. Еще недавно все они были живыми. Среди них – мои любимые братья и сестры. О, только бы не видеть их!
Странное снова начало одолевать меня. Появилась у меня странная зоркость взгляда. И странно спокойно, с интересом зорким я подмечал особенности разные лежавших тел, как откинута рука, как разметались волосы, какая странная пристальность в этих закрытых глазах.
Но за что? За что? Нет, я не спрашивал, за что они так страшно наказаны смертью. Меня мучило то, что наказан я. За что я обречен на все эти странные, холодные и нечеловеческие мысли и чувства? Как я хочу испытывать боль и жалость и печаль.
Или то, что я сейчас назвал нечеловеческим, на самом деле и есть самое человеческое; а все другое – притворство?
Нет, нет, нет, это не мои мысли? За что? За что?!
Пусть Бог пощадит меня, пусть даст мне снова изведать жалость, пусть наполнит мои глаза слезами горя!
24
Взметнулся легко песчаный столб, закрутился. Это было неожиданно, и эта неожиданность заставила меня вглядеться.
Остановившимся взглядом я глядел.
Я помнил сейчас, как отец увидел лицо Шатана в лице вихря песчаного.
Прямо и вверх и закручиваясь, взметнулся песок, и словно бы скрывал или приоткрывал очертания странного тела; человеческого тела, покрытого шерстью.
И вот и я увидел лицо.
Я понял тогда, что если смотришь на другого человека, это вовсе не значит, что видишь подобного себе. Нет, в другом человеке видишь себя. Он – ты, он устроен так же, как ты. Он вовсе не подобен тебе, он – ты. А различия между вами? О, это как два страусовых яйца, по-разному раскрашенных кисточкой из верблюжьих шерстинок, обмакнутой в разные краски.
Для того, чтобы увидеть лицо, подобное твоему лицу; нечто, подобное тебе; надо взглянуть в лицо демона. Ибо демон подобен человеку. И потому страшно глядеть в лицо демона. Страшно видеть выражение этого лица, эти черты; все такое человеческое и такое нечеловеческое.
Это широкое, обросшее шерстью лицо было подвижным. Черты его были, казались более изменчивыми, нежели человеческие черты. Лицо это смеялось, оно было веселым, и это веселье было подобием человеческого веселья, и потому веселье это было ужасно. Глаза этого лица были глазами дикими, но они были подобны глазам человека. И потому они были ужасными, эти глаза.
Я не полагал, что мой ужас может еще увеличиться, но случилось так.
Я не мог оторваться от этого лица. И вдруг я понял, чье это лицо.
Этот задор, эта живость черт, этот веселый вызов. И эти длинные шелковистые волосы, чуть рыжеватые. О, это подобие! Как оно ужасно.
Изумление мое было полно ужаса, но (и это странно) было веселым.
Шатан – женщина. Нет, Шатан – девушка.
25
Отец и мать сидели на песке у палатки своей. Одежда их была разорвана в знак траура. Погибли мои братья и сестры. Из всех я один остался в живых. Песчаный вихрь погубил овец, коз и верблюдов моего отца, погибли почти все рабы его.
Но почему-то палатка отца и матери оказалась нетронутой. Я подумал, что прежде я не задал бы себе этого вопроса, этого «почему». А теперь в моем рассудке появилось что-то странное; я словно бы отстраняюсь от предмета или явления и зорко вглядываюсь. Ничто бескорыстное не свойственно мне. Я не знаю ни жалости, ни любви.
Но почему уцелели отец и мать? Почему уцелел я?
– Нагим я вышел из чрева матери своей, – тихо говорил отец, – и нагим я возвращаюсь туда. Господь наделил меня и Господь берет назад. И да будет благословенно имя Господа!
Мать сидела на песке и молчала. Вдруг она охватила ладонями виски, закачалась взад и вперед. И снова замерла, бросив руки на колени; ничего не говорила.
Я сел на песок, чуть подальше от отца и матери. Я не мог сидеть рядом с ними, потому что мой зоркий и отстранившийся от них рассудок не давал мне утешить их. Я смотрел на их чувства иначе, нежели смотрели на свои чувства они сами.
26
Я сидел на песке и видел то, что окружало меня. Но внезапно начало проясняться перед глазами и я увидел совсем другое.
Была огромная, бескрайняя равнина. Причудливой формы песчаные скалы высились на ней, отдаленные друг от друга. И вдруг она явилась на песке. Она не прилетела и не возникла из песка. Неясно было, как и откуда она появилась, но она была.
Она была огромная, высокая, вся покрытая шерстью негустой. Ее прямые шелковистые рыжеватые волосы длинные легко вздымал легкий ветер. Она была подобна человеческой девушке и потому была страшна. Но шла она так легко и свободно, и движения ее в этой легкости и свободе были красивы. Я не видел ее лица. Я подумал внезапно, что это не она подобна дочери человека, а дочери человека подобны ей. Это мы, люди, смешны и ужасны, потому что всего лишь подобны ей; а она прекрасна.
Бескрайность внезапно наполнилась странным бесконечным и непонятным смыслом. Этот смысл был непонятен именно потому что был бесконечен. А люди хотели приблизить этот смысл к себе, невольно они хотели придать ему начало и конец. И в этом своем стремлении они невольно же представляли его себе мелочным, корыстным, жестоким и своевольным. Он для них был всего лишь их, человеческим подобием, но был в их сознании наделен силой вдруг что-то им дать или отнять.
Мы полагаем, что все подобно человеку, а человек подобен высшей силе. Так мы полагаем. Но на вопрос, правы ли мы, на этот вопрос, наверное, никто не ответит.
Странный, непонятный и бесконечный смысл заполнил бескрайность. И я, человек, ощутил напряженное желание понять, осмыслить для себя этот смысл. И тотчас я понял, что все мои попытки осмысления сведутся к тому, что я буду воображать этот бесконечный смысл подобным мне, подобным человеку. И я осознал, что это понимание насмешливое подала мне она. Но я не знал, радоваться или печалиться, благодарить или проклинать ее.
Она стояла спиной ко мне и была красива, нагая. Я видел, как она склонила голову и представлял себе, как она девичьим жестом прижимает книзу скрещенные пальцы рук. Она говорила с этим бесконечным и непонятным смыслом. Если это можно было назвать словом «говорить». Я сам не понимаю, но каким-то образом она вовлекала этот смысл в некое подобие диалога. Она возбуждала какие-то нити в этой бесконечности.
Она вся была – сомнение, любопытство и странность и занятность мысли. В сущности, ее мысль заключалась в том, что отец мой покорен бескрайнему смыслу, потому что не мучим этим бескрайним смыслом. И бескрайний смысл испытал от этой ее мысли какое-то раздражение, словно большой верблюд от укола маленькой булавки. И это раздражение вызвало действия. И эти действия были – песчаный вихрь. Но теперь мне казалось, что она ни в чем не виновна, потому что это она подала мне сейчас новую странную мысль. И эта мысль была доброй и я, добрый, нравился самому себе. Итак, целью было – испытание, мучение моего отца. Но разве моя мать, мои братья и сестры, и даже все рабы, разве они не были людьми? Разве каждый из них не был достоин своей отдельной судьбы? Зачем же им была отведена эта унизительная роль игральных костяшек в судьбе моего отца? И что означает испытание? Если этот бескрайний смысл и есть Бог, и если он уверится странным образом в покорности моего отца; в том, что мой отец покорно примет все, что произойдет, и не почувствует ни малейшего желания что-либо изменить; если этот бескрайний смысл уверится и вернет моему отцу отнятое… Но разве мой отец забудет пережитое? А если волею бескрайнего смысла забудет, тогда зачем испытание? И что означает это: «вернуть отнятое»? Воскреснут мои братья и сестры? Но опять же, за что было мучить их? Родятся у моего отца другие дети? Но как мучительно будет жить, помня о прежнем…
Но она… Нет, она ни в чем не виновата. Скорее я готов был обвинить бескрайний смысл. Я готов был упрекнуть его в несправедливости и жестокости. Но ведь он не человек, он не может быть справедливым или несправедливым, жестоким или добрым. И эта моя мысль о нем – это тоже была ее мысль.
27
И тут я снова увидел песок, палатку, отца и мать. И мне показалось, что закрылось мое истинное зрение и снова опущено на мои глаза ложное зрение; и все, что окружало меня, такое плотное и действительное, показалось мне мнимостью.
Приехали на верблюдах друзья и союзники отца, Билдад и Цофар. Они спешились и сели рядом с ним в знак утешения.
– Лучше проклясть его, лучше проклясть и умереть, – повторяла мать.
И все поняли, что она говорит о Боге.
– Нет, не говори так, молчи! – сказал отец. И заговорил сам.
Он говорил долго и отчаянно.
Он спрашивал горестно, за что карает его этот бескрайний непонятный смысл, этот Бог. И если сам создал человека, то за что карает, почему не хочет рассказать, объяснить, за что. Ведь отец был покорен и ни о чем не спрашивал прежде, и ни в чем не сомневался прежде, так за что же, за что… И что это означает: создать свое создание, чтобы мучить его? И за что, за что, за что?! Зачем?
Но я уже знаю, что напрасно он обращается к бесконечному и непонятному, напрасно спрашивает. Я знаю, потому что она мне сказала. Она не такая, как этот странный смысл; она близка мне, человеку. Я хочу говорить с ней, хочу спрашивать ее; и я теперь знаю, она ответит мне, ответит мыслями своими, словно бы вложенными в мой мозг, в мое сознание. И напрасно зовут ее «Шатан» – «противник человека», «наветник Богу на человека». Те, кто хотят покорности, они не понимают ее. Они и других людей хотят заставить быть покорными им, потому что вообразили, будто поняли бесконечный и непонятный смысл. Но я хочу уйти от всего этого. Я хочу найти ее так, чтобы говорить с ней.
28
Друзья моего отца привели с собой своих слуг и рабов. Из веток алоэ сложены костры, в больших котлах кипит вода. Трупы обмывают и натирают жиром, благовониями и розовой водой, привезенной из далеких земель, где есть города. Мертвых одевают в белую одежду и заворачивают в покрывала. На носилках несут тела. И следом идут рабыни-плакальщицы, принадлежащие друзьям моего отца. Плакальщицы громко кричат. На кладбище вырыты ямы. В эти ямы укладывают умерших. Могильщики засыпают ямы густым песком. После поставят над ямами маленькие пирамиды из необожженного кирпича.
Для плакальщиц и могильщиков устроена трапеза прямо на кладбище.
Я стою перед отцом и матерью. Они по-прежнему сидят на песке. Одежда их разорвана траурно. Я стою, не наклоняя головы. Я знаю, что я уцелел, потому что она хотела этого. Я нужен ей, ей нравится говорить со мной. Я не придумал это, как отец придумывает о бесконечном непонятном смысле, делая его в своем воображении подобным человеку. Я ничего не придумал о ней; она такая и есть, близкая мне, человеку.
– Я ухожу, – говорю я отцу, – я ухожу, потому что я тоже спрашиваю и хочу найти ответ.
Отец сидит, подняв колени под грязной, запорошенной песком одеждой, подперев щеку ладонью. Лицо его страшно осунулось, глаза сделались совсем большими и смотрят отчаянно и словно бы углубившись в себя; взгляд, обращенный вовнутрь; глаза, которые смотрят вовнутрь себя.
Отец молчит.
Мать сидит рядом с ним, она тоже в грязной одежде, ворот ее платья разорван. Ее сильное материнское тело теперь кажется тучным и обвисшим уродливо. Она поднимает голову, голова непокрыта и волосы обрезаны в знак траура. Мать устало смотрит на меня.
– Иди и возвращайся, – словно бы хрипло выдыхает она.
И друзья отца, их слуги, рабы и рабыни, и еще люди, все смотрят на меня. Как будто знают, зачем я иду, и отпускают меня. Все молчат.
Я не вхожу в палатку и ничего не беру с собой, ни фиников сушеных, ни меха с водой, ни копья, ни кинжала. Я не оседлаю верблюда, потому что пойду пеший. Я снимаю с себя покрывало с продольными темными полосами и кладу его на песок. Я снимаю с себя набедренную повязку, потому что я пойду нагой; таким пойду, каким вышел из чрева матери.
Я пойду через места пустыни, где никто из людей не будет видеть меня. Я пойду через места пустыни, еще незаселенные людьми или уже покинутые ими. Там я найду ее так, чтобы говорить с ней.
29
Я шел спокойно и неспешно. Я не думал о голоде и жажде, потому что я знал, она накормит меня. Я не думал о защите от разбойников и диких зверей, потому что я знал, она защитит меня. Я оглянулся и увидел позади себя песок и небо. Палатка отца и матери уже была далеко.
Все еще длился день. И животные пустыни еще не вышли. Только изредка замечал я больших ящериц, которые безмолвно лежали на солнце, вытянувшись на песке холмов. Длинная толстая темная и чуть посверкивающая змея выскользнула из песчаности и вдруг, резко скользнув ко мне, обвилась вокруг моей правой ноги. Если бы такое случилось прежде, я бы, наверное, испугался и закричал. Но теперь я молчал и был спокоен. Я чувствовал, как прохладное, гладко мускулистое, длинное тело движется вверх, поднимаясь извилисто по моим мышцам, вверх, к моему лицу. Я стоял спокойно. Прежде я боялся бы змею, потому что я бы почувствовал, что она не наделена человеческим сознанием, подобным моему сознанию, не наделена человеческими чувствами. Но теперь мне казалось, что все это человеческое есть в ней, и потому она поймет меня. И я знал, что она не враждебна мне. Я подумал, что только человек может быть человечески враждебен человеку. Животные, птицы, насекомые; вихрь, вздымающий песок пустыни, если они и причиняют зло человеку, то не потому что осознанно желают причинить ему зло.
Но змея поднималась к моему лицу, извиваясь по обнаженному моему телу, так, будто хотела с любопытством посмотреть близко на мое лицо. Это было странно и немного смешно. Но я знал, что это не она, превратившаяся в змею, это и вправду всего лишь змея. Змея оставалась всего лишь змеей, это я теперь чувствовал иначе.
Змея обвилась вокруг моей шеи. Она не душила меня и я не боялся. Она изогнулась как-то сверху, чуть откинула голову маленькую и, чуть покачивая в воздухе головой взад и вперед, смотрела на меня маленькими поблескивающими и любопытствующими глазами.
Я не стал обращаться к ней с человеческими словами. Я был к ней дружественно настроен и знал, что она это почувствует. Мои чувства могли просто дойти до нее каким-то непонятным образом. То есть мне было непонятно, как это делается, но это делалось.
Змея высунула жало, тонкий раздвоенный язык, и это было красиво. Она как-то странно прохладно и легко коснулась жалом моих губ, с каким-то сильно заботливым и ласковым выражением маленьких глаз и головы, как бездетная женщина гладит по головке чужого ребенка. И тотчас легко, прохладно соскользнула вниз и скрылась в песке.