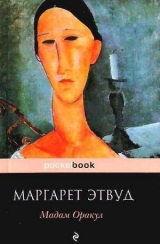
Текст книги "Мадам Оракул"
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
7
Один из кошмаров, которые мне снились про мою мать, такой: я иду по мосту, а она стоит на другом конце, в круге солнечного света, и разговаривает с мужчиной, чьего лица я не вижу. Я дохожу до середины, и вдруг мост начинает проваливаться – я всегда боялась, что это случится. Гнилые доски гнутся, ломаются, мост кренится, начинает медленно падать в пропасть… Я бросаюсь бежать – поздно; падаю на живот, хватаюсь за верхний край моста, но он встает вертикально, я вот-вот соскользну вниз… Кричу, зову мать, она еще может меня спасти, еще успеет подбежать, дотянуться, вытащить меня… Но она продолжает беседовать, решительно ничего не замечая; она даже не слышит моих криков.
В другом сне я сижу в уголке ее спальни и смотрю, как она красится. В раннем моем детстве так бывало нередко: и я, и мать считали разрешение присутствовать наградой, привилегией, а запрет – наказанием. Она знала, что меня чарует ее косметика: губная помада, румяна, изящные флакончики, которые я мечтала заполучить, когда кончатся духи, ярко-красный лак (иногда, в виде исключительного подарка, мне чуточку мазали ногти на ногах, но никогда на руках: «Ты еще слишком мала»), маникюрные щипчики и пилочки. Трогать все это категорически запрещалось. И разумеется, когда матери не было дома, я нарушала запрет; но на туалетном столике и в ящиках комода парил настолько строгий порядок, что приходилось соблюдать величайшую осторожность и ставить вещи точно туда, откуда я их взяла. То, что находится не на месте, мать видела зорко, будто сокол. Позднее любовь к косметике переродилась в привычку рыться во всех ее ящиках и шкафах – я досконально изучила, что где лежит; и, в конце концов, делала это уже не из любопытства – я давно все знала, – но ради риска. Поймали меня только дважды, в самом начале. Первый раз я съела помаду (даже тогда, в четыре года, мне хватило сообразительности закрыть тюбик, убрать его в ящик на место и тщательно вымыть рот; как только она догадалась, что это я?), а во второй – не удержалась и выкрасила лицо тенями для глаз: очень хотелось посмотреть на себя синюю. В результате меня на много недель изгнали из рая. А однажды я чуть не выдала себя и свою игру – когда нашла убранную подальше коробочку со странным предметом, похожим на резиновую раковину моллюска. Я умирала от любопытства и сгорала от желания спросить у матери, что это такое, но все-таки не осмелилась.
– Сиди тихо, Джоан, смотри, как мама красится, – говорилось мне в хорошие дни. Мать закрывала шею и грудь полотенцем и начинала колдовать. Иногда я видела, что ей больно; например, когда она наносила на кожу между бровями что-то вроде коричневого клея, предварительно разогретого в маленьком горшочке, а спустя какое-то время резко срывала – и на переносице оставалось красное пятно. В другие дни на лицо наносилась розовая глина, которая постепенно застывала и растрескивалась. Часто, глядя в зеркало, мать хмурилась, недовольно качала головой, а иной раз разговаривала сама с собой, словно забыв о моем присутствии. Видно, эти занятия не приносили ей радости, а, наоборот, огорчали, будто в зеркале или за ним таился неуловимый образ, который никак не удавалось воспроизвести; в конце она неизменно бывала раздражена.
Я же следила за ее действиями, немея от восхищения. Мать казалась мне красавицей, в гриме – прямо-таки неземной. Так и было в моем сне: я сидела и смотрела, как она красится. Постепенно, с ростом зарплаты отца, ее туалетные столики становились все грандиознее, но трюмо имелось изначально – оно давало вид не только спереди, но и с боков. Во сне я глядела на мать и вдруг понимала, что над укутанными полотенцем плечами вижу не три отражения, а три настоящих головы на трех отдельных шеях. Меня это не пугало, а лишь подтверждало то, о чем я всегда знала; но за дверью стоял мужчина, который вот-вот должен был войти. Если он все увидит, если раскроет секрет моей матери, случится что-то ужасное – не с ней, со мной. Надо закричать, побежать к двери, помешать ему, но я не в силах пошевелиться; дверь начинает медленно открываться внутрь…
Я взрослела, и сон менялся. Я больше не стремилась остановить таинственного незнакомца – наоборот, мне хотелось, чтобы он вошел. Пусть узнает то, что пока было известно лишь мне одной: моя мать – чудовище.
Я всегда звала ее «мама» и никак иначе, никаких «мамочек» и «мамуль». То есть я, должно быть, пыталась, но она это не приветствовала. Наши отношения очень рано стали напоминать производственные: она – менеджер, разработчик, рекламный агент; я – продукт. Думаю, больше всего ей хотелось от меня признательности. Чтобы я преуспевала и все знали, что это – благодаря ей.
Ее планы на мой счет были неопределенными, но великими, поэтому, чего бы я ни достигла, ей всегда было мало. Мать не давила на меня постоянно; случались дни, а то и недели, когда она полностью обо мне забывала, увлекшись какой-то собственной затеей, вроде отделки спальни или устройства званого вечера. Она даже поступала на работу: например, была агентом в бюро путешествий, а еще декоратором – разыскивала лампы и ковры, вписывающиеся в цветовую гамму гостиных. Но это длилось недолго; она теряла интерес, чувствовала, что ей этого мало, и увольнялась.
И дело не в избытке энергии или честолюбия, хотя, безусловно, и то и другое в ней присутствовало. Не исключено, что ей, наоборот, не хватало обоих этих качеств. Если бы она сумела разобраться в себе, понять, что ей нужно, и добиться этого, то, возможно, не воспринимала бы меня как упрек свыше, живой укор, воплощение своих неудач, своей тоски – как гигантский сгусток первичной материи, упорно отказывающийся формироваться в нечто достойное, за что наконец можно будет получить приз.
Образ матери, который я долгие годы таскала с собой и который, подобно железному медальону, оттягивал мне шею, таков: она сидит перед туалетным столиком, красит ногти кроваво-красным лаком и тяжело вздыхает. Губы у нее были тонкие, но она рисовала поверх них помадой пухлый, как у Бетт Дэвис, ротик. Получался странный, двойной рот: из-под нарисованного тенью проглядывал настоящий. Мать была привлекательной женщиной, даже в зрелые годы ей удалось сохранить фигуру, а в юности она пользовалась огромным успехом. Я видела фотографии у нее в альбоме; она в вечерних платьях, купальниках, с разными молодыми людьми: она смотрит в камеру, молодые люди – на нее. Один юноша, в белом фланелевом костюме и при большом автомобиле, попадался чаще других. Мать говорила, что была с ним как бы помолвлена.
При этом ни ее родителей, ни двух братьев и сестры, о которых я узнала только позднее, ни ее самой в детстве в альбоме не было. Она почти ничего не рассказывала о своей семье, о жизни дома; но по обрывочным замечаниям кое-что мне все-таки удалось сложить. Ее родители были очень строги, религиозны и небогаты; отец работал начальником железнодорожной станции. Потом моя мать совершила нечто с их точки зрения ужасное – что именно, я так и не узнала, – и в шестнадцать лет убежала из дома. Работала в разных местах – продавщицей в магазине «Крески». подавальщицей в кафе. В восемнадцать лет нашла место официантки на курорте возле озера Мускока, где позднее встретилась с моим отцом. Молодые люди на фотографиях – отдыхающие с того курорта. Одеваться в вечерние платья и купальники мать могла только по выходным.
Отец на курорте не отдыхал, это было совершенно не в его духе. С матерью он познакомился случайно, когда зашел в гости к приятелю. На нескольких досвадебных снимках, где они вместе, отец выглядит смущенным. Мать держит его за руку так, словно это не рука, а поводок. Дальше – свадебный портрет. Затем – несколько фотографий, где моя мать одна; видимо, это снимал отец. А потом – только я; роняю слюни на ковер, жую плюшевые игрушки, кулачок. Отец ушел на войну, и мать, беременная, осталась одна – фотографировать ее было некому.
Вернулся он, когда мне уже исполнилось пять, а до той поры был только именем, историей, которую рассказывала мать и которая постоянно менялась. Иногда отец был превосходным человеком; скоро он приедет и в нашей жизни произойдет множество прекрасных и удивительных событий: мы переселимся в дом побольше, станем лучше есть и одеваться, а хозяина квартиры раз и навсегда поставим на место. Временами, когда я совершенно отбивалась от рук, отец являл собой возмездие, судный день, воздаяние за все грехи. А в некоторых случаях (причем, думаю, это лучше всего отражало истинные чувства матери) он был бессердечным мерзавцем, бросившим ее одну в трудную минуту. В день его возвращения я так и разрывалась между страхом и надеждой: что он мне привезет, что со мной сделает? Хороший он человек или плохой? (Мать делила мужчин на две категории: хорошие делают что-то для тебя, плохие – с тобой.) Наконец час пробил, и в дверь вошел незнакомец. Поцеловал мать» меня, сел за стол. Он выглядел крайне усталым и очень мало говорил. Он ничего не привези ничего не сделал, и с тех пор так было всегда.
Чаще всего отец представлял собой одно большое отсутствие. Однако периодически он возникал из своего таинственного небытия, а изредка даже становился причиной умеренно-драматических потрясений. Например: мне тринадцать, год, стало быть, 1955-й, воскресенье; я сижу в маленькой кухоньке и быстро доедаю половину апельсинового слоеного пирога. Меня ждет неминуемая расплата, но часть уже съедена, а ругать что за кусок, что за полпирога будут одинаково, поэтому я интенсивно жую, стремясь поскорее заглотать все, пока не поймали.
К тому времени я ела постоянно, жадно, упорно, непреклонно – все, что попадалось под руку. Между мной и матерью шла война не на жизнь, а на смерть – не объявленная открыто, но постоянно мною ощущавшаяся; спорной территорией было мое тело. Мать оставляла у меня на подушке брошюры о различных диетах; обещала купить, если я похудею, необыкновенные наряды – парадные платья из многослойного тюля с лифом на косточках, задорные маленькие платьица, юбочки с зауженной талией и пышным кринолином; язвила насчет моих размеров; умоляла подумать о здоровье (я умру от инфаркта, у меня будет повышенное давление), водила к специалистам, которые прописывали всевозможные таблетки… Я на все отвечала одинаково – лишним батончиком «Марс», добавкой картошки фри. Я раздувалась на глазах, поднималась как тесто, мое тело неумолимо наползало на мать вдоль края обеденного стола – в этом, по крайней мере, я оказалась непобедима. Во мне было пять футов четыре дюйма, я еще росла, но весила уже сто восемьдесят два фунта.
Как бы там ни было; воскресенье, 1955 год. Я – на кухне, уминаю апельсиновый пирог. Отец – в гостиной, в кресле, читает детектив; для него это лучший отдых. Мать сидит на честерфилде и притворяется, будто изучает книгу по детской психологии, – она никогда не жалела времени на то, чтобы показать: я, бог свидетель, делаю все, что в моих силах, – но на самом деле читает в журнале «Фокс» исторический роман о семействе Борджа. Я его уже проглотила, тайком. По обеим сторонам честерфилда лежат крохотные пурпурные атласные подушечки. Они – сакральны, неприкосновенны; перекладывать их ни в коем случае нельзя. Сам диван обит тускло-розовой материей – бугристой с серебряным люрексом – и накрыт прозрачной пленкой, которая снимается только для приема гостей. Ковер, сочетающийся по цвету с подушечками, также защищен пленкой, только более плотной. Абажуры настольных ламп обернуты целлофаном. На ногах у отца – бордовые кожаные шлепанцы. Мы с матерью тоже в тапочках – она уже ввела запрет на хождение дома в любой другой обуви. Дом новый, она совсем недавно закончила отделку; теперь, когда все идеально, ей не хочется, чтобы что-то трогали, она мечтает остановить безупречное мгновение навсегда – до того, как станут ясны ее просчеты, и вокруг опять появятся маляры и грузчики и воцарится хаос.
(Мать не хотела, чтобы ее гостиные чем-то отличались от гостиных других людей, и даже не стремилась сделать их лучше. Комнаты должны были только выглядеть прилично, как у всех, – правда, представление обо «всех» менялось с ростом зарплаты отца. Наверное, именно поэтому наши гостиные напоминали музейные экспозиции, а точнее – витрины «Итона» и «Симпсона», этих волшебных дворцов в центре города, к которым мы с тетей Лy каждый декабрь подходили со стороны бесконечных, терявшихся в перспективе трамвайных путей. Правда, мы ходили смотреть не мебель, а другие витрины, где под звяканье колокольчиков механически вращались разные зверюшки, феи и краснощекие гномы. Когда я доросла до того, чтобы делать рождественские покупки, именно тетя Лу стала водить меня по магазинам. Однажды я объявила, что матери ничего дарить не собираюсь. «Но, моя милая, – сказала тетя Лу, – это будет удар по ее чувствам». Я не верила, что у матери есть чувства, однако сдалась и купила ей пену для ванны в прелестном розовом лебеде. Этой пеной она ни разу не пользовалась, но я заранее знала, что так будет. В конечном итоге пена досталась мне.)
Я доела пирог и встала, толкнув животом стол. Тапочки у меня были большие, мохнатые, ноги в них казались вдвое больше, чем на самом деле. Я хмуро потопала из столовой в гостиную, мимо родителей с их книжками. У меня развилась привычка бесшумно, но чрезвычайно заметно проходить мимо матери; нечто вроде модного дефиле наоборот – я всячески стремилась показать, как мало проку от ее занудства.
Я намеревалась пройти через прихожую, подняться наверх походкой снежного человека, сотрясая перила, закрыться у себя и включить Элвиса Пресли – громко, но не настолько, чтобы мать могла с полным правом велеть мне сделать потише. Она уже начинала бояться, что теряет со мной контакт. А у меня не было никаких коварных планов, я всего лишь повиновалась смутному, вялому инстинкту. И знала только одно: что хочу слушать «Отель разбитых сердец» на той предельной громкости, которая еще не может вызвать нареканий.
Я была на середине комнаты, когда в дверь вдруг забарабанили, явно кулаками. Потом ударили всем телом, и сиплый мужской голос исступленно заорал:
– Я убью тебя! Скотина, я убью тебя!
Я застыла. Отец вскочил с кресла и по-бойцовски пригнулся. Мать заложила книгу закладкой, сняла очки, которые носила на шее на серебряной цепочке, и с раздражением посмотрела на отца. В происходящем, естественно, был виноват он: ведь не она же скотина. Отец выпрямился и прошел к двери.
– А, это вы, мистер Карри, – сказал он. – Рад видеть вас в добром здравии.
– Я подам на вас в суд! – завопили в ответ. – Я вас засужу на всю жизнь! Почему вы не оставили меня в покое? Вы всё испортили! – Крик прервался судорожным, хриплым плачем.
– Вы сейчас расстроены, – произнес голос отца.
В ответ раздались рыдания:
– Вы всё испортили! На этот раз я всё сделал правильно, а вы всё испортили! Я не хочу жить…
– Жизнь – великий дар, – отозвался отец, спокойно, достойно, но с легкой укоризной, как добрый дантист, что рассказывал о кариесе по телевизору, который мы купили два года назад. – Его следует принимать с благодарностью и уважением.
– Да что вы понимаете? – взревел собеседник. Послышалось шарканье; голос, оставляя за собой глухое бормотание, вроде струйки пузырьков под водой, замер в отдалении. Отец тихо закрыл дверь и вернулся в гостиную.
– Не знаю, зачем ты это делаешь, – произнесла мать. – Благодарности от них не дождешься.
– Делаешь что? – вытаращив глаза, спросила я; любопытство победило, обет молчания был нарушен. Мне еще не доводилось слышать, чтобы мужчины плакали, и это неожиданное открытие очень меня взбудоражило.
– Когда люди пытаются покончить с собой, – сказала мать, – твой отец их оживляет.
– Увы, далеко не всегда, Фрэнсис, – печально уточнил отец.
– Но достаточно часто, – ответила мать, раскрывая книгу. – И я уже устала оттого, что тебе звонят среди ночи с угрозами. Хорошо бы ты все это прекратил.
Отец работал анестезиологом в городской клинической больнице Торонто. Эту профессию он освоил по настоянию матери: она считала, что специализация – веяние времени; все говорили, что такие врачи зарабатывают больше домашних. Пока он учился, мать с готовностью терпела финансовые лишения. Но я-то была уверена, что отец всего-навсего усыпляет людей перед операцией, и ничего не знала о загадочной «воскресительной» стороне его деятельности.
– А почему люди пытаются покончить с собой? – спросила я. – И как ты их оживляешь?
Первую часть вопроса отец проигнорировал – для него это было слишком сложно.
– Я применяю разные экспериментальные методы, – сказал он. – Но не всегда они срабатывают. Правда, мне достаются одни безнадежные случаи – после того, как все остальное уже испробовано. – Помолчав, он продолжил, обращаясь скорее к матери: – Ты удивишься, но большинство мне благодарны. Они рады, что им дали возможность… вернуться. Еще один шанс.
– Что ж, – сказала мать, – вот бы еще недовольные держали свои чувства при себе. Но все равно, по-моему, это пустая трата времени. Они обязательно повторяют попытку. Тот, кто настроен серьезно, сует в рот пистолет и спускает курок. Без всяких там шансов.
– Не каждый, – ответил отец, – обладает такой решительностью, как ты.
Два года спустя я узнала об отце кое-что еще. Мы опять переехали в новый дом, с еще более просторной, солидной столовой, обшитой деревянными панелями. Мать пригласила на обед две семейные пары. По ее словам, она их не любила, но не позвать не могла: это коллеги отца, важные люди в клинике, а ему необходимо помочь продвинуться по службе. Отец говорил, что приглашение не имеет ни малейшего отношения к карьере, но мать не обратила на это внимания и все равно позвала их. Позже, осознав правоту отца, она перестала устраивать застолья и начала пить, намного больше, чем прежде. Но и тогда она уже, кажется, пила. Меню того обеда я помню до сих пор: куриные грудки в сливочном соусе с диким рисом и грибами, заливной салат в отдельных формочках с клюквой и сельдереем под майонезом, картофель «дюшес» и сложный десерт с мандаринами, имбирным соусом и каким-то шербетом.
Я сидела на кухне. Мне было пятнадцать, и я достигла своих максимальных размеров: пять футов восемь дюймов роста и двести сорок пять (плюс-минус) фунтов веса. К гостям меня больше не выпускали; матери надоело, что ее дочь похожа на белуху и открывает рот только затем, чтобы положить туда что-то съедобное. Я мешала ей играть роль элегантной хозяйки дома. Меня, безусловно, радовала всякая возможность досадить матери, но с посторонними людьми дело обстояло иначе: они воспринимали мою необъятность как физический недостаток, вроде горба или косолапости, не видели, что на самом деле это – бунт, ниспровержение, победа. Мое отражение в их глазах лишало меня уверенности. Извращенное удовольствие от своего немыслимого веса я извлекала, лишь общаясь с матерью; со всеми прочими, в том числе с отцом, я ужасно страдала. Но остановиться уже не могла.
Вот и в тот раз я была на кухне, подслушивала, уплетала всякие «запчасти» и объедки. В столовой перешли к десерту, я увлеклась остатками куриного салата с клюквой и картофелем «дюшес» и разговор слушала невнимательно, как вялотекущий радиоспектакль. Как стало понятно, один из гостей воевал, главным образом в Италии; второй служил, но дальше Англии не попал. Разумеется, отец тоже участвовал в беседе; он хоть и не отрицал, что был на войне, но высказывался крайне сдержанно. Я не первый раз слышала такие разговоры и очень мало интересовалась ими, зная по фильмам, что на войне женщинам особо делать нечего – не считая того, что они и так делают.
Врач, воевавший в Италии, закончил рассказ о каком-то своем приключении и после общего невнятного мычания спросил:
– А вы где служили, Фил?
– О! М-м-м, – ответил отец.
– Во Франции, – сказала мать.
– А! Вы хотите сказать, после вторжения, – сообразил другой доктор.
– Нет. – Мать хихикнула; это был опасный признак. В последнее время она часто хихикала на своих званых ужинах. Это мутноватое бессмысленное хихиканье пришло на смену высокому, веселому «гостевому» смеху, которым раньше она орудовала умело и точно, как бейсбольной битой.
– О, – вежливо отреагировал врач, служивший в Италии, – что же вы там делали?
– Убивал людей, – тут же ответила мать с видимым удовольствием, словно радуясь шутке, которая понятна ей одной.
– Фрэн, – сказал отец. Он предостерегал, но в то же время умолял; это было ново и неожиданно. Я догрызала грудку, но остановилась и прислушалась.
– На то и война, чтобы убивать, – сказал второй гость.
– Глядя человеку в глаза? – возразила мать. – Вы, готова поспорить, никого не убивали вот так, лицом к лицу.
Повисло молчание. Так обычно бывает, когда вот-вот должно случиться нечто пикантное и, возможно, скандальное. Я представила, как мать обводит взглядом заинтересованные лица, стараясь не встречаться глазами с отцом.
– Фил служил в разведке, – внушительно произнесла она. – Глядя на него, не скажешь, правда? Его забросили за линию фронта, и он работал в подполье, с французами. Он никогда сам не скажет, но французский ему как родной; у него это из-за фамилии.
– Неужели, – сказала одна из дам, – а мне всегда очень хотелось поехать в Париж. Он и правда настолько красив, как говорят?
– Фил убивал тех, кто, по их мнению, был двойным агентом, – продолжала мать. – Он их выводили расстреливал. Хладнокровно. Причем иногда не зная, того человека убивает или нет. Потрясающе, правда? – В ее голосе звучали восторг, изумление. – Смешно, ему не нравится, когда я об этом рассказываю… но еще смешнее другое. Как он однажды сказал, самое ужасное, что ему это стало нравиться!
Кто-то из мужчин нервно засмеялся. Я встала, прокралась в своих мохнатых тапочках к лестнице (при необходимости я умела двигаться очень тихо), поднялась до середины и опустилась на ступеньку. Естественно, через минуту распахнулись двери, и на кухню решительным шагом вышел отец, а следом за ним – мать. Она, должно быть, понимала, что перегнула палку.
– А что тут такого? – говорила она. – Это же за правое дело. Ты совсем не умеешь себя подать.
– Я же просил не говорить об этом, – ответил отец. Голос звучал сердито, даже зло. Я впервые поняла, что и его можно разозлить; обычно он бывал на редкость невозмутим. – Ты не представляешь, что там было.
– Думаю, было здорово, – серьезно сказала мать. – Для этого настоящая смелость нужна, и я не понимаю, что здесь плохого…
– Замолчи, – оборвал отец.
Все это было потом; а сначала отца просто не существовало. Может, именно поэтому в моих воспоминаниях он лучше матери? Потом он все время учился, и ему нельзя было мешать, а после много времени проводил в больнице. И никогда не понимал, кто я и что; враждебности, правда, от него не чувствовалось – только недоумение.
Мы очень редко делали что-то вместе, немного, и при этом всегда молчали. Например: отец полюбил комнатные растения – лианы, папоротники, бегонии. Ему нравилось возиться с ними, обрезать, сажать, пересаживать. Это происходило во второй половине дня в субботу, когда у него было свободное время. Одновременно он слушал по радио трансляции «Тексако» из «Метрополитен Опера». Мне разрешалось помогать ему с цветами. Отец был на редкость неразговорчив. поэтому я стала представлять, что доброжелательный, уверенный голос, звучащий в комнате – он рассказывал о костюмах певцов и о страстных, трагических, необыкновенных событиях, которые с ними произойдут, – принадлежит не Милтону Кроссу, а моему отцу. Он попыхивал трубкой, с какого-то момента заменившей сигареты, тыкал совком в горшки и говорил о любовниках, брошенных, преданных, пронзенных кинжалами, о ревности и безумии, о вечной любви, побеждающей смерть. Потом, вызванные его речами, в комнату вплывали звенящие, пронзительные голоса, от которых шевелились волосы на затылке. Отец был заклинателем духов, шаманом с сухим, отстраненным голосом оперного комментатора, облаченного во фрак. Так, по крайней мере, звучал этот голос, когда я представляла себе разговоры, которые хотела бы вести со своим отцом, но никогда не вела. Мне хотелось узнать о жизни то, о чем мать никогда не говорила, а он обязан был знать хоть немного, ведь он был врач, он воевал, убивал людей и воскрешал мертвых. Я все ждала от него какого-то совета, предостережения, наставления, но так и не дождалась. Наверно, впервые увидев меня в пять лет, он не воспринимал меня как свою дочь и обращался со мной скорее как с коллегой, сообщницей. Но в чем заключалась наша общая тайна? Почему за все пять лет он ни разу не приезжал в отпуск? Мать тоже задавалась этим вопросом. Почему они оба вели себя так, будто он ей чем-то обязан?
Позже я подслушивала и другие разговоры
Обычно уходила в ванную наверху, запиралась и включала воду, чтобы они думали, будто я чищу зубы. А сама, придвинув коврик, чтобы не замерзли коленки, опускала голову в унитаз и через трубы слышала, что говорят родители. Это была практически прямая линия на кухню, где они, как правило, скандалили, точнее, скандалила моя мать. Ее было слышно гораздо лучше.
– Может, ты для разнообразия сам попытаешься на нее повлиять, она ведь и твоя дочь? Я уже на пределе.
Отец: молчание.
– Ты не знаешь, каково мне было, воспитывать ребенка одной, пока ты там прохлаждался.
Отец:
– Я не прохлаждался.
Тут же:
– Я ведь ее не так уж и хотела. И замуж за тебя не просилась. Мне просто ничего не оставалось, только делать хорошую мину при плохой игре.
Отец:
– Мне жаль, что ты недовольна тем, как все вышло.
В ответ, очень злобно:
– Ты же врач, не говори, что ничего не мог сделать.
Отец: (тихо и неразборчиво).
– Не говори чепухи, ты убил достаточно людей. «Святое»! К чертовой матери!
Сначала я была просто шокирована – главным образом потому, что она употребила выражение «к чертовой матери». Она всегда старалась быть леди – перед всеми, даже передо мной. Позднее я пыталась понять, что имелось в виду, и когда она сказала: «Если бы не я, тебя бы здесь не было», – я попросту не поверила.
Мое обжорство было не только вызовом, но и реакцией на страх. Иногда мне начинало казаться, что меня вообще нет, ведь я – случайность; я слышала, как мать назвала меня случайностью. Думаю, мне хотелось обрести твердую форму – твердую, как камень, чтобы от меня нельзя было избавиться. Что я им сделала? Стала ли я ловушкой для своего отца, если он действительно мой отец, испортила ли жизнь матери? Я не осмеливалась спросить.
Какое-то время я мечтала стать оперной певицей. Они хоть и толстые, а все равно носят пышные костюмы, и никто над ними не смеется, наоборот – их любят и хвалят. К несчастью, я не умела петь. Но опера меня привлекала. Как прекрасно стоять на сцене и орать во весь голос про любовь и ненависть, гнев и отчаяние. Вопишь во всю глотку, а получается музыка. Это было бы что-то.








