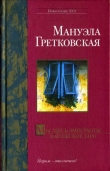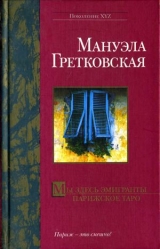
Текст книги "Мы здесь эмигранты"
Автор книги: Мануэла Гретковска
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Май 1989
Я, наверное, принадлежу к числу тех немногих, кто имел несчастье дважды поступить на «изящные искусства» – и оба раза отказаться от этих, судя по всему, приятных занятий. Первый раз я поступала в школу в Торуни. Экзамен, продолжавшийся неделю, был весьма мучительным: три дня серьезного академического рисунка, два дня живописи маслом и теоретический экзамен или письменная работа по истории искусства, а потом – вопросы типа: «Что было изображено в гроте Ласко?» или: «Назовите, пожалуйста, современных польских архитекторов». Плюс – нагнетание истерии в перерывах: «Я уже третий год поступаю и говорю вам: все, кто проходит, проходят по блату».
Обнаружив себя в списке поступивших, я начала покупать кисти, краски, подрамники, чтобы приступить в октябре к созданию шедевра масштаба Матейки. Во время каникул выяснилось, что я получила паспорт и надо ехать во Францию. Что делать во Франции? Понятное дело, снова поступать на изящные искусства. Я выбрала школу недалеко от Парижа типа Торуньской – среднюю. Экзамены, как и в Польше, делились на две части: первая часть теоретическая, вторая – практическая.
Практический экзамен состоял в том, чтобы убедить комиссию в наличии у тебя неповторимой творческой индивидуальности. Преподаватели ходили из зала в зал, рассматривали творения кандидата и выслушивали его художественные откровения. В информационном листке практического экзамена директор приглашал абитуриентов представить свое творчество, не обязательно художественное.
Я приехала на экзамен из Ренна (400 км) с рюкзаком, груженная папками и картинами. В день перед моей экспозицией пошла посмотреть, как справляются туземцы, сиречь французы. Оказалось, что ни у кого нет работ маслом, поскольку это сложная техника и мы будем изучать ее только на занятиях. В основном наличествовали абстракции, что-то вроде граффити. Собственно, экспозиции не сильно отличались от стен метро. Один абитуриент в решающий момент – когда входила комиссия – вдруг заорал, что его акварели недостоин лицезреть никто, а уж профессора – тем более, и захлопнул дверь. Преподавателям это понравилось, началась толкотня, переговоры, в итоге он разрешил входить по одному. Показывал картинку, а потом ее дарил, упаковывая в конверт и вручая в качестве сувенира. В другом зале полуголая девица принимала различные позы, распевая при этом собственные поэзы. Ознакомившись с этими экспозициями, я тоже решила понравиться комиссии тем искусством, которое французы ценят превыше всего, – кулинарным.
Я приготовила русские пельмени, положила в термос и потчевала ими уважаемых профессоров, рассказывая о традиции пельменей вообще и русских пельменей в частности. Я обратила внимание комиссии на цикл из двенадцати работ в бурых тонах с темно-красными струпьями. Это были автопортреты и автоакты, которые я ежемесячно писала собственной кровью и которые назывались: «Эта кровь, быть может, вольется когда-то в язык и хвост плода». Когда председатель комиссии попросил еще пельменей, я уверилась, что практическую часть экзамена я прошла. В соседнем зале выставил свои работы неолитический человек, жутко худой паренек, рисующий руками бизонов и лошадей, плененный первобытным искусством и убежденный, что, когда он начинает рисовать, в него вселяются духи предков. Он был в грязных шортах, босой и весь испещрен рисунками, которые, как он утверждал, являются магическими символами, помогающими ему сдать экзамен.
Теоретическая часть основывалась скорее на высказывании собственных впечатлений и размышлений, нежели чем на лервическом перечислении дат или стилей. Нас пригласили в маленький кинозал, раздали бумагу и попросили описать композицию картины, которую мы увидим на экране. А если останется еще немного времени, было бы желательно описать ощущения, которые вызывает в нас рассматриваемое произведение искусства. Когда на экране появился слайд, директор добавил, что картина, которую сейчас мы видим, знаменитая «Matete» Поля Гогена.
За полчаса я написала все о красочных пятнах, первом плане, втором плане, горизонтальных и диагональных линиях. Оставалось еще полчаса. Я сняла очки, чтобы не приучать глаза к детальному разглядыванию мира. Я принадлежу к тем близоруким, которые не считают свой способ видения дефектом зрения. Как раз наоборот – очки полезны исключительно в кино; на улице или в доме они искажают естественное восприятие. Если глаза близорукого не хотят реагировать на те же нервные раздражители, что и глаза неблизорукого, значит, у них другая чувствительность, и ее следует уважать. Просто организм близорукого в определенный момент решает развить другие ощущения. Постоянное ношение очков не исправляет зрения, зато делает совершенно невозможным обогащение слуховых, обонятельных или осязательных ощущений. Если организм начинает видеть хуже, из этого следует извлечь пользу, а не бежать сломя голову к окулисту, чтобы услышать, что у тебя дефект или вообще сколько-то-там-процентное увечье.
Мои знакомые близорукие французы – специалисты в покупке фруктов, потому как только они способны, нюхая бананы или мягкие на вид ананасы, определить, действительно ли плод спелый или уже начинает портиться Большинство близоруких – объективные идеалисты даже если сами они не формулируют это в эпистемологических категориях. Причина этого проста. Без очков трудно определить, улыбается человек, идущий по другой стороне улицы, или хмурится и что у него под глазом: фонарь или экстравагантный макияж. Выражение лица, прическа – все это неуловимо. Вместо этого близорукий улавливает сущность, единственную и неповторимую, которая выделяет знакомого из толпы прохожих. Трудно дать определение той сущности, благодаря которой я безошибочно узнаю в толпе хорошо знакомого человека, не различая ни черт лица, ни фигуры. Просто близорукий обладает способностью восприятия идеи, сущности предметов и людей – если, разумеется, не носит постоянно очки.
Памятуя об этом, я стала рассматривать картину Гогена на свой близорукий манер: три серых пятна, два ярких пятна, три серые точки. Три, три, два. Заинтригованная этой арифметической регулярностью, я все-таки надела очки. На скамье сидят три женщины в серых платьях, рядом с ними – две в платьях теплых, насыщенных, даже ярких тонов. Перед скамьей лежат три камня или какие-то цветные точки. Справа композицию замыкает фигура девушки, а точнее – половина девушки, пересеченной вертикальной рамой картины. Фон – нечеткие, далекие мужские фигуры, деревья и, возможно, озеро У женщин на скамейке застывшие черты, они напоминают скорее богинь, чем простых смертных. Только девушка (полдевушки) имеет вид кого-то реального. «Matete» означает рынок, но на картине не видно ни горшков, ни зелени – вообще ничего, чем можно торговать. Застывшие в жреческих позах женщины тоже не похожи на продающих или покупающих. О каком рынке идет речь? Что на нем покупают, что продают? Почему две женщины одеты ярко, оставшиеся три – серые и словно бы мертвые? А девушка перерезана пополам? Искусствовед удовлетворился бы ответом, что количество фигур и их дифференциация подчинены композиции, но я знаю, что Гоген был художником-символистом, а значит, эта картина должна скрывать в себе какой-то символический смысл.
Две ярко одетые женщины. Две… число два символизирует женское начало. Три означает мужское начало. Противопоставление этих двух начал на картине подчеркнуто еще и цветом: две богини в желто-оранжевых платьях, а остальные три – в тоскливых темно-серых, лишающих их женской прелести, приближающих по цвету к нечетко обозначенным, тоже серым мужским фигурам на заднем плане. Итак, на картине идет какая-то игра или борьба между женским началом и мужским, возможно, торг, ведь все это вместе называется «рынок». Если женщины на скамье – загадочные богини, то, может быть, имеется в виду торг между богами? Но что является его предметом? Может, Гоген изобразил вещь, о которой идет спор, может, хотя бы половину… ну конечно! – полдевушки.
Итак, таинственные богини говорят о девушке. О чем они могут говорить, будучи символом мужского и женского начал, как не о выборе для девушки подходящего мужа среди фигур в глубине картины? Девушка очень хороша собой, и богини женственности торгуются с символическим мужским миром (тройка) из-за достойного ее красоты жениха. Но почему мы видим только половину девушки? Половина, чтобы достичь совершенства единицы, должна быть дополнена второй половиной. Дополнение вечной женственности – мужественность. Очевидно, девушка уже в том возрасте, когда ей пора найти себе мужа. Может быть, она молится своим богам, обещая принести им в жертву цветы и фрукты, если жребий подарит ей взлелеянного в мечтах мужчину. Такой вот торг с богами: «Великая Богиня, дай мне мужа, а я взамен воскурю тебе благовония и пожертвую мое самое прекрасное жемчужное ожерелье». Матерь Богиня, соблазнившись таким подарком, торгуется с миром мужских божеств о нареченном для своей прекрасной подопечной. Рынок, «Matete».
После экзамена я пошла в книжный магазин посмотреть альбом Гогена. Под репродукцией «Matete» было написано, что источником вдохновения для картины послужила египетская стела эпохи Древнего Царства, представляющая богинь плодородия и смерти. А значит, моя интуитивная догадка в какой-то мере подтвердилась.
Две недели спустя мне случайно попалась книжка об Элифасе Леви, одном из самых известных французских эзотериков XIX века, авторе пособия по Высшей Магии. К кругу его самых близких друзей, как я узнала из книги, принадлежала бабушка Поля Гогена. Выходит, поиски потерянного рая, занятие темным миром символов были в роду художника традицией.
Экзамены я сдала, но Сальвадором Матейко не стала. Вместо того чтобы творить великие полотна, я занялась решением загадки одной таинственной женщины из города Магдала.
Сентябрь 1989
Подавать руку на прощание или при встрече было для меня в Польше подлинной мукой. Я предпочитала кивок или старомодный реверанс, только бы не касаться ничьих, даже дружеских рук. Это было неприятно, но настоящая пытка ждала в Бретани, где мне довелось прожить полгода. Там рукопожатие – сущие пустяки, весь церемониал приветствий и прощаний основан на целовании в щеку – три раза: чмок, чмок, чмок. Чмоканье слышится повсюду: в кафе, на улице, в автобусе. Парижане говорят, что Бретань – католическая страна, поэтому и целуются там троекратно: во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В Париже, который всегда в авангарде, целуются четыре раза, непременно четыре раза, даже если ты знаком с кем-то всего десять минут. Познакомьтесь, это Юта, это мой лучший друг Пьер. Если поцелуешь кого-нибудь только два или три раза, то ты pas gentil, pas mignon [15]15
Здесь: невоспитанный, нелюбезный (фр.).
[Закрыть]и вообще не любишь Юту и лучшего друга Пьера.
Когда ежедневно знакомишься с новыми людьми, безумными парижанами или приезжими из Буэнос-Айреса, Рима или Монреаля, в итоге выходит от сорока до восьмидесяти поцелуев. Я пытаюсь избежать целования, утверждая, что у меня насморк, подозрение на сифилис и несомненный СПИД. Но это не спасает от другого кошмара, которым являются ответы на вопросы, из какой я страны, что делаю во Франции, сколько мне лет, есть ли у меня собака, братья и сестры. Всегда один и тот же набор нудных, дотошных вопросов. Лучше всего заготовить себе карточку и выписать на ней все возможные ответы. После нескольких дней занятий в «Альянс Франсез» [16]16
Alliance Française – Французский Альянс, ассоциация, основанная ч1883 г. для того, чтобы осуществлять влияние Франции на зарубежные страны с помощью языка и культуры. – Примеч. пер.
[Закрыть]я старалась избегать любых новых знакомств, то есть – необходимости отвечать на вопросы. Я только запоминала национальность тех, с кем уже знакома, чтобы понять, являются ли жесты этого человека признаком душевного расстройства или же, как у итальянцев или греков, – проявлением южного темперамента.
В арабском магазинчике на моей улице меня считают русской – если бы на вопрос любопытного продавца я сказала, что полька, араб бы закивал: мол, знает, где Польша, слышал, мол, о Валенсе и Ярузельском. А меня ни Ярузельский, ни Валенса не интересуют. Когда я говорю, что русская, люди на миг столбенеют, а потом смотрят с таким удивлением и испугом, будто за моей спиной стоит Горбачев с медведем на веревочке.
Увы, я тоже видела в Париже русского медведя на веревочке. Это случилось знойным вечером 14 июля 1989 года у Триумфальной арки. Внезапно стемнело, пошел снег, завыла протяжно кошмарная музыка, и по Елисейским Полям промаршировали красноармейцы в жутких шинелях, высоких сапогах и со звездой на лбу. За ними на передвижной платформе танцевала балерина с огромным белым медведем. Так прошел в Париже советский парад, посвященный двухсотлетию Французской революции, – ведь и у русских была в 1917 своя революция. Как только красноармейцы промаршировали по Елисейским Полям, их сразу же посадили в грузовики и отвезли к русскому посольству, чтобы кто-нибудь, случаем, не надумал остаться и просить убежища. Французы, глядя на этот наводящий ужас марш, веселились, как дети: что снег искусственный, что медведь настоящий и еще – что русские на этот раз возвращаются к себе домой.
Я чувствовала себя в этой веселящейся толпе несколько странно, почти так же, как несколько месяцев назад, когда смотрела телевизор в общежитии для эмигрантов. На экране ведущий, комментирующий парижскую манифестацию против Рушди, не мог понять, откуда взялась толпа фанатичных мусульман, требующих смерти писателя, интеллектуала, вообще кого бы то ни было в цивилизованном французском государстве. Меня мало волновало и само событие, и впавший в истерику ведущий, но вокруг началась суматоха, и тут я слышу, как все начинают возбужденно кричать: «Смерть Рушди! Смерть сукину сыну!» Я огляделась в полутьме телевизионной залы и обнаружила исключительно арабских эмигрантов из Магриба.
Но это было давно, очень давно, почти за год до того, как я познакомилась в «Альянс Франсез» с Бруно – единственным человеком, который не спросил в первые минуты разговора, что я делаю во Франции, откуда я и как меня зовут. После лекций мы бродили по Парижу, таская с собой огромные польско-англо-французские словари, поскольку в беспрестанной болтовне нам постоянно не хватало слов. Через месяц таких прогулок мы носили уже словари поменьше и знали больше мелких ресторанчиков. Наши разговоры состояли в придумывании правдоподобного вздора, например: почему монады Лейбница характеризовало в первую очередь отсутствие двери и окон? Объяснение простое – старик Лейбниц, который сидел в кресле у камина, закутавшись в плед, не терпел сквозняков. Вот он и придумал совершенство, лишенное дверей и окон, то есть монаду. Таким образом мы разрешили множество философско-психологических или попросту психиатрических загадок.
Иногда кому-нибудь из нас в последний момент не хотелось идти на занятия, но мы знали: на случай такого приступа лени прогульщик ждет в кофейне на углу Распай и Вавен. В один октябрьский день Бруно не пришел в «Альянс», а значит, ждал в закусочной, и он в самом деле стоял у стойки, но настолько непривычный в длинном, широком бежевом плаще, что я усомнилась, он ли это. В руке – бокал красного вина, золотистая, чуть посеребренная уже борода, волосы, ниспадающие на плечи, и роскошный плащ соединялись в композицию «Живописный Бруно». Бруно казался несколько сконфуженным собственной элегантностью.
– Этот плащ мне привезла сестра, – начал оправдываться он. – Она художник-модельер в Штатах и сделала мне подарок.
– Весьма симпатичная тряпка, но что это за пакля торчит у тебя из-под рукава, вот тут, под мышкой? – Я показала пальцем на то, что явно нарушало полный шик.
– Это не пакля, это волосяной покров, приклеенный здесь специально и придающий, как утверждает моя сестра, оригинальность и sex appeal [17]17
сексапилыюсть (англ.).
[Закрыть]всему look. [18]18
вид (англ.).
[Закрыть]Эти волосы можно побрызгать дезодорантом, как настоящие. Для тебя у меня тоже подарок. – Бруно протянул мне бело-голубой свитер с высоким воротом. – Рукава подвернешь, и будет как раз.
Я надела свитер. Сестра Бруно не наклеила на него волосы, зато пришила на спину два крыла наподобие ангельских – вязанных, шерстяных. Крылья держались на проволоке и величественно колыхались. Мы оба выглядели празднично, с такими крыльями не подобало идти ни в «Царицу Савскую» на пирожки, ни в кошерную пиццерию, а потом в кошерную кондитерскую на Сен-Поль, куда мы собирались в тот день. Было бы просто глупо шляться с крыльями на спине по еврейскому кварталу, между домами молитвы, среди набожных иудеев и детишек из хедера. Мы решили пойти туда, где живут в основном художники, то есть на Бастилию. Был вечер, когда Бруно задал мне бессмертный вопрос: «А какая она, эта Польша?»
– Какая? Начнем с истории. Ты знаешь, кто такие были тевтонские рыцари? В Польше их называли крестоносцами. Один польский король победил крестоносцев в великой битве под Грюнвальдом, в начале XV века. Во время Реформации почти весь орден перешел в протестантизм, а у тех, кто остался в католичестве, теперь своя резиденция в Вене. Именно в Вене один крестоносец показал мне фотографии декабря восемьдесят первого, на которых монахи в традиционных белых плащах с черным крестом, накинутых поверх элегантных костюмов, грузят в автофургоны ящики с продовольствием для Польши. Это была история, а теперь – география. Польша – большая страна. Близ границы с Россией, рядом с городом Белосток, сохранилось даже немного дремучих лесов. Кому-то пришла в голову мысль объехать те края с настоящим негром. Негра выставляли напоказ в домах сельских старост – разумеется, за деньги. Потрогать настоящего нефа стоило на несколько злотых дороже. Прекрасная посещаемость и самоокупаемость – люди собственными глазами увидели черного и смогли удостовериться, что он не раскрашенный. Африканец из Института иностранных языков в Лодзи заработал пару грошей, и тот, кто все это задумал, тоже, наверное, собрал немного бабок.
– Не знаю, остались ли довольны все герои другой истории, – заметил Бруно. – Перед самым концом войны наши войска проходили через глухую французскую провинцию, где никто не видел иностранцев, а уж тем более – негров из американской армии. Парни внушили провинциалам, а точнее – провинциалкам, что их раскрасили только на время войны, для лучшей маскировки, а потом черная краска смывается. Увы, после войны отдраивание шоколадных младенцев ничего не дало, краска сходить не желала.
Беседуя, мы дошли в конце концов до «Вольтера», протиснулись к стойке и взяли по бокалу, а потом, наверное, еще по бокалу, потому что я решительно должна была сесть за столик. Я собралась с духом и предложила Бруно то, чего больше никому не предлагала:
– Слушай, наш союз существует уже давно, через несколько дней ты возвращаешься в Лондон, следовательно, надо это как-то узаконить, как ты считаешь?
– Ну конечно. – Он закивал, пытаясь стянуть с соседнего столика пепельницу и одновременно обороняя свой бокал от нахального клошара.
– Предлагаю, чтобы мы стали amis.
– А почему не petit amis? [19]19
Игра слов: по-французски amiозначает «друг», a petit ami– любовник. – Примеч. автора.
[Закрыть]
– Потому что у меня есть муж, – ответила я.
– У тебя есть муж?
– Да, и я влюблена в него до безумия, он самый чудесный на свете, и не вытягивай из меня признаний, потому что ты, наверное, никогда не слышал, чтобы женщина так восхищалась своим мужем.
– А вот и нет, слышал. От моей жены, то есть моей бывшей жены.
– Видишь, я тоже не знала, что ты женат.
– Был, был, но все хорошее всегда кончается. Наш брак был прекрасен, все складывалось чудесно, даже слишком чудесно, потому что в одну безумную ночь Кена, голая, вскочила с постели и стала что-то записывать за столом. Она сказала, что, когда мы занимались любовью, испытала озарение. Озарение заключалось в том, что она открыла в женщине еще одно чувство, нечто среднее между осязанием и метафизическим чувством. Кена – антрополог, а потому не хотела впадать ни в мистицизм, ни в чистую биологию. Она решила, что оргазм у женщины не является следствием физического прикосновения, поскольку прикосновение можно определить: его локализацию и силу, а то, что испытывает женщина, занимаясь любовью, не поддается подробному описанию. Другим доводом, подтверждающим истинность этой теории, должен был служить тот факт, что во время оргазма наслаждение распространяется на все тело, что при обычном, чисто физическом прикосновении было бы невозможно. Следовательно, это удовольствие должно иметь сверхчувственное, или духовное, происхождение. Вывод – в женском теле есть орган чувств, связывающий физическое с духовным, такая чуть-чуть материальная душа, которая проявляется во время занятий любовью. Таким образом Кена разрешила проблему психофизического дуализма, с которой никто не мог справиться со времен Картезия.
Такие вот сенсационные выводы сделала моя жена на основании собственного опыта. Сначала она расспрашивала подруг об их сексуальных переживаниях, но потом, как и положено добросовестному ученому, решила проводить эксперименты на себе. Наша спальня превратилась в несколько двусмысленную лабораторию. Кена приводила всяких разных типов, чтобы проверить, в какой степени сила оргазма у женщины, то есть конкретно у Кены, зависит от духовной и физической предрасположенности партнера.
Я оставил ей нашу нью-йоркскую квартиру и улетел в Южную Африку, где как геолог добывал породу. Я обнаружил много растительных окаменелостей и переключился на палеонтологию. Среди растений мне стали попадаться кости, примитивные орудия, древние захоронения. Поэтому я решил изучать антропологию в Бейруте, где прожил в общей сложности десять лет. Не знаю, опубликовала ли Кена свои труды, но я благодаря тому, что мы расстались, живу в Европе, у меня хорошая работа в Британском музее, и после убийственных месяцев на Руб-аль-Хали я, кажется, обнаружил, откуда произошли семиты. Но откуда берутся такие люди, как те, что только что сели позади тебя, я понять не в состоянии.
Я посмотрела в зеркало, висевшее над баром, и сквозь дым увидела прямо позади себя два крашеных панковских чуба. Панки говорили очень громко, но не по-французски.
– Бруно, я понимаю, что они говорят. Это не польский, не итальянский. Господи, что это за язык? Знаю, Бруно! Это русские. Правда, я никогда еще не видела русских панков, может, они здесь в командировке. – Панки, должно быть, заметили, что мы говорим о них, потому что тот, у которого чуб был побольше, хлопнул меня по плечу и совсем не агрессивно, а скорее тоскливо спросил:
– Ну што?
– Ничего, – ответила я.
Парень заорал:
– Юрий, русские! Радость-то какая!
И они тут же, прихватив свои бутылки и стаканы, пересели к нам. У нас не было времени поговорить как следует. Я только узнала, что Юрий и М. – из оркестра, который год назад попросил во Франции убежища. Порой они тоскуют по дому, но у них есть безотказное средство от ностальгии – послушать Радио Москвы. Через полчаса тоски как не бывало. Наш разговор был прерван появлением в кафе типа, одетого вполне опрятно, но с волосами, просто не поддающимися описанию, – то ли сто лет нестрижеными, то ли сто лет немытыми. Еще в дверях он высмотрел панков и начал проталкиваться к нашему столику, обличительно вопия:
– Обрезали волосы! Обрезали! А в волосах – сила Божия. Пока Самсону Далила волосы не обрезала, Дух Господень был на нем!
Этот тип явно был психом, но вещи говорил интересные.
– Все помешательства, болезни ума идут от шампуней. Шампунь – это химическая гадость, отрава, он попадает в глаз, и глаз болит. А люди втирают шампунь в волосы, в нежную кожу головы, в мозг, и шампунь разъедает мозг. Волосы надо мыть целебными травами, втирать в них миро и розовое масло, чтобы это благоуханное масло стекало по волосам. Когда святая Мария Магдалина умащивала голову Христа, она знала, что делает, у нее были дивные волосы, до самой земли, и Христос воскрес из мертвых, а Самсон умер. О!
И я уже скоро обрету силу Господню, если только буду вовремя возвращаться из увольнительных в больницу Святого Антония. И вы возвращайтесь в домы свои, ибо Бастилию разрушили, но Бастилия восстанет. Снова будет революция, и будут резать волосы вместе с головами.
Говоря это, он выпил из наших бокалов все вино. Сидеть дальше над пустой посудой было бессмысленно. Мы распрощались, четырехкратно расцеловавшись.
В метро слегка подвыпивший француз попробовал навязать мне беседу:
– Вы не француженка?
– Нет, не француженка.
– Тогда вы, наверное, испанка.
– Нет.
– Тогда из какой вы страны?
– Вы что, не видите? – Я показала на ангельские крылья, прикрепленные к свитеру. – Я из космоса, но должна возвращаться, у меня увольнительная закончилась. До свидания.