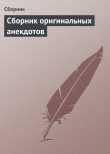Текст книги "Совок и веник (сборник)"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Двадцать – и то много, – так сказал Колин, а Мэлвин тяжело шагнул вперед и добавил:
– Нам кажется, ты мошенник. You are crook.
Мэлвин Петтерсон – бывший штангист, он очень большой и сильный человек. Доменик Фергюсон-Ли играет в регби за команду «London-French». Название у команды дурацкое, но Доменик – весьма накачанный парень. Колин мелковат, но храбрый. Вчетвером мы представляли (так мне показалось) убедительную группу.
– Двадцать фунтов! И спасибо еще скажи!
– Двести. Сразу.
За спиной хозяина открылась дверь, и оттуда вышли четыре человека, такие же крупные, как сам хозяин, такие же мощные, как Мэл, все с перебитыми носами. Видимо, один из них был мой ночной собеседник – я узнал его по характерному «fucking bullshit».
– Деньги. Быстро.
– Знаешь, – сказал рассудительный Колин, – может, лучше заплатить? В конце концов, ты же действительно здесь ночевал. Вот твой пиджак, кошелек внутри.
– Заплати, – сказал спортсмен Доменик, – они по-своему правы.
– В сущности, – сказал Мэл, – каждая гостиница имеет право ставить свой тариф.
Я отдал двести фунтов – странно, что эта сумма нашлась в бумажнике. Часы стоили не намного дороже – сделка получилась сомнительной.
Хозяин хмыкнул, пересчитал купюры, вернул часы, и мы вышли на улицу.
Я пересказал ребятам историю вчерашней ночи.
– «Funky Monkey» – заведение бывших боксеров, – сказал Мэл. – И еще они наркотиками торгуют.
– Странно, что они вернули часы, – сказал я.
– Шутишь! Он же написал расписку! У нас здесь, Макс, закон и демократия. Это тебе не Россия.
– Да, – сказал Колин, – тут, в Британии, все по закону.
А Доменик спросил:
– Слушай, а что, при социализме действительно было бесплатное жилье?
– Да, – сказал я. – Было. Теперь уже нет.
– И давали квартиры беднякам?
– Маленькие, конечно, но давали. Не дворцы.
– Воображаю себе эти хибары! Воображаю эту социалистическую помойку! Fucking bullshit! Концлагерь!
И Доменик сплюнул.
Трусы и бомба
Однажды я потерял в лондонском метро свои трусы. История, между прочим, банальная, хотя можно вообразить невесть что.
Дело было так. В тот год (как раз началась война в Ираке) я жил в Лондоне, ездил на работу в Брикстон и много пил. Умерла моя мама, на душе было тошно, а выпивка вроде притупляла боль. Я приезжал на Coldharbour lane, садился рисовать офорт и ставил перед собой бутылку чего-нибудь крепкого – а к вечеру бутылку выпивал. Выходил из мастерской, пошатываясь, плелся к метро, доезжал до дома, валился спать, а утром все сначала. Так вот и жил.
Пока пил, спорил со своими печатниками о войне в Ираке. Война вот-вот должна была разразиться – кровавому тирану Саддаму дали месяц на то, чтобы он уничтожил ядерное оружие, которого у него не было. «Посмотрим, посмотрим, – говорил Мэлвин, – как поведет себя этот ублюдок! Ему дали шанс! Он не заслужил этот шанс, но мы дали шанс!». Я доказывал Колину и Мэлвину, что у Саддама нет оружия массового поражения, а значит, он не может его уничтожить.
– Условия задачи невыполнимые, – говорил я Мэлу, – ты не можешь отдать то, чего у тебя нет!
– Нет уж, пусть уничтожит! Если хочет мира – пусть уничтожит бомбы!
– Это логично, Макс! – горячо говорил Колин. – Мы требуем уничтожить ядерное оружие. Вот и все.
– Но у него нет ядерного оружия!
– Саддам Хусейн, – говорил Колин значительно, – убивает в день пятнадцать тысяч человек.
– Что за бред?
– В газете написано!
Каждый день ребята прочитывали две-три газеты, как и подобает англичанам. В забегаловке у Дианы на столиках валялась желтая пресса, покрытая бурыми пятнами кетчупа. И Мэл, и Кол набирали себе «Daily mail», «Evening standard», «Daily post» – и придирчиво изучали. На третьей странице всегда фотография девушки с большими голыми грудями, на последней – свежие новости о Романе Абрамовиче и футболе, а в середине газеты – немного о политике. Мэл лопал сардельки и читал все подряд: он долго разглядывал девичьи прелести, долго читал про футбол. Но и политикой тоже увлекался.
– It is very serious, Max. He kills indeed.
– Пятнадцать тысяч в день? А в месяц это сколько выходит? А в год? А народу вообще в Ираке сколько? Ты хоть посчитай!
– Может быть, он убивает пятнадцать тысяч в месяц, – сказал Мэл ответственно и твердо. – Но мы не можем ему и этого простить.
– То есть, в год получается сто восемьдесят тысяч человек? А за десять лет – почти два миллиона?
– Да, Макс. Но мы остановим гада.
– Ваш Блэр – вот кто настоящий гад!
Долгого спора о политике Мэл не выдерживал: футбол и жратва оттесняли сострадание невинноубиенным. После кратких рассуждений о тирании он обращался к теме свиной отбивной в Гримсби и собирал вокруг себя слушателей. Про войну в те дни я говорил с пожилым беженцем из Ирака, который держал прачечную возле метро. Сутулый, сморщенный восточный человек принимал у меня грязные рубахи и печально соглашался с тем, что оружия массового поражения у Саддама нет, а значит, война неизбежна.
– Ведь это же глупо, – говорил я печальному человеку в прачечной, – война неизбежна именно потому, что ядерного оружия нет. Казалось бы, все должно быть наоборот, да? А тут логика отсутствует.
Он кивал, смотрел на меня скорбными глазами и шел стирать рубахи.
– В мире вообще нет логики, – говорил он.
История с трусами тому подтверждение. В тот день я собрал три рубахи, чтобы отдать скорбному иракцу, а в отдельный пакет положил трусы и носки. Когда шел на работу, отдал в прачечную пакет с рубахами, а пакет с трусами отдать забыл – почему так произошло, объяснить не могу, вероятно, заболтались о войне. Уже на улице я сообразил, что один из пакетов все еще при мне – и решил, что возвращаться не стану, занесу трусы в прачечную по дороге домой. Но возвращался я поздно, и прачечная была закрыта. Я был уже пьян, меня шатало, я хотел спать. На душе было скверно, я купил еще шкалик водки у метро, выпил, совсем захмелел. Я уснул в вагоне, едва не проспал свою остановку, но все-таки проснулся, вышел – а трусы забыл на сиденье.
Пропажу обнаружил утром, когда протрезвел. Это было настолько несуразно, что даже и рассказать про это было невозможно. Как и в случае с отсутствующим оружием массового поражения, которое надо уничтожить к определенному сроку, иначе начнется война – история с пропажей трусов не поддавалась внятному объяснению. «Я напился и потерял трусы в метро» – дико звучит. «Я потерял трусы в метро, потому что у меня умерла мама» – того не лучше.
Я приехал на работу, весь день мы печатали офорты, а вечером ребята-печатники стали собираться на party – Мэл пригласил нас всех в знаменитый клуб «Blacks».
Все отнеслись к этому походу ответственно: Мэл отыскал в шкафу свежую футболку, Колин достал из тумбочки перстень с черепом и надел на палец, а Мэган вплела в волосы какую-то пеструю дрянь – так, для самовыражения.
Прежде, когда создавали произведения искусства, отличающиеся одно от другого, творцы прекрасного не особенно следили за своей внешностью. Скажем, Ван Гог одевался в принципе так же, как Поль Гоген, Пастернак не тратил много времени на макияж, а Жан Поль Сартр не беспокоился о прическе. Полагаю, что художники исходили из того, что миру интереснее их продукция, нежели внешний вид.
Все радикально изменилось с тех пор, как продукция у всех творцов стала одинаковой. Возникла парадоксальная ситуация – вроде как с моими трусами или с ядерной бомбой у Саддама. С одной стороны, искусство открытого общества зовет к свободе, с другой – художники производят стандартную унифицированную продукцию; согласитесь, одинаковая продукция не демонстрирует свободы. Как быть, если видео, инсталляции, абстракции похожи друг на друга до неразличимости? Если N рисует квадраты и NN тоже рисует квадраты, то как отличить N от NN? Если A пишет матерные частушки и B пишет матерные частушки, то вопрос идентификации A и B, причем самоидентификации в том числе, встает очень остро. Участники художественной жизни второй половины двадцатого века подошли к проблеме серьезно. Отныне сам художник сделался необходимым дополнением произведения: его одежда, стиль жизни, внешний вид играют роль значительно более важную, нежели произведение, которое художник создает.
Скажем, в Берлине на всех вернисажах можно встретить двух бритых налысо лесбиянок в розовом трико из латекса. Это немолодые усталые тетки с потасканными лицами. Если бы их одеть просто в платья – на них никто бы не обратил внимания. Если бы они выглядели как все, их произведения (они делают что-то прогрессивное, забыл, что именно) не привлекли бы внимания общества. Но вот появляются в зале два странных лысых розовых существа – и общество взволновано. Люди понимают, что им предъявлен «message». Подобных месседжей ровно столько, сколько существует более или менее заметных фигурантов художественного процесса. Кто выщипывает брови, кто одевается в военный френч, кто носит повязку через глаз, кто рассказывает о своем сексе с домашними животными, кто борется за однополую любовь, и так далее, – одним словом, произведения недостаточно, самовыражение необходимо зафиксировать в облике творца.
И тем примечательнее, что иным деятелям удается без особых усилий приобрести выразительный внешний вид – тогда как большинство потеет, вырабатывая правильную жизненную концепцию.
Вот, допустим, Мэлвин Паттерсон – огромный лысый мужчина с большим животом. Он носит рваную кожаную куртку и тяжелые армейские ботинки, он выглядит так, словно рисует квадраты на полиэтиленовых мешках, потом в эти мешки испражняется и швыряет их с крыши дома. Выглядит Мэл как серьезный человек, которому есть что сказать миру. Но нет, месседж Мелвина гораздо скромнее – он всего-навсего рисует кошек. А выглядит как радикальный художник. Видимо, из-за внешнего вида его и приняли в клуб «Blacks», где собирается продвинутая художественная публика.
Мы доехали до клуба, прошли внутрь – вы наверняка бывали в таких заведениях: что-то вроде дискотеки, только считается, что публика думает о высоком. Все курят марихуану и пьют пиво. Привычная наша брикстонская рванина смотрелась тут как продуманный туалет.
Мы уселись за стол, заказали пива, Мэл познакомил меня с радикальным художником Крисом – бритым наголо геем. Свою сексуальную ориентацию Крис обнародовал незамедлительно после знакомства, он говорил напористо, с вызовом. Крис рассказал также и о своем творчестве. Он собирался обмазать рояль навозом (честное слово, я не сочиняю) и сыграть на нем. И вся фигура Криса свидетельствовала о его неординарности – на пальцах у него были перстни с черепами и фаллосами, в ушах серьги, футболка не закрывала живот, а на животе была татуировка.
– Макс тоже художник, – сказал Мэлвин, и Крис посмотрел на меня подозрительно. Он не склонен был так вот сразу дарить мне титул художника. Много развелось сегодня филистеров, которые именуют себя художниками.
Он спросил меня, что я делаю, и мне стало неловко. Я вообще стесняюсь говорить, что рисую картины – это звучит примерно так же убого, как если сказать, что развожу герань или вышиваю крестиком. И «занимаюсь офортом» тоже не звучит.
И тут я понял: мне есть что сказать. У меня тоже есть месседж. Неважно, что мой месседж прозвучит нелогично – какая уж тут логика, если войну объявляют по причине отсутствия того, что послужило бы поводом к войне.
– Вчера в метро я потерял трусы, – сказал я.
Колин и Мэлвин поглядели на меня тревожно, а Крис всмотрелся мне в лицо внимательно – и в его маленьких обкуренных глазках я прочел одобрение. Мы говорили с ним на одном языке. Он поверил в то, что я тоже художник.
– На какой станции? – спросил Крис.
– В районе Стоквела, – сказал я наугад.
– Да, там народу немного. Вечером, да?
– Часов в одиннадцать.
– Cool. Really cool.
Взгляд его сделался мечтательным: он воображал себе сцену в вагоне.
Нам принесли пиво, и мы чокнулись с Крисом. Потом перешли на дрянной виски, и скоро я напился. Разговор за столом был обычным для того времени: о демократии, о том, что нельзя сидеть сложа руки, когда fucking Hitler готовит ядерную войну, немного о гомосексуализме, немного о концептуализме – словом, обычная болтовня интеллектуалов. И мне было приятно, что дурацкая история с пропавшими трусами помогла мне втереться в общество по-настоящему радикальных людей.
Вправь, Британия!
Бывают такие конфликты, куда и встрять противно, и остаться в стороне зазорно. Мысль принадлежит, может быть, Рузвельту, и выношена им в сорок третьем году минувшего века, однако меня эта мысль посетила совершенно самостоятельно. Ко мне обратилась девушка Меган с жалобой на коллег-печатников, на Мэлвина и Колина. Дело обычное – ей не платили зарплату. В России такое случается сплошь и рядом; прежде, кажется, шахтеры бастовали, а сейчас даже они не бастуют – какой прок бастовать? Вот и у Меган шансы бастовать были невелики, кому протест демонстрировать? Но высказаться хотелось. Мы остались с ней вдвоем в комнате, и вдруг она заговорила про деньги, резко так заговорила, с болью.
Многие люди стесняются поминать о деньгах, боятся произвести дурное впечатление, меня родители так воспитали, что про зарплату поминать неловко. Я попытался остановить Меган, предложил поговорить об искусстве. Однако Меган хотела говорить именно о деньгах – ее, как ни странно, именно этот вопрос волновал, а искусство во вторую очередь. Такое бывает с людьми, если у них нет денег; я замечал, что бедняки говорят о материальной стороне существования с увлечением. Вообще, нищие – крайне меркантильные люди, есть у них такой грех. Видимо, поэтому их не часто допускают в порядочное общество.
Меган пересказала разговоры с Мэлвином. Мэл, оказывается, сообщил ей, что за три месяца работы ничего не заплатит. Совсем ничего.
– Не может быть!
– Все из-за тебя, Макс.
– Из-за меня?!
Я платил печатникам регулярно, раз в месяц переводил деньги за работу. А уж как они делят их меж собой, про это я не думал. А тут узнал. Оказывается, глава мастерской – Мэлвин, его ассистент – Колин, а Меган с Домеником – наемные рабочие. Тот факт, что мы все вместе сидим у Дианы, ничего не меняет в капиталистической иерархии. Мэлвин берет себе половину, Колин – двадцать пять процентов, а Меган с Домеником делят десять процентов пополам.
– А где еще пятнадцать процентов?
– Аренда.
Что-то похожее, вероятно, ощутил Диккенс, обозрев условия работных домов, и Радищев, когда глянул окрест себя и ужаснулся несправедливости общества. Я не думал об условиях ее труда, каюсь! Совсем не думал! Отчего-то я был уверен, что наша дружеская болтовня в харчевне, наши споры о Саддаме, наши вечера с чаем и пивом – все это гарантирует честность при расчетах. Меган работала больше всех, она приезжала на своем дрянном велосипеде первой и уезжала последней – а этот жирный Мэл, обжора и демагог, платил ей копейки! А потом и вовсе перестал платить. Мы ходили каждый день в харчевню к Диане, Мэл лопал сардельки и читал «Sun», а тем временем вот что творилось! И тут я вспомнил, что последнее время Меган не ходила со всеми на обед – у нее денег не было. Обеды у Дианы дешевые, фунт или два, но для нее и это было дорого.
Оказалось, причина во мне – за три месяца я не утвердил ни одного офорта, и Мел понимал, что придется работать сверхурочно. Он решил не платить наемным рабочим зарплату.
– Мэл говорит, что ты не доволен моей работой. Разве я плохо работаю? Ты приказал, чтобы мне не платили, да?
Она работала лучше всех. Мэл говорил часами по телефону и беспрестанно жрал, а Меган работала без перерывов.
Что я мог сделать? Я пошел к Мэлвину, к огромному лысому Винни Пуху, который оказался еще и капиталистом, держателем акций на мед.
Мэлвин с Колином как раз распечатали пакет с бутербродами, вскипятили чайник. Мел доброжелательно чавкал и подбородком указал на чайник – мол, присоединяйся, наливай чайку. Он был в том блаженном состоянии, которое англичане передают идиомой «enjoy yourself». Скажем, дают тебе бутерброд и советуют «наслаждаться собой», то есть получать вкус от жизни. Мэл – мастер искусства «enjoy yourself» в окружающем мире. И Колин тоже.
В нашей команде лишь двое чувствуют себя уверенно, лишь двое твердо знают, что по праву топчут загаженные улицы квартала Брикстон, заплеванного криминального лондонского предместья. Эти двое счастливцев – Колин и Мэлвин. Они натуральные англичане, без примесей. Они у себя дома. Дом – такой, какой есть, грязный местами, местами величественный, но это их Лондон, это их Англия. Мэл не особенно любит северный Лондон, а уж северо-западный Лондон – то есть город богатых пижонов – он презирает. Здесь, в Брикстоне, ему все по душе.
– Если жить в Лондоне, love, то в южном. I tell you.
Мел живет недалеко от мастерской, снимает вместе с тремя музыкантами (два ударника и гитарист) дом в Пелхаме. У каждого по спальне и общая гостиная.
– Как ты с ними уживаешься, Мэл, – говорю я. – Ведь они играют на барабанах.
– Мы, англичане, – говорит Мэл значительно, – любим музыку. We really do. – Мэл внимательно смотрит на меня. Многие народы, говорит его взгляд, только делают вид, что любят музыку, а мы, англичане, любим музыку непритворно. – Honestly, Max. We do love music.
– Разве это музыка? – впрочем, про Вивальди я решил в тот раз не говорить.
– Ты слышал, как играет Саймон?
Саймон иногда к нам заходит, он производит впечатление дауна. Но, может, это поверхностное впечатление, не всякий человек, у которого нет лба, а во рту зубов, который матерится и играет на барабане, даун. Саймон – барабанщик. Однажды он специально для нас стучал по барабану. Очень долго стучал. Правда, он был обкуренный, и время для него текло незаметно.
– Слышал.
– Тебе не нравится? А вот мы, англичане, любим музыку.
Словосочетание «we, Britons» выскакивает у Мэла легко, употребляй кто в Москве в такой же частотой выражение «мы, славяне», – его бы записали в ксенофобы. Впрочем, Мэл и есть ксенофоб. Странным образом, это никого не обижает: окружающие признают правоту Мэла, только сетуют, что не всегда подходят под его стандарты. Англия – такая страна; да – особенная, а лучше все равно нет. И оглядываются на нее с завистью прочие народы, и страдают оттого, что не англичане.
Вот в Доменике Фергюсон-Ли гуляет четвертушка шотландской крови, и это создает неудобство в разговоре. Например, когда Мэлвин хочет сказать очередную гадость о шотландцах, он прикрывает рот огромной ладонью и шепчет нам на ухо страшным шепотом, оглядываясь на Доменика:
– Шотландец падает с крыши, пролетает мимо окна кухни и кричит жене: на меня сегодня не готовь!
Колин закатывается смехом на полчаса.
– Скупердяи! Scots! Хо-хо-хо! Уроды!
– Боится, что жена лишних бобов сварит!
Доменик, конечно, все слышит, уходит в дальний угол мастерской, там страдает от своей неполноценности. Здоровенный спортсмен, игрок в регби, он переживает. Ему не приходит в голову восстать – поспорить с Мэлвином, например, о первенстве английской нации. Он просто томится.
Меня англичане в расчет не берут – смесь русской и еврейской крови для них представляется нонсенсом. При мне они охотно ругают другие народы: ну что может возразить русский еврей, если при нем костерить ирландцев, французов, поляков, шотландцев, бельгийцев и американцев?
Поляков в Лондоне сегодня несчитано, и все на ремонтных работах, поляков не любят за их живучесть (сказалось ли здесь отношение Черчилля к Польше?). Ирландцев не любят традиционно, прежде на гостиницах писали «no black, no irish». Французов не любят за то, что они французы, – когда я завел берет, меня стали дразнить «мсье Пьер», просто потому, что быть похожим на француза смешно. Бельгийцы – тупорылые, шотландцы – скупые, немцы – дураки. Словом, коренной англичанин имеет свои взгляды на национальный вопрос.
С американцами дело, конечно, сложнее. Американцы – союзники в войне с bloody bustard Saddam, и вообще с ними много общего.
Сегодня речь шла о Меган Фишпул – о нашей Меган! – и Мэл явил звериный лик британского националиста и капиталиста. Я спросил у Мэлвина, знает ли он, откуда Меган родом, знает ли он, что Меган – американка.
– Я знаю, Макс. Seriously. I’m informed.
Он сказал это с таким выражением, будто он генерал армии, а я доложил ему, что полковник Фишпул – шпион.
– Ты отличаешь англичанина от американца? – вопрос глуповатый, признаю. Я имел в виду то, что Меган уже двадцать лет прожила в Лондоне, усвоила характерный лондонский стиль: рваная юбка, шлепанцы на босу ногу. Чикагские девушки выглядят иначе, одеваются почище. Я имел в виду то, что она разделяет их жизнь.
Мэл, когда его спрашивают об очевидных вещах (например, брать у Дианы одну отбивную или две), поднимает брови на круглом лысом лице.
– I do, Max. Honestly. Отличаю.
– А как отличаешь? Вот Меган работает с вами лет десять. И по-английски хорошо говорит.
– Yeah. She does.
– Но ты ее за свою не считаешь.
– Not really, Max. Она нам чужая.
– Почему, Мэл?
Мэл растерялся, повернулся за помощью к Колину. Тот пожевал губами, поразмыслил.
– Мы не можем ей до конца верить, Макс.
– Да, – сказал Мэлвин, – в этом все дело. Мы не можем ей верить. We do not trust her!
– Но почему?
– Она не англичанка.
– Только англичанам верите?
Колин с Мэлвином посмотрели на меня. Сам-то ты как думаешь? – говорил их взгляд.
– That’s right, Max.
В эпоху глобализации, когда правители мира внедряют общие стандарты цивилизации, чудно было слушать такое. Да и вообще – разговор происходил в Брикстоне, не странно ли именно здесь высказывать имперские взгляды? Все-таки Брикстон – это место, где живут преимущественно не-англичане. То есть иные из этих темных людей – британцы по документам (а многие и нет, документы в Брикстоне не в чести), но по крови практически никто не англичанин. Негры с Ямайки, индусы, африканцы из разных мест Африки, поляки, кого только нет – интернациональная помойка.
Но дело даже не в этом. О том, что он не может верить Меган, говорил тот, кто украл у девушки деньги. Но нет, и это не главное. Главным было то, что здесь, в Брикстоне, мы были окружены вопиющей, оглушительной нищетой. Она смотрела на нас изо всех щелей, из-за каждого поворота. Может быть, на Пикадилли и возникает желание провернуть выгодное дельце, облапошить партнера – но как такое может прийти в голову в Брикстоне? Как может бедняк унизить бедняка, обмануть собрата по бедности? Мне захотелось обидеть Мэлвина, сделать ему больно. Пробить шкуру Мэла непросто, но я постарался.
– Ты, Мэл, думаешь, вы прожили бы без эмигрантов? Вот ты поляков ругаешь, а ты бы пошел плитку класть в метро?
– Я не ругаю поляков, – Мэл чавкал бутербродом с тунцом. – Пусть себе кладут плитку. Не возражаю.
– Ты шотландцев ругаешь, а чей виски ты пьешь?
– А я могу без виски. Я джин больше люблю.
– Что, может, и не привозить в Англию виски?
– А может, и не привозить. Не надо к нам что попало возить.
– Вот вы держитесь за свою страну, к вам не въедешь, визу не дадите! Думаете, отраву сюда завезут, да? Но трудности только для порядочных бедных людей, а для ворья – пожалуйста! Дорога открыта! Русских не пускаете? Черта с два! Ваш мэр Кэн Левингстон разрешил всем русским бандитам и мерзавцам купить особняки за десятки миллионов. Раньше индийские раджи скупали, теперь вся русская грязь переехала в Лондон. И вы, Britons, им жопу лижете! Понял, Мэлвин? Жопу вы нашим бандюгам лижете! Посмотри на своих лордов и сэров – они все пошли в обслугу к нашему ворью!
Мэл побурел от злости.
– Никуда мы не пошли.
– Еще как пошли! Побежали! Жопу лизать вы, англичане, мастера! Вы только нищих горазды обижать! Тут вы молодцы, всех обскакали! А перед богатыми на задние лапки становитесь!
– Много ты про нас знаешь, – сказал Колин.
– Что надо, все знаю! И как ваши галеристы к нашим богатым ворам на поклон бегают, и как ваши певцы к нашим бандюгам на дни рождения летают. Ваших англичан только рублем помани – на карачках приползут! Любую дырку до блеска вылижут!
– Не смей так говорить про Англию, Макс, – сказал мне маленький и гордый Колин.
– Негров ругаете, а вся ваша британская музыка вышла из негритянских блюзов. Своей-то у вас нет и отродясь не было. Какая такая музыка у англичан? – Я был злой и говорил резко. – Ну хоть один приличный композитор у вас есть? Бриттен, что ли? Дрянь ваш Бриттен, мухи дохнут. А весь ваш рок и музыкой-то не назовешь. А философы у вас есть? А художники приличные? Гольбейн один, и тот немец. – Мэлвин с Колиным напряглись, англичане не любят, когда с ними так говорят. – Немец, да! И нечего так смотреть, правду говорю. Люсьен Фройд – австриец. А Бейкон – ирландец. Ну, разве что Хогарт у вас был да Констебль, – но не Леонардо! Извините, дядя, Леонардо ваша нация не производит! Все сейчас носятся с вашим английским искусством, а где оно? Искусство английское – что, Херст ваш убогий?
Этот аргумент возбудил печатников, все-таки они имели дело с рисованием, в рисовании они понимали толк.
– Херст самый богатый художник в мире, – сказал Мэл значительно.
– Самый богатый?
– Да, самый.
– А ты, вижу, деньги считать умеешь? – Я уже плохо собой владел.
– I can, Max. Honestly.
– Тогда почему у девчонки деньги крадешь, сукин сын?!
– Краду?!
– Украл! Сука!
– Я украл?! – Он встал, отложив бутерброд с тунцом.
Мэл набычился и заговорил. Говорил долго. Вот ты лезешь в чужой монастырь со своим законом, говорил он, а что ты про наш монастырь знаешь? Твое какое дело, как мы деньги распределяем? Ты пришел офорты печатать, и я тебе назвал цену – верно? Ты поторговался – я тебе цену сбросил, правильно? А то, кого я найму работать, а кого уволю – это тебя не касается, это мое дело, понял? Наш контракт в том состоит, что ты платишь за произведенную работу – а кто ее будет производить, это мне решать! Я хозяин! Захочу – детей из Индонезии к станку поставлю, вот так, понял? А чем ты больше придираешься к нашей продукции, тем больше времени мы будем работать, и тем меньше Меган будет получать! Понятно? Социалист нашелся! Карл Маркс долбаный! Нет, ты, Колин, посмотри на него! Он деньги платит и еще советует, что нам с его деньгами делать! Ты, когда штаны покупаешь, тоже продавцу советуешь, куда ему твои бабки деть? Ишь, рыцарь выискался, защищает он Меган! Да я ее сейчас прогоню к чертовой бабушке – вот ты о чем подумай! И что, лучше ей станет от твоей защиты? Так она у меня стабильно семьсот фунтов в месяц имеет. Плюс на почте еще шестьсот зашибает. Нормально девка живет, всем бы так! Было бы у нее все в порядке, она бы из Чикаго не уехала. Понял? Пусть спасибо скажет, что папа Мэл дает работу.
Он говорил и бурел, его лысая голова наливалась кровью.
Мы знакомы давно, лет десять, я знал, что оба голосуют за лейбористов. Однажды маленький и серьезный Колин сказал, что ненавидит Маргарет Тэтчер. Так и сказал: hate! Тетчер заявила, что англичанин, который к тридцати годам не обзавелся домом и машиной – лентяй и лузер. Этих слов Колин ей простить не мог. «Я не лентяй! – кричал он. – Но у меня нет дома и машины, я не вор, как ее сыночек, торговец оружием, fucking Marc!» – «Мы никогда, слышишь, Макс, никогда не будем за консерваторов!» – говорил Мэлвин и жевал сандвич. Потом мы не раз спорили с ними о том, что такое современная партия лейбористов. Никакого внятного суждения из их уст я не услышал – но сегодня понял, что они имеют в виду.
Мэл говорил запальчиво, совал мне в нос счета за электричество («Аренду кто платит? А свет? Кто порядок наводит?»), и что хуже всего, я понимал, что он прав. Никакой солидарности трудящихся не существует. Есть хозяин и работник, и никогда они не будут равны. В комнату вошла Меган, встала в углу, смотрела оттуда испуганно. В этой мастерской не принято было кричать на Мэлвина, называть его сукиным сыном. Она боялась, что ее уволят.
– Успокойся, Мэл, – сказал я, – давай работать.
Пока он говорил, я понял, что есть только один выход: я должен платить Меган дополнительно, передавать ей тайком конверт, как это делают в России, подругому не получится. Вот вам и ячейка общества, вот вам и походы к Диане. «Ты рядом, даль социализма», как сказал один прекраснодушный поэт.
– Давайте работать, – сказал я.
Мэл успокоился. Он понял, что победил, черты его крупного лица разгладились.
– Конечно, надо работать. Только вот чай допью! – Он вернулся к бутерброду с тунцом. – Мы, англичане, умеем работать. Megan, love, давай, начинай.
Меган встала к офортному станку.
– А все-таки ты не прав, Макс, – сказала она. – Дамиен Херст очень значительный художник. Зря в нашем мире денег не заплатят.