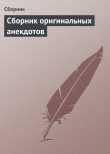Текст книги "Совок и веник (сборник)"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Ты же говоришь, они черных навели.
– Это еще доказать надо.
Потом мы оделись и пошли к метро. Было темно, но не так темно, как в комнате, и я рассмотрел ее лицо. У нее были хорошие мягкие черты, только глаза она прятала, не мог поймать ее взгляд. И рот был неприятный, а вокруг рта все было неестественным. Губы были, как у прачек руки.
К метро мы шли дворами, я срезал путь через подворотни, а когда вышли к метро, мы увидели, как на мостовой умирает старик.
Старик сначала стоял, опираясь спиной о стену, потом сполз по стене, схватился за сердце, повалился на бок в лужу. Здесь, у входа в метро, было светло, старика видели все.
Мимо шли люди, некоторые остановились. Мужчина с собакой сказал:
– Врача бы надо. Только ведь никто не пойдет. В больницу даже позвонить некому. Копейку на телефонный звонок люди жалеют.
– Ты сам пойди, позвони.
– А собаку с кем оставлю? С тобой, что ли? Да, с тобой? Ну, народ!
– За врачом пойдите! Кто-нибудь! Помрет ведь!
– Так уже помер.
Анжелика посмотрела на старика и сказала:
– Подержи, – и дала мне свою сумочку с запасными чулками, миромистином и презервативами.
Она раздвинула большой грудью толпу и села на корточки возле старика.
Я встал у нее за спиной. Еще не понимал, что она будет делать.
– Поверни его на спину.
Я взял старика подмышки, повернул на спину. Он был очень легкий. Стояла теплая слякотная зима, старик лежал в луже, Анжелика встала в эту лужу на колени, склонилась над стариком, потрогала ему шею. Расстегнула стариковское пальто, потом расстегнула рубашку – стремительно так, одним движением, она умела расстегивать одежду очень быстро. Никто не шевельнулся ей помочь, никто еще не понял, что она делает, – а старик уже лежал с голой грудью.
Желтая, костлявая, безволосая грудь. И совсем неподвижная – не дышит уже человек.
– Чего ж ты его раздела, девушка, зима на дворе, – сказал человек с собакой.
Анжелика резко ударила старика открытой ладонью в середину груди, а потом уперлась рукой в грудь и принялась давить и мять грудную клетку. Я понял, что она делает массаж сердца. Она при этом тяжело дышала, будто занималась любовью.
– Ты, девушка, что делаешь, сама знаешь? Ты врач, что ли? – сказал мужчина с собакой.
Анжелика повернулась к мужчине на одну секунду, посмотрела снизу вверх и сказала:
– Пошел на хуй. – Потом она сказала мне: – Снимай с него ботинки, бей по пяткам.
Я снял со старика боты, у моей мамы были такие же, войлочные боты на молнии.
– Носки снимай! – сказала Анжелика.
Снял со старика бумазейные носки, стал бить его по пяткам, гнать кровь в тело. Ступни у старика были холодные, ногти на пальцах ног – кривые и желтые.
– Сильнее бей!
Я бил его по ступням открытой ладонью, потом стал разминать.
– Сильнее! Давай! Сильнее! Давай!
Она стояла на четвереньках, выпятив свой круглый зад, и только приговаривала:
– Давай! Сильнее! Давай еще!
Анжелика прижалась к белым губам старика и стала дышать ему в рот. У нее это ловко получалось, она захватила губами стариковские губы особым профессиональным движением. Губы у нее растягивались легко и как угодно: я забыл сказать, что презерватив она надевала ртом, меня это поразило. Так вот, она дышала старику в рот и давила ему на грудь. Еще, еще, еще – она отрывалась от губ старика, набирала побольше воздуха и опять присасывалась к его рту.
Так продолжалось минут десять. Старик стал дышать. Потом приехала «скорая».
Анжелика встала, поглядела на свои белые чулки, скривилась.
– Как я теперь переоденусь! Меня в десять часов мужчина ждет на Павелецкой.
– Где ты научилась массаж сердца делать? – спросил я.
– Работала два года в урологии, медсестрой. Всего насмотрелась. Хочешь, катетер тебе вставлю? – Она засмеялась. – Если в следующий раз опять стоять не будет, вставлю, так и знай!
Вот где она научилась с гениталиями обращаться, подумал я.
– А зачем ты ушла оттуда?
– А платили мне сколько? Ты не спросил?
Она спустилась в метро, а я пошел домой.
Мы встречались еще два раза. Один раз Анжелика зашла ко мне с тремя подругами – девочки замерзли на улице и пришли в тепло, пить чай с тортом. Это получилось легко – она просто постучала в дверь, а я открыл. У меня были пряники и полбутылки коньяка, и мы славно посидели.
Девушки, как выяснилось, работали неподалеку, стояли на углу Тверской и Мамоновского, совсем близко от меня. Я часто их видел, когда поднимался вверх по переулку. В самые холодные дни они стояли в миниюбках и тонких чулках.
– Целый день там стоите?
– Слушай, давай о работе не будем. И так весь день про гандоны говорим, надоело.
Они обсуждали свою подружку, Ирку-хохлушку, которой повезло: Ирка встретила фирмача из Мюнхена, задурила ему голову, уехала в Германию, родила детей. Ирка-хохлушка теперь гордая, говорит, ее родина – Европа.
– А что, и права Ирка, родина там, где тебя любят, – сказала одна девушка.
– Да что ты, канарейка, что ли? – сказала Анжелика. – Родина там, где ты сама любишь.
– А вот Ирка говорит…
– Хомяк ты, что ли? Где тебя любят, там и родина! Сказала тоже. Тьфу!
– А сама завидуешь Ирке!
– Дура твоя Ирка!
– А вот и не дура!
– Блядь настоящая!
Они чуть не поругались. Подруги у Анжелики были красивые, особенно туркменка Динара. Другие спорили, а Динара молчала, смотрела огромными глазами. Потрясающая девушка. Только губы у нее были натруженные, как руки у прачки.
Я захотел девушек нарисовать. Подумал, что их профессия опять стала символом общества. Когда-то Пикассо рисовал авиньонский публичный дом, в начале прошлого века проституток часто рисовали, а потом перестали. Я подумал, что опять пришла пора.
Я бы их нарисовал очень красивыми, они красивее многих людей, каких я встречал.
Сказал, что когда-нибудь нарисую их портрет.
– Ой, не дождусь!
Последний раз я встретил Анжелику на улице, она шла по Тверской под руку с немолодым господином. Посмотрела на меня, узнала, но отвернулась.
Интересно, это был иностранец, и она нашла свое счастье за границей? Или риэлтор, с которым она покупала квартиру?
Или кто-то, кто провожал Анжелику до метро? Пусть у нее все сложится хорошо, она заслужила.
Честный англичанин
Атака легкой кавалерии
Лет пятнадцать я работаю в Брикстоне, на Coldharbour lane 221B, в буро-кирпичном доме с железными лестницами, крашенными в черный цвет. Некоторым Брикстон нравится – я сам слышал, как этот район хвалят. Не верьте, место гнусное. Пока дохожу от метро до мастерской, раз пять предлагают scunk, так здесь называют косяк.
Мастерская на четвертом этаже, но лифт всегда занят – темные (во всех отношениях) личности, у которых офис на третьем, вечно грузят в лифт тяжелые свертки. Им говоришь: «Вы, ребята, скоро?» – «Oh, – говорят, – man, одну секунду, just a sec, man», – теперь все говорят sec вместо second. По-моему, противно. Я поднимаюсь по железной лестнице, прохожу длинным коридором до своей двери, долго стучу каблуками по железному полу, толкаю железную дверь – а когда вхожу, мне с порога предлагают чай: мои печатники всегда приходят раньше. У них уже на столе и чай, и молоко, и бутерброды.
Я работаю с Мэлвином Петтерсоном и Колином Гейлом, это отличные мастера. Кроме них с нами работает превосходная девушка Мэган Фишпул, а иногда помогает Доменик Фергюсон Ли из соседней мастерской. Они все отличные ребята, главный среди них – Мэлвин.
Помимо того, что он знает все про офорт, Мэл еще и классный рисовальщик котов – он может нарисовать кота спереди и сзади, в ракурсе сверху и снизу, он выпустил книгу «Кошки. Как их рисовать» – и книга выдержала три издания. Еще он бывший рыбак, родом из рыбацкого города Гримсби. Еще он бывший штангист – он и сейчас спокойно относит офортный пресс на второй этаж нашей студии. А еще он похож на огромного лысого Винни Пуха и все время ест. Если хочешь сделать Мэлу приятное, надо спросить его, как он провел выходные.
– I was in Grimsby, Max.
– Visiting your wife?
– That’s right.
– You had a family dinner, I suppose.
– Yeah, Max, indeed. We had indeed.
– And how was your meal?
Мэл отвечает с чувством, с очень сильным чувством.
– Beautiful! It was just beautiful! I am serious, Max, it was beautiful!
И описывает жирную свиную отбивную с горошком, жареный картофель, фасоль, курочку, печенку – рассказывает, как он все это полил кетчупом и сожрал, говорит долго, входит в детали, а пока говорит, делается понятно, что всем уже пора есть. Обычно мы ходим к Диане – некогда сочная (судя по фотографии над кассой) итальянка открыла забегаловку на перекрестке в Брикстоне. Сегодня ей за шестьдесят, в Англии прожила тридцать лет, Италию помнит плохо, даже спагетти не готовит – жратва традиционная: бобы, ветчина, яйца. Моим ребятам еда нравится – они склонны прощать Диане ее сомнительное происхождение, готовит она почти как настоящая англичанка. Мэл одобрительно чавкает, похлопывает Диану по плечу, называет ее «Ди».
Это редкость, чтобы Мэл снисходил до иностранцев. Вообще говоря, Мэл – типичный английский националист: он отзывается о шотландцах и ирландцах крайне насмешливо, французов презирает, а русские с евреями избавлены от его атак просто потому, что он сомневается в реальности существования этих наций. Что еврей, что марсианин – для него это какие-то несуразные понятия.
Однажды я позвал ребят в Германию, во Франфурт, на открытие своей выставки. Мэлвин сидел в аргентинском ресторане, лопал мясо – и вдруг ему пришла в голову забавная мысль, он стал хрюкать от смеха, едва не подавился.
– Что случилось?
– Просто я подумал, что мы сидим во Франкфурте, который разбомбили. И обедаем в аргентинской харчевне, а мы Аргентину тоже расфигачили. Мы всех разбомбили. Германию расфигачили, Аргентину расфигачили. Смешно, правда?
Про Россию он, впрочем, любит спросить – не потому, что интересуется судьбой демократии под гнетом ГБ, а потому лишь, что любит русскую водку. Слово «Россия» он произносит на северный манер (вообще говорит с чудовищным северным акцентом) – «Рушиа», а не «Раша», как прочие британцы. Он, впрочем, говорит «бус» вместо «бас», и «пунд» вместо «понд».
– Макс, ты опять не привез нам настоящей рушен водка?
– Мэл, – объясняю я, – русская водка продается в Лондоне на каждом углу.
– Э нет, это не такая. Вы хорошую себе оставляете.
Я объяснял Мелвину много раз, что русские для себя как раз делают все самое худшее – а лучшее отдают в Европу. Но Мэл не верил. Он считал, что я жадный. Однажды я купил литровую бутылку «Русского стандарта» в аэропорту.
Прилетел в Хитроу, приехал на Coldharbourlane, поднялся на четвертый этаж. Ребята как раз печатали мою серию офортов «Метрополис», посвященную истории западной идеологии. До этого я делал серию «Пустырь» – про Россию. И Мелвину, и Колину очень нравились мои карикатуры на русскую действительность. Насмешки над Британией им казались значительно менее уместными. Однако они работали, печатали серию – когда я вошел, оба были уже измазаны краской.
Я поставил бутылку на стол. Мэл оживился.
– Настоящая рушен водка?
– Да.
– Из Рушиа?
– Прямо оттуда.
Он налил себе немного в стакан, выпил.
– Beautiful! Just beautiful!
Он еще налил – примерно треть стакана. Выпил.
– I can drink it like water. Потому что это настоящая чистая рушен водка. Могу пить как воду.
И опять потянулся к бутылке.
– Мэл, – сказал я, – не надо больше. Еще день на дворе. Давай лучше работать, а вечером разопьем бутылку.
– Глупости, – сказал огромный лысый Винни Пух, – это не водка, а вода. Я могу выпить эту рушен водка – а потом буду работать. На меня не действует рушен водка.
– Мэл, – сказал я, – потом ты будешь пьяный.
– Я? После этой воды? После рушен водка? Я могу выпить всю эту бутылку за пятнадцать минут.
– Ты сошел с ума.
– Я сошел с ума?! Я?!
Надо сказать, что авторитет Мэлвина в нашей мастерской огромен – и Колин Гейл, и Доменик Фергюсон-Ли, и Мэган Фишпул прислушиваются к его словам.
– Он может, – сказал Колин, – Мэлвин это сделает легко. Easy.
– Он выпьет эту бутылку и пойдет потом в паб, – сказал Фергюсон-Ли, гордясь своим старшим товарищем.
А Мэган сказала:
– He is going to drink it all and nothing will be in his shoes.
Идиомы я не знал, но смысл понятен – дескать, ничего не попадет ему в башмак, все до капли вылакает, ему это раз плюнуть.
– Давайте сначала поработаем, – предложил я.
– Карикатуры на Британию рисовать будешь? Сначала я выпью эту рушен водка, а потом стану печатать твои карикатуры.
Мэл предложил заключить пари. Зачем я принял это идиотское пари, теперь уже не могу сказать. Однако ударили по рукам. Мэл сел на железный стул посреди мастерской, поставил перед собой бутылку, взял в руки стакан, налил до краев.
Первый стакан он выпил легко. Вытер губы, победительно осмотрелся. Колин, Мэган и Доменик глядели на него с обожанием. Мэл налил второй стакан, медленно перелил водку в себя. Лицо его приняло сосредоточенное выражение, набрякли вены на висках. Стало заметно, что питье водки не только удовольствие, но в известном смысле еще и работа. Впрочем, такому богатырю эта работенка нипочем.
Он налил третий стакан.
– Может, не надо, Мэл? – спросил я.
Мэлвин посмотрел на меня и ничего не ответил. Подозреваю, что в тот момент он подумывал о том, чтобы отказаться, но гордость англичанина пересилила чувство опасности. Он пил медленно, в три приема. Но выпил. Лицо его сильно покраснело – как-то сразу, вдруг сделалось бардовым. Он тяжело дышал. Он уже выпил примерно граммов шестьсот – достаточная доза для любого. Оставалось четыреста.
– Может, не надо?
Есть такое трагическое стихотворение классика английской поэзии, называется «Атака легкой кавалерии под Балаклавой». Бессмысленный героизм, обреченность и никому ненужная жертва – вот что описал Альфред Теннисон, и, видимо, ему удалось выразить типично английский набор страстей, поскольку именно этот тип трагедии, произошедшей от исполнения бессмысленного долга, – и разворачивался на наших глазах. Каждый, кто знаком с бессмертными строчками Теннисона (неважно, в переводе или оригинале) помнит, что «сытые челюсти смерти» не выпустили никого – кавалеристы скакали навстречу чугунным пушечным жерлам, заранее зная, что их ожидает. Они были обречены, но не отступили: на бессмысленную смерть их гнал долг. Нечто схожее читалось в выпученных глазах Мэлвина – он знал, что обречен, но пил. Он смотрел прямо перед собой, дышал со свистом, стакан в руке покачивался. Колин заботливо наполнил ему стакан.
– Давай, старина, действуй. Go ahead! Прикончи эту бутылку!
Говорят, французский генерал Боке, глядя со стороны, как «шестьсот храбрых» несутся навстречу картечи, воскликнул: «S’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre!» («Это прекрасно, но это не война!»). Точно так же воскликнул бы он, глядя на одержимое лицо Мэлвина Петтерсона, идущего навстречу судьбе, но не бросившего стакан. Это прекрасно – но какое же отношение имеет к выпивке?! Честь англичанина была на карте. Тот зловещий эпизод Крымской войны случился именно потому, что бригада легкой кавалерии состояла сплошь из аристократов – и отступить они не могли: честь не позволяла. Вот и скакали прямо на пушки, и их расстреливали в упор. «There is no choice but to obey» – сказано именно тогда, именно по этому поводу. Нет выбора, только подчиниться долгу – красиво, не правда ли?
Мэлвин поднес стакан к губам.
Выпить литр жидкости, в принципе, можно – здесь нет ничего особенного: почему бы не выпить то, что течет и перетекает из одной емкости в другую? В сущности, речь идет просто о том, чтобы перелить жидкость из одного сосуда в другой. В данном случае жидкостью была водка – Мэлвин перелил в себя еще двести граммов. И с каждой каплей, проникающей в его тело, он делался все более и более страшен. Он стал цвета кремлевской стены. Глаза его были безумны.
– Осталось целых четыре минуты, – сказал заботливый Колин, – мы сделали эту водку только так! Just like this! – забавно, что по-английски это глупое выражение звучит точно так же, как и по-русски.
Колин налил стакан, вложил его в руку Мэлвина. Толстые пальцы Мэла сошлись на стакане, он мог держать его сам.
– Это последний стакан. Вперед! – сказал Колин.
– Не надо, – сказал я.
Но Мэлвин не слышал. К тому моменту он уже ничего не соображал и действовал автоматически, ведомый лишь представлениями о достоинстве англичанина. Так и лорд Кардиган вел своих кавалеристов на пушки, когда вестовой Нолан попытался развернуть бригаду вспять. Нолан погиб, Кардиган погиб, и Мелвин Петтерсон тоже был на краю гибели.
Он выпил последний стакан. Пальцы разжались, стакан упал на пол.
– Видишь, – сказала Мэган. – Дело сделано.
– Как ты, Мэл? – спросил Доменик. – Порядок?
На мгновение всем померещилось, что и правда порядок. Все-таки Мэлвин такой огромный, такой победительный. И вообще, Британия – владычица морей.
Мэл сидел, не шевелясь, – огромный, толстый, красный, с выпученными глазами. Он дышал и молчал. Смотрел перед собой – и ничего не видел. Потом сделал рывок.
Не понимаю, зачем и куда он стремился. Рванулся со стула вперед всей своей огромной неуправляемой тушей. То был трагический бросок – все равно как атака на жерла пушек. Огромное тело Мэлвина взметнулось, но ноги подвели; ноги подкосились, и Мэлвин с маху воткнулся лысым теменем в железный пол.
Тащить его по коридору и вниз по лестнице было непосильной работой, вчетвером еле справились. Дотащили бесчувственного Мэлвина до туалета, свалили тело под раковиной, обрызгали его водой. Он лежал неподвижно, кровь текла из разбитой лысой головы. Приехала «скорая», его откачивали, вставляли какие-то трубки в гортань, давали рвотное. В себя Мэлвин пришел через три часа. Полежал в туалете, потом с нашей помощью встал.
Темные соседи по зданию разрешили воспользоваться лифтом. Мы подняли Мэла в мастерскую, вели его по коридору под руки.
Он сел на свой стул (надо сказать, у него есть особый стул, не всякий стул выдержит такую фигуру), огляделся. Видно было, что он силится понять, что произошло. Колин и Мэган заботливо заглядывали ему в лицо, щупали пульс.
В комнате тем временем стало темнеть. Вечерело. День пропал.
Взгляд Мэлвина постепенно наполнился смыслом. Он увидел пустую бутылку, кое-что вспомнил. Обратился к нам.
– This Russian vodka, I tell you. – Вот все что он сказал: «Эта русская водка, скажу я вам».
И ничего больше не добавил.
Прошу не считать данную историю рекламой «Русского стандарта». Сам я водку терпеть не могу, пью только красное вино.
Темные люди спор о социализме в лондонской ночлежке
В 2000 году я снимал квартиру в Хемпстеде, это такое буколическое место на севере Лондона, модное, сонное, для богатых поэтических пенсионеров. Они там поддерживают иллюзию патриархальной английской деревеньки – все по-домашнему мило, нет цветных соседей, шелест зелени за окнами, продукты втрое дороже, чем даже в Свисс коттедж, ближайшем районе. Словом, рай, if you know what I mean. Мои знакомые эмигранты из кожи вон лезли, чтобы поселиться именно в Хемпстеде и на визитной карточке про свое location написать, скромно, с достоинством. Вот и я целый год прожил в этом удивительном районе, на третьем этаже викторианского дома – в однокомнатной квартире с большой террасой. Когда выбирал квартиру, именно терраса меня пленила, а потом начались холода, полили дожди, и на террасу я не выходил. Зато жил в Хемпстеде, среди чистой публики, и, если кто спрашивал адрес, я отвечал небрежно, и собеседники кивали. Хемпстед, как же!
Я ездил через весь город в заплеванный криминальный Брикстон, в офортную мастерскую на Coldharbour lane, и дорога занимала час с четвертью. Иногда, если ехать на двух автобусах не хотелось, а метро бастовало, я останавливал кэб. Но черные кэбы не желают ехать в Брикстон, особенно во второй половине дня. Попробуйте, проведите эксперимент, остановите черный кэб часов в пять-шесть вечера и уговорите отвезти вас в Брикстон – как правило, кэбмен просто жмет на газ, в длительную беседу не вступает. А станций мини-кэбов (есть такие полулегальные конторы, с дешевыми раздолбанными машинами и цветными водителями) в Хемпстеде нет. Так что я влекся с севера на юг на автобусах с пересадкой, и наблюдал, как меняется за окном ландшафт. Пастораль Хемпстеда сменяется урбанистическим реализмом центральных районов, потом – критическим реализмом южных районов, а потом и шумной помойкой Брикстона. Меняются и лица за окном: в Хемпстеде – неспешные белые интеллектуалы, в центре города верткие менеджеры и среди них уже попадаются цветные, на юге – двуцветные обалдевшие обыватели, в Брикстоне фауна разительно темнела, белые делались серыми от усталости, а черные – лиловыми от пьянства.
День я проводил в мастерской, а вечером возвращался назад – к чистой жизни. Уходил из мастерской всегда последним. Мои печатники (Мэлвин, Колин, Доменик) уходили в семь, а я работал до десяти. Однажды засиделся до одиннадцати, посмотрел на часы и испугался, что пропущу последний автобус, придется долго идти до метро. Я выбежал из здания, захлопнул за собой железную дверь с кодовым замком, помчался к остановке – и увидел фары уходящего автобуса. Следующий придет (если вообще придет) только через полчаса. Ждать было холодно, и – как и все, кто мерзнет, – я обхватил себя руками и тут же понял, что второпях не взял со стула пиджак. Поняв это, я приуныл.
В мастерской остался пиджак, в карманах которого находились ключи, бумажник, телефон – словом, все то, что делает человека человеком. От небытия и варварства нас отделяет тонкая пленка, набор мелких предметов: кредитные карточки, память мобильного телефона, ключ от квартиры, записная книжка, паспорт. Вот отняли у тебя эту чепуху, и ты гол и беззащитен перед природой. Что бы я сказал полисмену – если бы таковые водились в Брикстоне? Иногда полисмены совершают показательные рейды по этому неблагополучному району – едут на трех джипах разом, а пройтись в одиночку по улицам Брикстона после десяти вечера никому из них не хочется. В нашей мастерской работал один парень, Сирил – он пробовал стать печатником, потом сделался полицейским, потом спился. Я встречал его в харчевне у Дианы, он вечно сидит там пьяный со своей беззубой подружкой. Он мне и рассказал, что быть полицейским в Брикстоне хреново: обязательно побьют. Впрочем, он же мне сказал, что его дама не вставляет себе зубов намеренно: отсутствие зубов делает оральный секс в ее исполнении незабываемым. Так что не поручусь, что сведения о полицейских вполне достоверны: видимо, некоторых полицейских в Брикстоне бьют, а кого-то и нет. Это как с наличием зубов во время акта любви – кому что нравится.
Короче говоря, я стоял на пустой улице – и деться мне было некуда. Добраться до своего буколического дома в Хемпстеде было не на что – даже фунта на метро не было. (Тогда билет в метро стоил один фунт двадцать пенсов, чудно вспоминать). Я обшарил карманы – и двадцати пенсов не было на звонок другу. Попросить двадцать пенсов у прохожего? В Брикстоне не хотелось этого делать – прохожие в Брикстоне расположены скорее забрать, нежели отдать. Впрочем, и прохожих не наблюдалось, и я подумал, что это, пожалуй, хорошо, что прохожих нет. Один я хожу туда-сюда. Прошелся до перекрестка, вернулся обратно. Бессмысленная ходьба. Пешком идти в Хемпстед? Через мост, через весь город? Часов за пять, может, дойду, если не заблужусь в Южном Лондоне. И как без ключей попаду домой? Лезть по водопроводной трубе на третий этаж не хотелось. Да и не влезу я по трубе. Я стоял на Coldharbour, было темно, поздно, холодно. Я вспомнил про обычай чикагских гангстеров вшивать сто долларов в подкладку пиджака – на всякий случай. Впрочем, пиджак я все равно забыл. И кстати, найди я бумажку в сто долларов – что бы я с ней сделал? Метро все равно закрылось. Я бы мог расплатиться с отелем, подумал я. Да, именно так: за сто долларов можно получить ночлег. Как же я раньше не сообразил: существуют гостиницы! Я ведь в цивилизованной стране!
Переночевать в гостинице – естественная, вообще говоря, мысль, меня посетила не сразу по простой причине: в Брикстоне гостиниц нет. Ну, как вы себе это представляете? Приехал турист в Лондон и думает: снимука я номер в Брикстоне? Нет в мире таких туристов. Вот и гостиниц в Брикстоне нет. Я поплелся вверх по Coldharbour, заглядывая в темные окна. Бедный район отличается от богатого тем, что там нет ночной жизни, а нищий район отличается от бедного тем, что там есть некая ночная жизнь, но лучше бы ее не знать. Большинство домов стояли темными, но в некоторых горел свет и там темные люди обделывали темные дела. Заглянув в такие окна, я тут же бросался прочь, опасаясь, что они заметили соглядатая. Я не расист, честное слово, но ночной поход через Брикстон мне совсем не понравился. Так я дошел до бара «Funky Monkey», где темные личности все еще пили – и зашел внутрь. Нет нужды описывать бар: всякий видел такие заведения в кино про бандитов из предместий. Вероятно, режиссеры тратят большие деньги на создание злачной и отчаянной обстановки – в случае «Funky Monkey» эффект достигнут естественно.
Я спросил у хозяина, огромного негра со сломанным носом, можно ли мне поспать в углу. Негр предложил купить выпивку, а уже потом спать. Я сказал, что у меня нет денег, и негр обшарил меня цепким взглядом, задержал взгляд на часах.
– Можешь поспать наверху, – сказал он.
– Но мне нечем платить.
– Отдай часы.
– Давай лучше договоримся: утром я от тебя позвоню друзьям, они занесут деньги.
– Оставь до утра в залог часы.
– А ты мне их вернешь?
– Man! Ты хочешь меня обидеть. Я честный человек. Я напишу тебе расписку.
Несколько темных людей сгрудились у стойки и стали писать расписку. Они хохотали, кивали на меня и вновь склонялись над бумагой. Написали. Мол, я, такой-то, отдам часы такому-то, если он оплатит ночь в моем отеле. Дали мне бумажку, я снял с руки часы и пошел наверх.
Наверху была ночлежка.
На полу лежали тонкие матрацы – ни белья, ни одеял и подушек, ни стульев или тумбочек, ни ламп. Вообще никакого света – только через окно светит уличный фонарь. И очень грязно. И накурено. Запах был сладкий, приторный: курили анашу.
На полу, то есть на матрацах сидели четыре темных человека и курили. Разглядеть черного человека в полумраке можно, но он кажется довольно страшным. Эти люди и при свете, думаю, пугали, а в темной комнате с ними было совсем неуютно. Я сел на матрац в углу, ботинки решил не снимать.
– Ты где живешь?
Я чуть было не ответил: в Хемпстеде. Но вовремя одумался. Это был бы неверный ответ. Я мгновенно сообразил, что если эти ребята и слышали про Хемпстед, они к этому району относятся с предубеждением.
– Я из России, – сказал я. И поразился, до чего мой ответ прозвучал скорбно. Так и должен говорить беженец в ночлежке – усталым тихим голосом сообщить, что он бежал из России.
– Man! Ты из Раша?
– Да.
– У вас дерьмово, да? ГБ пришло к власти? – все-таки бесплатные газеты в пабах делают свое дело.
– Да, – сказал я, – ГБ у власти.
– Раньше, – сказал крупный парень, – у власти был Сталин. Сталинское наследие, мужики. Социализм – это страшно. Произвол и террор. Диктатура.
– Раша – сраная страна, – согласился его сосед.
Мне стало обидно за свою страну, за ГБ, за социализм. В конце концов, подумал я, здесь не Версаль, чтобы вот так сходу хаять социалистическое прошлое моей Родины. Отчего-то я считал, что бедные люди всех стран мира должны сочувствовать социализму – а у постояльцев «Funky Monky» сочувствия не было никакого. Они бранили тоталитаризм с убежденностью ньюйоркских housewifes. Допустим, домохозяйкам есть что терять – а этим-то убогим, здесь, в Брикстоне, в вонючей дыре, сидя на паршивом матраце, – им-то что? Я решил заступиться за свою несчастную Родину. Были у нас и достижения. Про Пастернака я говорить не стал, но сказал про жилищный сектор.
– У нас было бесплатное жилье, – сказал я, – квартиры всем давали даром.
– Ты врешь, man.
– Нет, я не вру.
– Мне, черному человеку, гею, дали бы жилье? Хаха! Не гони.
– Дали бы, конечно.
– Не гони, man. This is bullshit. Я знаю, что коммунисты сажали геев в тюрьму! У вас был концлагерь, man! Социализм это fucking bullshit!
– У нас была бесплатная медицина, – сказал я зачем-то.
– Мне, черному ублюдку (он так и сказал: «black bastard»), дали бы бесплатное лекарство? Ты гонишь. Я курю skunk и меня не пустят в вашу социалистическую сраную больницу. У вас концлагерь, понял!
– И образование у нас было бесплатное, – сказал я темным людям в ночлежке.
– Fucking university. У меня нет образования, я свободный человек. Что ты на меня так смотришь? Я свободный человек, понял?
Я на него никак не смотрел, я его едва видел.
– Тебе не нравится, что я гей? Да? Не нравится? Сука коммунистическая! Не трогай меня, понял? Не трогай меня!
Я до него, разумеется, не дотронулся и пальцем. Более того, я боялся до него дотронуться.
– Не трогай меня! Иначе пожалеешь! Ты пожалеешь! Ты будешь о-о-о-очень жалеть, сука! U gonna be verrrry sorrrry!
– Я тебя не трогаю.
– Тебе не нравится что я гей? Да? Не нравится? Не нравится, сука? А это мой, сука, свободный выбор! Здесь демократия, понял?
Я вдруг понял, почему при демократическом строе вопрос о гомосексуализме стал актуален. Дело в том, что любовь народа к демократии – своего рода однополая любовь. Монархия провоцирует гетеросексуальные инстинкты, а демократия – гомосексуальные. Но тогда я эту мысль додумать не успел.
– Ты коммунист? Говори мне правду, сука!
– Нет, – сказал я, – не коммунист.
– Но ты не любишь демократию, man! Я чувствую, ты не любишь демократию!
Так мы говорили еще полчаса, и я обрадовался, когда они решили, что пора спать. Я лег на матрац, положив под голову свернутую рубашку (на мне была еще футболка, а ложиться лицом на матрац не хотелось).
Когда проснулся, в комнате был только один негр. Рубашка моя исчезла.
– Отдай рубаху.
– Какую рубаху?
– Мою рубаху, я положил ее под голову!
– Man. Зачем ты врешь. Ты был без рубахи.
Я спустился вниз, хозяин разрешил мне позвонить, и я набрал номер мастерской. Колин и Мэлвин были уже на месте. Я попросил их прийти с деньгами, выручить меня.
– Сейчас прибегу, – сказал Колин. – Твой пиджак я нашел.
– Пусть Мэл тоже придет, – сказал я.
– Мэл всегда рад пройтись. Он купит сэндвич по дороге.
– Захватите с собой Доменика, – я так сказал, посмотрев на хозяина заведения.
Они пришли втроем через полчаса, и я предъявил хозяину расписку.
– Где мои часы?
– Деньги сначала, man!
– Сколько?
– Двести фунтов.
– Что?!
В те времена за двести фунтов можно было получить комнату в отеле «Карлтон». А тут был не «Карлтон».