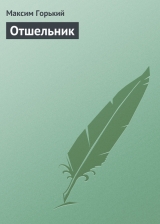
Текст книги "Отшельник"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Из кустов бесшумно вылезли две бабы; одна дородная, средних лет, с кроткими глазами лошади, другая молоденькая, с чахоточным, серым лицом, обе они испуганно уставились на меня, – я ушёл вверх по склону оврага и слышал слова старика:
– Ничего, он – не помеха нам. Он – блаженненький, ему всё равно, не вникает в дела наши...
Надломленным голосом, покашливая, присвистывая, торопливо и обиженно, заговорила молодая баба, подруга её негромко, густыми звуками вставляла в её речь краткие слова, а Савелий сочувственно, не своим голосом восклицал:
– Так-так-так! Ай-яй-яй? Экие, какие, а?
Баба тонко заплакала – тогда старик певуче протянул:
– Милая, ты – погоди, перестань, ты послушай...
Мне показалось, что голос его потерял сиповатость, звучит выше и чище, а мелодия слов странно напомнила незатейливую песенку щеглёнка. Я видел сквозь сетку ветвей, что он, наклоняясь к женщине, говорит ей прямо в лицо, а она, неудобно сидя рядом с ним, широко открыла глаза, прижав ладони ко груди своей. Подруга её, склонив голову набок, покачивала ею.
– Тебя обидели – бога обидели! – громко говорил старик, и бодрый, почти весёлый тон этих слов явно не ладил со смыслом их. – Бог-то – где? В душе твоей, за грудями твоими живёт свят дух господень, а они дураки, братья твои, его и задели дуростью своей. Их, дураков, пожалеть надо, плохо сделали. Ведь бога обидеть – это как малого ребёнка обидеть твоего бы...
И снова он певуче произнёс:
– Милая...
Я даже вздрогнул: никогда раньше не доводилось мне слышать и принять это хорошо знакомое, ничтожно маленькое слово насыщенным такой ликующей нежностью. Теперь старик говорил быстрым полушёпотом; положив руку на плечо женщины, он тихонько толкал плечо, и женщина покачивалась, точно задремав. А большая баба села на камни к ногам старика, аккуратно – веером разбросив вокруг себя подол синей юбки.
– Свинья, собака, лошадь – всякий скот разуму человека верит, а братья твои – люди, – помни! И скажи старшему, чтоб он в то воскресенье пришёл ко мне...
– Не придёт он, – сказала большая баба.
– Придёт! – уверенно воскликнул старик.
В овраг спускался ещё кто-то, – катились комья земли, шуршали ветви кустов.
– Придёт, – повторил Савелий. – Теперь – идите с богом. Всё наладится.
Чахоточная баба встала и молча, в пояс, поклонилась старику, он подставил ладонь свою под лоб ей, приподнял её голову и сказал:
– Помни: бога носишь в душе!
Она снова поклонилась, подавая ему маленький узелок.
– Спаси тебя Христос...
– Спасибо, дружба!.. Иди себе...
И перекрестил её.
Из кустов вышел широкоплечий мужик, чернобородый, в новой, розовой, ещё не стиранной рубахе, – она топорщилась на нём угловатыми складками, вылезая из-за пояса. Был он без шапки, всклокоченная копна полуседых волос торчала во все стороны буйными вихрами, из-под нахмуренных бровей угрюмо смотрели маленькие медвежьи глаза.
Уступив дорогу бабам, он поглядел вслед им, гулко кашлянул и почесал грудь.
– Здорово, Олёша, – сказал старик, усмехаясь. – Что?
– Пришёл вот, – глухо ответил Олёша. – Посидеть с тобой охота.
– Ну, посидим, давай!
Посидели с минуту молча, серьёзно оглядывая друг друга, потом заговорили одновременно:
– Работаешь?
– Тоска, отец...
– Большой ты мужик, Олёша!
– Кабы мне твою доброту...
– Великой силы мужик!
– На кой она мне, сила? Мне бы вот душу твою...
– Вот – погорел ты; другой бы осёл, затосковал...
– А – я?
– А ты – нет! У тебя опять хозяйство играет...
– Сердце у меня злое, – сказал мужик шумно и обложил сердце своё матерными словами, а старик спокойно, уверенно говорил:
– Сердце у тебя обыкновенное, человечье, тревожное сердце, – тревоги оно не любит, покою просит...
– Верно, отец...
Так они говорили с полчаса – мужик рассказывал о человеке злом, буйном, которому тяжело жить от множества неудач, а Савелий говорил о каком-то другом, крепком человеке, упрямом в труде, – о человеке, у которого ничего не ускользнёт, не отвертится от рук, а душа у него хорошая.
Усмехаясь во всю рожу, мужик сказал:
– Помирился я с Петром...
– Слышал.
– Помирился. Выпили. Я ему говорю: "Ты что же, дьявол?" – "А – ты?"говорит. Да. Хорош он мужик, мать...
– Вы оба – одного бога дети...
– Хороший. Умён, главное! Отец, – жениться, что ли, мне?
– А – как же? На ней и женись...
– На Анфисе?
– На ней. Хозяйка! А – красота какая, сила? Вдова, жила со старым, натерпелась, – тебе с ней хорошо будет, верь...
– Женюсь, в самом деле...
– Только и всего...
Потом мужик рассказывал что-то малопонятное о собаке, о том, как выпустили из бочки квас, – рассказывал и хохотал, точно леший. Его угрюмое, разбойничье лицо совершенно преобразилось в глуповато-добродушную рожу обыкновенного, избяного зверя.
– Ну, Олёша, отойди в сторонку, идут ко мне...
– Страдальцы? Ладно...
Олёша спустился к ручью, попил воды, черпая её горстью, минуты две сидел неподвижно, точно камень, потом опрокинулся на спину, заложил руки под голову и, должно быть, тотчас уснул.
Пришла хроменькая девушка в пёстром платье, с толстой русой косой на спине, с большими синими глазами, – лицо на редкость картинное, а юбка раздражающе пестра, – вся в каких-то зелёных и жёлтых пятнах, и на белой кофточке пятна красные, цвета крови.
Старик встретил её радостно, ласково усадил, – но появилась высокая, чёрная старуха, похожая на монахиню, и с ней большеголовый, белобрысый парень, с неподвижной улыбкой на толстом лице.
Савелий торопливо отвёл девушку в пещеру и, спрятав её там, притворил дверь, – я слышал, как заскрипели деревянные петли её.
Он сел на камень между старухой и парнем и долго, молча, опустив голову, слушал бормотание старухи.
– Будет! – вдруг громко и строго сказал он. – Значит, не слушает он тебя?
– Никак. Я ему и то и сё...
– Погоди! Не слушаешь ты её, парень?
Тот молчал, глупо улыбаясь.
– Ну вот, ты – и не слушай! Понял? А ты, женщина, затеяла дело плохое, я тебе прямо скажу – это судебное дело! А хуже судебных дел – ничего нет! И – ступай от меня, иди! Нам с тобой толковать не о чём. Она тебя обмануть хочет, парень...
Парень, ухмыляясь, сказал высоким тенорком:
– Я зна-аю...
– Ну – идите! – брезгливо отмахиваясь от них рукой, сказал Савелий. Ступайте! Удачи – не будет тебе, женщина. Не будет!..
Они оба поникли, молча поклонились ему и пошли кустарником вверх по незаметной тропе, – мне было видно, что, поднявшись шагов на сотню, они оба сразу заговорили, плотно встав друг против друга, потом сели у корня сосны, размахивая руками; долетал ворчливый гул. А из пещеры выплыл невыразимо волнующий возглас:
– Мил-лая...
Бог знает, как уродливый старик ухитрялся влагать в это слово столько обаятельной нежности, столько ликующей любви.
– Рано думать тебе про это, – колдовал он, выводя хроменькую девушку из пещеры. Он держал её за руку, как ребёнка, который ещё неуверенно ходит по земле; она покачивалась на ходу, толкая его плечом, отирая слёзы с глаз движениями кошки, – руки у неё были маленькие, белые.
Старик усадил её на камни рядом с собой, говоря непрерывно, ясно и певуче, – точно сказку рассказывая:
– Ведь ты – цветок на земле, тебя господь взрастил на радости, ты можешь великие радости подарить, – глазыньки твои, свет ясный, всякой душе праздник, – милая!
Ёмкость этого слова была неисчерпаема, и, право же, мне казалось, что оно содержит в глубине своей ключи всех тайн жизни, разрешение всей тяжкой путаницы человеческих связей. И оно способно околдовать чарующей силой своей не только деревенских баб, но всех людей, всё живое. Савелий произносил его бесчисленно разнообразно, – с умилением, с торжеством, с какой-то трогательной печалью; оно звучало укоризненно ласково, выливалось сияющим звуком радости, и всегда, как бы оно ни было сказано, я чувствовал, что основа его – безграничная, неисчерпаемая любовь, – любовь, которая ничего, кроме себя, не знает и любуется сама собой, только в себе чувствуя смысл и цель бытия, всю красоту жизни, силою своей облекая весь мир. В ту пору я уже хорошо умел не верить, но всё моё неверие в эти часы облачного дня исчезло, как тень перед солнцем, при этих звуках знакомого слова, истрёпанного языками миллионов людей.
Уходя, хроменькая девушка радостно всхлипывала, часто кивая старику головой:
– Спасибо тебе, дедушка, спасибо, милый!
– Ну, ну, ну, – ничего! Иди, дружба, иди! Иди, да – так и знай: на радость идёшь, на счастье, на великое дело – на радость! Иди...
Она уходила как-то боком, не отрывая глаз от сияющего лица Савелия. Чёрный Олёша, проснувшись, стоял над ручьём, встряхивая ещё более взлохмаченной головой, и глядел на девушку, широко улыбаясь. Вдруг сунул два пальца в рот себе и оглушительно свистнул. Девушка покачнулась и рыбой нырнула в густые волны кустарника.
– Сдурел, Олёша! – упрекнул его старик.
Олёша дурачливо опустился на колени, вытащил из ручья бутылку водки и, махая ею по воздуху, предложил:
– Выпьем, отец?
– Ты – пей, мне – нельзя! Я – вечером...
– Ну, и я вечером... Эх, отец, – он обложил старика кирпичами матерщины, – колдун ты, а – святой, ей-богу! Душой ты прямо как дитя играешь, – человечьей душой. Лежал я тут и думал, – ах ты, думаю...
– Не шуми, Олёша...
Воротилась старуха с парнем, она сказала что-то Савелию виновато и тихо, он недоверчиво покачал головой и увёл их в пещеру, а Олёша, заметив меня в кустарнике, тяжело влез ко мне, ломая ветви.
– Городской, что ли?
Он был настроен весело, словоохотливо, ласково поругивался и всё хвалил Савелия:
– Большой это утешитель! Я вот прямо его душой живу, у меня своя душа злостью, как волосом, обросла. Я, брат, отчаянный...
Он долго расписывал себя страшными красками, но я ему не верил.
Старуха вышла из пещеры и, низко кланяясь Савелию, сказала:
– Уж ты, батюшка, не сердись на меня...
– Ладно, дружба...
– Сам знаешь...
– Знаю: всяк человек бедности боится. Нищий – никому не любезен, знаю! Ну, а всё-таки: бояться надо бога обидеть и в себе и в другом. Кабы мы бога-то помнили – и нищеты не было бы. Так-то, дружба! Иди с богом...
Парень шмыгал носом, смотрел на старика боязливо и прятался за спину мачехи. Пришла красивая женщина, видимо – мещанка, в сиреневом платье, в голубом платочке, из-под него сердито и недоверчиво сверкали большие серовато-синие глаза. И снова зазвучало обаятельное слово:
– Милая...
Олёша говорил, мешая мне слушать речь старика:
– Он всякую душу может расплавить, как олово. Великий он помощник мне, – без него я бы наделал делов – ой-ой – каких! Сибирь...
А снизу возносилась песня Савелия:
– Тебе, красота, всякий мужчина – счастье, а ты – говоришь эдакое злое! Милая, – гони злобу прочь; гляди-ко ты: что люди празднуют? Все наши праздники – добру знаменье, а не злобе. Чему не веришь? Себе не веришь, женской силе твоей не веришь, красоте твоей, а – что в красоте скрыто? Божий дух в ней... Мил-лая...
Взволнованный глубоко, я готов был плакать от радости, – велика магическая сила слова, оживлённого любовью!
До поры, когда овраг налился густою тьмой облачной ночи, Савелия посетило человек тридцать, – приходили солидные деревенские "старики" с посохами в руках, являлись какие-то угнетённые горем, растерянные люди, но более половины посетителей – женщины. Я уже не слушал однообразных жалоб людей, а только нетерпеливо ждал от Савелия его слова. К ночи он разрешил мне и Олёше разжечь костёр на камнях площадки, мы готовили чай и ужин, а он, сидя у костра, отгонял полой армяка разное "живое", привлечённое огнём.
– Вот и ещё денёк отслужил душе, – сказал он задумчиво и устало.
Олёша хозяйственно советовал ему:
– Напрасно ты денег не берёшь с людей...
– Не подходяще это мне...
– А ты с одного возьми, другому отдай. Вот мне бы дал. Я бы лошадь купил...
– Ты, Олёша, скажи завтра ребятишкам – прибежали бы ко мне, у меня гостинцы есть для них, – много сегодня бабы натаскали разного...
Олёша пошёл к ручью мыть руки, а я сказал Савелию:
– Хорошо ты, дедушка Савёл, говоришь с людьми...
– То-то вот, – спокойно согласился он. – Я ведь сказывал тебе, что хорошо! И народ уважает меня. Я всем правду говорю, кому какую надо. Вот оно что...
Улыбнулся весело и продолжал, менее устало:
– А – особо хорошо с бабами я беседую, – слышал? Это, дружба, так уж бывает у меня: увижу бабу али девицу мало-мале красивую, и взыграет душа, вроде как цветами зацветёт. У меня к ним благодарность: одну вижу, а вспоминаю всех, коих знал, им – счёта нет!
Воротился Олёша, говоря:
– Отец Савёл, ты за меня поручись перед Шахом в шестьдесят рублей...
– Ладно.
– Завтра. А?
– Ладно...
– Видал? – торжествующим тоном спросил меня Олёша, кстати наступив мне на ногу. – Шах – это, брат, такой человек: издаля взглянет на тебя – так и то рубаха твоя сама с плеч ползёт в руки ему. А придёт к нему отец Савёл, перед ним Шах собачкой вертится; на погорельцев сколько лесу дал...
Олёша шумел, возился и мешал старику отдыхать, Савелий, видимо, очень устал; он сидел над костром понуро, казался измятым, рука его взмахивала над костром, пола армяка напоминала сломанное крыло. Но Олёшу невозможно было укротить, он выпил стакана два водки и стал ещё более размашисто весел. Старик тоже выпил водки, закусил печёным яйцом с хлебом и вдруг негромко сказал:
– Ты иди домой, Олёша...
Большой, чёрный зверь встал, перекрестился, глядя в чёрное небо.
– Будь здоров, отец, спасибо! – сунул мне тяжёлую, жёсткую лапу и послушно полез в кусты, где спряталась тропа.
– Хороший мужик? – спросил я.
– Хороший, только следить за ним надо, – буен! Жену так бил, что она и родить не могла, всё сбрасывала ребятёнок, а после – с ума сошла. Я ему говорю: "За что ты её бьёшь?" – "Не знаю, говорит, так себе, хочется да и всё..."
Замолчав, он опустил руку и, сидя неподвижно, долго смотрел в огонь костра, приподняв седые брови. Лицо его, освещённое огнём, казалось раскалённым докрасна и стало страшно; тёмные зрачки голых, разодранных глаз изменили свою форму – не то сузились, не то расширились, – белки стали больше, и как будто он вдруг ослеп.
Он двигал губами, – ощетинясь, шевелились редкие волосы усов, – словно он хотел сказать что-то, но – не мог.
А заговорил он всё-таки спокойно, только вдумчиво, как-то особенно:
– Это со многими мужиками бывает, дружба: вдруг хочется бабу избить, без всякой без вины её, да ещё – в какой час! Только вот целовал её, любовался красотой, и тут же, в минуту, приходит охота – бить! Да, да, дружба, это бывает... Я тебе скажу – я сам, смирный человек, нежный, уж как я женщин любить умел, до того, бывало, дойдёшь – так бы весь и влез в неё, в сердце ей, скрылся бы в нём, как в небесах голубь, – вот как хорошо бывало! И – тут её ударить, ущипнуть как-нибудь больнее хочется, и ведь щипал, да! Взвизгнет, спрашивает: что ты? А тебе и сказать нечего, – что тут скажешь?
Я изумлённо смотрел на него и тоже не знал, что сказать, о чём спросить, – поразило меня его странное признание. А он, помолчав, снова заговорил про Олёшу.
– После того, как жена обезумела, Олёша ещё хуже характером стал, находит на него буйная блажь, проклятым себя считает и всех бьёт. Намедни мужики привели его ко мне связанного, в кровь избили всего, опух весь, как хлеб коркой кровью запёкся. "Укроти, говорят, его, отец Савёл, а то убьём, житья нам нет от зверя!" Вот как, дружба! Дён пять я его выхаживал, – я ведь и лечить умею маленько... Да-а, дружба, не легко людям жить, – охо-хо! Не сладко, дружба ты моя милая, ясные глаза... Вот – утешаю я их, н-да!
Он усмехнулся жалостливо, и от этого его лицо стало ещё уродливее, страшнее.
– А которых – обманываю немножко, ведь живут и такие люди, которым нет уже никакого утешения, кроме обмана... Есть, дружба, такие... Есть...
О многом хотелось спросить его, но он целый день не ел, усталость и выпитый стакан водки заметно действовали на него, он дремал, покачивался, и обнажённые глаза его всё чаще прикрывались красными рубцами век.
Всё-таки я спросил:
– Дедушка Савёл, а что, по-твоему, ад – есть?
Он поднял голову и строго, обиженно сказал:
– Ну, – как же это можно – ад? Ну, – где же это? Бог, а тут – ад? Разве можно? Это несоединимое, дружба, это – обман! Это всё вы, грамотные, для страха придумали, попы всё дурят. Человека не к чему пугать. Да никто и не боится ада-то этого...
– А – дьявол-то как же, он где живёт?
– Ну, ты этим не шути...
– Я не шучу.
– То-то.
Он взмахнул над костром полой армяка и тихонько сказал:
– Ты над ним не смейся. У всякого – своя ноша. Французик-то, может, правду сказал: и дьявол господу поклонится в свой час. Мне поп один о блудном сыне рассказывал из евангелия, – я это очень помню. По-моему, притча эта про дьявола и сказана. Про него, не иначе он самый и есть блудень сын.
Он покачнулся над костром.
– Лёг бы ты, уснул, – предложил я.
Старик согласился:
– Верно, пора...
Легко опрокинулся на бок, поджал ноги к животу, натянул армяк на голову и – замолк. Потрескивали и шипели ветки на углях костра, дым поднимался затейливыми струйками во тьму ночи.
Я смотрел на старика и думал:
"Это – святой человек, обладающий сокровищем безмерной любви к миру?"
Вспомнил хроменькую, пёстро одетую девушку с печальными глазами, и вся жизнь представилась мне в образе этой девушки: стоит она перед каким-то маленьким, уродливым богом, а он, умея только любить, всю чарующую силу любви своей влагает в одно слово утешения:
"Милая..."
1923 г.








