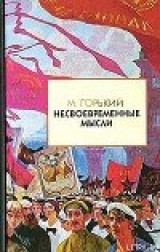
Текст книги "Несвоевременные мысли"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
LVII
«Война, бесспорно, сыграла огромную роль в развитии нашей революции. Война материально дезорганизовала абсолютизм, внесла разложение в армию, привила дерзость массовому обывателю. Но, к счастью для нас, война не создала революции, к счастью, потому что революция, созданная войною, есть бессильная революция. Она возникает на почве исключительных условий, опирается на внешнюю силу,– и, в конце концов, оказывается неспособной удержать захваченные позиции».
Эти умные и даже пророческие слова сказаны в 1905 г. Троцким; я взял их из его книги «Наша революция», где они красуются на 5-ой странице. С той поры прошло немало времени, и теперь Троцкий, вероятно, думает иначе – во всяком случае, он уже, наверное, не решится сказать, что «революция, созданная войною, есть бессильная революция».
А, между тем, эти слова не потеряли своего смысла и правды,– текущие события всею силою своею, всем своим ходом подтверждают правду этих слов.
Война – 14-17 годов – дала власть в руки пролетариата, именно – дала, никто не скажет, что пролетариат сам, своею силою, взял в руки власть – она попала в руки его потому, что защитник царя, солдат, замученный трехлетней войною, отказался от защиты интересов Романова, которые он так ревностно отстаивал в 1906 году, истребляя революционный пролетариат. Необходимо помнить, что революция начата солдатами Петроградского гарнизона и что, когда эти солдаты, сняв шинели, разойдутся по деревням, – пролетариат останется в одиночестве, не очень удобном для него.
Было бы наивно и смешно требовать от солдата, вновь преобразившегося в крестьянина, чтоб он принял как религию для себя идеализм пролетария и чтоб он внедрял в своем деревенском быту пролетарский социализм.
Мужик за время войны, а солдат в течение революции кое-что нажил, и оба они хорошо знают, что на Руси всего лучше обеспечивают свободу человека – деньги. Попробуйте разрушить это убеждение или хотя бы поколебать его.
Надо помнить, что в 905 году пролетариат был и количественно, и качественно сильнее, чем теперь, и что тогда промышленность не была разрушена до основания.
Революция, созданная войной, неизбежно окажется бессильной, если вместо того, чтобы посвятить всю свою энергию социальному творчеству, пролетариат, повинуясь своим вождям, станет с корнем уничтожать «буржуазные» технические организации, механикою которых он должен овладеть и работу которых ему надлежит контролировать.
Революция погибнет от внутреннего истощения, если пролетариат, подчиняясь фанатической непримиримости народных комиссаров, станет все более и более углублять свой разрыв с демократией. Идеология пролетариата не есть идеология классового эгоизма, лучшие учителя его, Маркс, Каутский и др., возлагают на его честную силу обязанность освободить всех людей от социального и экономического рабства.
Жизнью мира движет социальный идеализм – великая мечта о братстве всех со всеми – думает ли пролетариат, что он осуществляет именно эту мечту, насилуя своих идейных врагов? Социальная борьба не есть кровавый мордобой, как учат русского рабочего его испуганные вожди.
Революция – великое, честное дело, дело, необходимое для возрождения нашего, а не бессмысленные погромы, разрушающие богатство нации. Революция окажется бессильною и погибнет, если мы не внесем в нее все лучшее, что есть в наших сердцах, и если не уничтожим, или хотя бы не убавим жестокость, злобу, которые, опьяняя массы, порочат русского рабочего-революционера.
LVIII
Всякое правительство – как бы оно себя ни именовало – стремится не только «управлять» волею народных масс, но и воспитывать эту волю сообразно своим принципам и целям. Наиболее демагогические и ловкие правительства обычно прикрашивают свое стремление управлять народной волей и воспитывать ее словами: «мы выражаем волю народа»,
Это, разумеется, не искренние слова, ибо, в конце концов, интеллектуальная сила правительства одолевает инстинкты масс, если же это не удается правящим органам, они употребляют для подавления враждебной их целям народной воли физическую силу.
Резолюцией, заранее удуманной в кабинете, или штыком и пулей, но правительство всегда и неизбежно стремится овладеть волею масс, убедить народ в том, что оно ведет его по самому правильному пути к счастью.
Эта политика является неизбежной обязанностью всякого правительства: будучи уверенным, что оно разум народа, оно принуждается позицией своей внушать народу убеждение в том, что он обладает самым умным и честным правительством, искренно преданным интересам народа.
Народные комиссары стремятся именно к этой цели, не стесняясь – как не стесняется никакое правительство – расстрелами, убийствами и арестами несогласных с ним, не стесняясь никакой клеветой и ложью на врага.
Но, воспитывая доверие к себе, народные комиссары, вообще плохо знающие «русскую стихию», совершенно не принимают в расчет ту страшную психическую атмосферу, которая создана бесплодными мучениями почти четырехлетней войны и благодаря которой «русская стихия» – психология русской массы – сделалась еще более темной, хлесткой и озлобленной.
Г. г. народные комиссары совершенно не понимают того факта, что когда они возглашают лозунги «социальной» революции – духовно и физически измученный народ переводит эти лозунги на свой язык несколькими краткими словами:
– Громи, грабь, разрушай...
И разрушает редкие гнезда сельскохозяйственной культуры в России, разрушает города Персии, ее виноградники, фруктовые сады, даже оросительную систему, разрушают все и всюду.
А когда народные комиссары слишком красноречиво и панически кричат о необходимости борьбы с «буржуем», темная масса понимает это как прямой призыв к убийствам, что она доказала.
Говоря, что народные комиссары «не понимают», какое эхо будят в народе их истерические вопли о назревающей контрреволюции, я сознательно делаю допущение, несколько объясняющее безумный образ их действий, но отнюдь не оправдываю их. Если они влезли в «правительство», они должны знать, кем и при каких условиях они управляют.
Народ изболел, исстрадался, измучен неописуемо, полон чувства мести, злобы, ненависти, и эти чувства все растут, соответственно силе своей организуя волю народа.
Считают ли себя г. г. народные комиссары призванными выражать разрушительные стремления этой больной воли? Или они считают себя в состоянии оздоровить и организовать эту волю? Достаточно ли сильны и свободны они для выполнения второй, настоятельно необходимой работы?
Этот вопрос они должны бы поставить пред собою со всей прямотой и решительностью честных людей. Но нет никаких оснований думать, что они способны поставить на суд разума и совести своей этот вопрос.
Окруженные взволнованной русской стихией, они ослепли интеллектуально и морально и уже теперь являются бессильной жертвой в лапах измученного прошлым и возбужденного ими зверя.
LIX
Гражданин Мих. Надеждин спрашивает меня в «Красной Газете»:
«Скажите, – при крепостном праве, когда мужиков сотнями запарывали насмерть,– была ли жива тогда совесть?.. И чья?»
Да, в ту проклятую пору, вместе с тем, как расширялось физическое право насилия над человеком, вспыхнул и ярко осветил душный мрак русской жизни прекрасный пламень совести. Вероятно, Мих. Надеждину памятны имена Радищева и Пушкина, Герцена и Чернышевского, Белинского, Некрасова, огромного созвездия талантливейших русских людей, которые создали исключительную по оригинальности своей литературу, исключительную потому, что вся она целиком и насквозь была посвящена вопросам совести, вопросам социальной справедливости. Именно эта литература воспитала революционную энергию нашей демократической интеллигенции, влиянию этой литературы русский рабочий обязан своим социальным идеализмом.
Так что «совесть вколачивалась» не только «палками и нагайками», как утверждает М. Надеждин, она была в душе народа, как утверждали это Толстые, Тургеневы, Григоровичи и целый ряд других людей, которым надо верить,– они знали народ и, по-своему, любили его, даже несколько прикрашивая и преувеличивая его достоинства.
Гр. Надеждин тоже, очевидно, любит свой народ, той несколько сентиментальной и льстивой любовью, которая вообще свойственна российским народолюбцам. Ныне эта любовь у нас еще более испорчена бесшабашной и отвратительной демагогией.
Надеждин упрекает меня:
«Непростительно именно вам, Алексей Максимович, как учителю народа, вышедшему из народа, взваливать такие обвинения на своих же братьев».
Я имею право говорить обидную и горькую правду о народе, и я убежден, что будет лучше для народа, если эту правду о нем скажу я первый, а не те враги народа, которые теперь молчат да копят месть и злобу для того, чтобы в удобный для них момент плюнуть этой злостью в лицо народа, как они плевали после 905 и 6 г.г.
Нельзя полагать, что народ свят и праведен только потому, что он – мученик, даже в первые века христианства было много великомучеников по глупости. И не надо закрывать глаза на то, что теперь, когда «народ» завоевал право физического насилия над человеком,– он стал мучителем не менее зверским и жестоким, чем его бывшие мучители.
Способ рассуждений Мих. Надеждина вводит его в безвыходный круг: так как народ мучили – он тоже имеет право мучить. Но ведь этим он дает право отметить ему за муки – мукой, за насилие – насилием. Как же выйти из этого круга?
Нет, лучше будем говорить правду,– она целебна, и только она может вылечить нас.
Нехорош народ, который, видя, что его соседи по деревне голодают, не продает им хлеба, а варит из него кумышку и ханжу, потому что это выгоднее. Нельзя похвалить народ, который постановляет: всякий односельчанин, кто продает те или иные продукты не в своей деревне, а в соседней,– подлежит аресту на три месяца.
Нет, будем говорить просто и прямо: большевистская демагогия, раскаляя эгоистические инстинкты мужика, гасит зародыши его социальной совести.
Я понимаю, что «Красной Газете», «Правде» и другим, иже с ними, неприятно слышать это, особенно неприятно теперь, когда большевизм постепенно кладет руль направо, стремясь опереться на «деревенскую бедноту» и забывая об интересах рабочего класса.
Напомню Мих. Надеждину несколько фраз московской речи Ленина:
«Заключая мир, мы предаем эстляндских рабочих, украинский пролетариат и т. д. Но неужели же, если гибнут наши товарищи, то мы должны гибнуть вместе с ними? Если отряды наших товарищей окружены значительными силами врагов и не могут сопротивляться, то мы тоже должны бороться? Нет и нет!»
Наверное, Мих. Надеждин согласится, что это не политика рабочего класса, а древнерусская, удельная, истинно суздальская политика.
Ленин говорит:
«Мартов дрожащим, надрывающимся голосом звал нас к борьбе. Нет, он звал нас не к борьбе, он звал нас к смерти, он звал нас умирать за Россию и революцию. Большинство съезда —крестьянская масса – полторы тысячи человек (рабочих на съезде незначительное количество) была совершенно равнодушна к призывам Мартова. Она не хотела умирать за Россию и революцию, она хотела жить, чтобы заключить мир».
В этих словах полное подчинение всего «народа» и – смертный приговор рабочему классу.
Вполне достойный конец отвратительной демагогии, развратившей «народ».
LX
Право критики налагает обязанность беспощадно критиковать не только действия врагов, но и недостатки друзей. И морально, и тактически для развития в человеке чувства социальной справедливости гораздо лучше, если мы сами честно сознаемся в наших недостатках и ошибках раньше, чем успеет злорадно указать на них враг наш. Конечно, и в этом случае враг не преминет торжествующе воскликнуть:
– Ага!
Но злость торжества будет притуплена и яд злости бессилен.
Не следует забывать, что враги часто бывают правы, осуждая наших друзей, а правда усиливает удар врага,– сказать печальную и обидную правду о друзьях раньше, чем скажет ее враг, значит обеспечить нападение врага.
Птенцы из большевиков почти ежедневно говорят мне, что я «откололся» от «народа». Я никогда не чувствовал себя «приколотым» к народу, настолько, чтоб не замечать его недостатков, и так как я не лезу в начальство,– у меня нет желания замалчивать эти недостатки и распевать темной массе русского народа демагогические акафисты.
Если я вижу, что моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве, тяготение, исходящее из дрянненькой азиатской догадки: быть ничтожными – проще, легче, безответственней; – если я это вижу, я должен сказать это.
Если я вижу, что политика советской власти «глубоко национальна» – как это хронически признают и враги большевиков,– а национализм большевистской политики выражается именно «в равнении на бедность и ничтожество»,– я обязан с горечью признать: враги – правы, большевизм – национальное несчастие, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов.
Мы все немножко побаиваемся критики, а самокритика – внушает нам почти отвращение.
Оправдывать у нас любят не меньше, чем осуждать, но в этой любви к оправданию гораздо больше заботы о себе, а не о ближнем,– в ней всегда заметно желание оправдать свой личный будущий грех; – очень предусмотрительно, однако – скверно.
Любимым героем русской жизни и литературы является несчастненький и жалкий неудачник, герои – не удаются у нас; народ любит арестантов, когда их гонят на каторгу, и очень охотно помогает сильному человеку своей среды надеть халат и кандалы преступника.
Сильного – не любят на Руси, и отчасти поэтому сильный человек не живуч у нас.
Не любит его жизнь, не любит литература, всячески исхищряясь запутать крепкую волю в противоречиях, загнать ее в темный угол неразрешимого, вообще – низвести пониже, в уровень с позорными условиями жизни, низвести и сломать. Ищут и любят не борца, не строителя новых форм жизни, а – праведника, который взял бы на себя гнусненькие грешки будничных людей.
Из этого материала – из деревенского темного и дряблого народа,– фантазеры и книжники хотят создать новое, социалистическое государство,– новое не только по формам, но и по существу, по духу. Ясно, что строители должны работать применительно к особенностям материала, а главнейшей и наиболее неустранимой особенностью деревенского люда является свирепый собственнический индивидуализм, который неизбежно должен будет объявить жестокую войну социалистическим стремлениям рабочего класса.
Парижскую коммуну зарезали крестьяне,– вот что нужно помнить рабочему.
Вожди его забыли об этом.
LXI
На днях я получил нижеприведенное письмо – очень рекомендую его вниманию товарищей, убежденных, что они строят «социалистическое отечество».
«В последней Вашей статье Вы пишите, что очень много денег привозят солдаты в деревню и Вы удивляетесь, откуда у них такой капитал. А вот Вам пример, мой брат солдат на войне не был, службу нес легкую в Петрограде, а потом устроился в охране на железной дороге, и там проходили поезда со спиртом, который он с другими должен был охранять. И вот прослужив там два месяца он привез домой 5 тысяч руб. А заработал он честно: когда поезд стоял они открывали вагон сверлили бочку (а может быть как-нибудь подругому делали), только набирали в бутылки спирту (он был не один) опять запирали вагон, пломбировщик пломбировал вагон, и все было в порядке. Деньги делили по старшинству, и так было месяца 2—3. Вернулся он домой в неделе назад, положил деньги в банк, все были так довольны, все соседи наперерыв приглашали его к себе и сосватал он себе богатую невесту, ведь деньга деньгу любет. Ни один человек не осудил его, только мне сестре его простой крестьянке стыдно и больно, что у меня брат – вор, казнокрад, а таких как он сотни тысяч.
Крестьянка N губ., N-ro уезда, а деревни не пишу».
«Простая крестьянка» – честный человек,– деревню «не пишет». Очевидно, потому, что боится, как бы соседи не оторвали ей голову.
Товарищи строители социалистического рая на Руси: «Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, не жнут, но собирают в житницы своя», воззрите и скажите по совести – это ли птицы райские? Не черное ли это воронье, и не заклюет ли оно насмерть городской пролетариат?
Знаю, что письмо «простой крестьянки» не может поколебать каменную уверенность «немедленных социалистов» в их правоте. Ее не поколеблют и такие свидетельства, как сценка Ив. Вольного, напечатанная в 12 № «Дела Народа».
Ив. Вольный,– сам крестьянин, участник событий 5-го – 6-го годов, человек битый, мученый, человек, которого конвоировали в тюрьму его школьные товарищи. Он много претерпел, но сохранил живую, страстно любящую душу и умел беззлобно, правдиво написать мрачную эпопею черносотенного движения в деревне после 906 года. Это – честный, правдивый свидетель, и я знаю, как тяжело ему говорить горькую правду о своих людях,– сердце его горит искренней любовью к ним. Это – человек, которому и можно, и должно верить.
А действительность, которая всегда правдивее и талантливее всех, даже и гениальных писателей, рисует русскую деревню наших дней еще более жестоко.
Я особенно рекомендую эти источники для понимания современной жизни г. Горлову из «Правды»,– он очень горячий человек и, будучи – вероятно – человеком честным, должен хорошо знать, о чем говорит, что защищает. Он не знает этого.
У него нет никакого права болтать ерунду о моих якобы «презрительных плевках в лицо народа». То, что ему угодно называть «презрительными плевками», есть мое убеждение, сложившееся десятками лет. Если г. Горлов грамотен, он обязан знать, что я никогда не восхищался русской деревней и не могу восхищаться «деревенской беднотой», органически враждебной психике, идеям и целям городского пролетариата.
Разумеется, вполне естественно, что, отталкивая все далее от себя рабочий класс, «немедленные социалисты» должны опереться на деревню, они первые и заревут от ее медвежьих объятий; заревут горькими слезами и многочисленные Горловы, которым необходимо учиться и слишком рано учить.
Г. Зиновьев сделал мне «вызов» на словесный и публичный поединок. Не могу удовлетворить желание г. Зиновьева,– я не оратор, не люблю публичных выступлений, недостаточно ловок для того, чтоб состязаться в красноречии с профессиональными демагогами.
Да и зачем необходим этот поединок? Я – пишу, всякий грамотный человек имеет возможность читать мои статьи, так же как имеет право не понимать их или делать вид, будто не понимает.
Г. Зиновьев утверждает, что, осуждая творимые народом факты жестокости, грубости и т. п., я тем самым «чешу пятки буржуазии».
Выходка грубая, не умная, но – ничего иного от г. г. Зиновьевых и нельзя ждать. Однако он напрасно умолчал перед лицом рабочих, что, осуждая некоторые их действия, я постоянно говорю – что:
рабочих развращают демагоги, подобные Зиновьеву;
что бесшабашная демагогия большевизма, возбуждая темные инстинкты масс, ставит рабочую интеллигенцию в трагическое положение чужих людей в родной среде;
и что советская политика – предательская политика по отношению к рабочему классу.
Вот о чем должен бы рассказать г. Зиновьев рабочим.
LXII
Уже не раз ко мне обращались представители домашней прислуги с просьбами «похлопотать» о разрешении печатать в газетах объявления о спросе на труд и предложения труда.
Вот одна из таких просьб, изложенная в письме:
«Постарайтесь разъяснить теперешней власти, чтобы она избрала какую ей угодно газету и разрешила бы публикации, по которым мы могли бы найти себе занятие, как это было прежде. Прежде, бывало, возьмешь газету и можешь выбрать по своей специальности предложение, а теперь обобьешь пороги всех союзов и видишь подлые улыбки и грубые шутки, а работы нет. Пусть советская власть выбирает газету для публикаций о труде. Публикации принесут ей большие доходы и это тем важно для нее, ведь у совета денег нет».
Не знаю, верно ли, что ищущие труда встречают в правлениях профессиональных союзов «подлые улыбки», но невольно,– ввиду единодушия жалоб,– приходится верить, что «грубые шутки» и вообще грубость уже вошли в привычку новой бюрократии. Об этом немало писали «буржуи», но буржуям не принято верить даже и тогда, когда они вполне искренно утверждают, что все брюнеты – черноволосы. Однако, начинают жаловаться рабочие:
«Я,– пишет один из них,– имею перед революцией не меньше заслуг, чем те мальчики на Гороховой, которые лают на меня собаками. Я большевик с 904-го года, а не с октября, я два года семь месяцев торчал в тюрьмах, отбыл пять лет голодной ссылки. По должности председателя волостного комитета, я прихожу к начальству с мужиками, на нас орут, и мне стыдно взглянуть в глаза товарищей-крестьян, вдруг они спросят меня: «Чего же это кричат, как будто при царе?» Действуйте на этих людей как-нибудь, чтобы они опамятовались!»
Рабочий, арестованный за то, что упрекнул пьяного красногвардейца в грубости, был обвинен в «контрреволюционном настроении», и на допросе ему, по его словам, «совали в рыло револьвертом, приговаривая: отвечай! Я им ответил: товарищи мы али нет? А они – таких по зубам нужно бить товарищей. Позвольте заявить, что по зубам били достаточно в старину, а если и нынче так, то – не стоит овчинка выделки».
Такие обвинения раздаются все чаще, и я не вижу, чем могут оправдать себя люди, вызывающие столь постыдные обвинения и жалобы. При старом режиме презрение к человеку рабочего класса объяснялось психологией свиньи, пожравшей правду; после 905 г. свинья хрюкала особенно грубо и нагло: чувствуя себя победившей, она торжествовала.
Но в наши дни – победителей нет, хотя мы и деремся непрерывно, торжествовать некому и – над кем издеваться? Неужели мы издеваемся друг над другом только по привычке, потому, что над нами издевались в свое время?
«Я не отвечаю за армию!» – ответил один солдат на известные упреки штатской улицы.
Представители власти, юнцы, вчерашние политические блондины, сегодня интенсивно рыжие, не могут воспользоваться ответом солдата для своего оправдания. Ведь каждый из них, наверное, считает себя носителем новой, социально-гуманной, справедливой власти, и каждый обязан отвечать и лично за себя, и за всю армию строителей новой жизни. Ведь таково их идеальное назначение, не правда ли? Ведь это именно они сменили старых сеятелей «разумного, доброго, вечного»? Что же именно нового, много ли разумного и доброго вносят они непосредственно в быт, в тяжкую жизнь голодных буден?
Если у них нет ума – то, может быть, найдется немножко совести, и она заставит их подумать над обвинениями, выдвинутыми против них со стороны представителей того класса, интересам которого они, якобы, служат.
С жадностью голодного – психологически очень понятной – «Петроградская Правда» отмечает каждое доброе слово, сказанное по адресу «большевиков». Говорит ли о них Изгоев – с иронией иезуита – или Клара Цеткин, со множеством пояснений, уничтожающих хвалу. «Правда» немедленно перепечатывает на своих страницах эти сомнительные похвалы, очевидно, полагая, что они касаются и ее. Перепечатала она и несколько слов из моего ответа на письма женщин и сопроводила их таким вопросом:
«Не согласится ли теперь Горький, что многие из «мыслей», высказывающихся им ранее, были, действительно, „несвоевременными»?»
Нет, не соглашусь. Все то, что я говорил о дикой грубости, о жестокости большевиков, восходящей до садизма, о некультурности их, о незнании ими психологии русского народа, о том, что они производят над народом отвратительный опыт и уничтожают рабочий класс – все это и многое другое, сказанное мною о «большевизме» – остается в полной силе.








