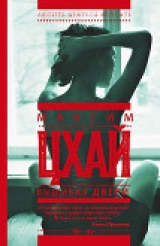
Текст книги "Вышибая двери"
Автор книги: Максим Цхай
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Кончается год. Год моего шефства в секьюрити. Начинается новый. Для меня – снова в танцхаусе. Как встретишь, так и проведешь.
* * *
Не знаю, из-за природного добродушия или от странной внутренней уверенности, что я – лишенный трона принц, но не помню, чтобы когда-нибудь кому-то завидовал. Все в мире достигается тремя волшебными силами: талантом, удачей и трудом. И вовсе не обязательно использовать разом все три – при условии, что силы не вступают друг с другом в явный конфликт, – они прекрасно функционируют и раздельно. Таланту, как и удаче, завидовать глупо, кому выпало – тому выпало, ни ты, ни носитель его не виноваты. Труд же зависит только от тебя; если ленив – на себя и злись, это же ясно.
Конечно, хотеть и даже страстно желать того, что имеет другой, я могу, но чувство это никогда не носит негативного оттенка; более того, даже оттенка соревновательности не носит. Максимум «Ух ты! Я тоже так хочу!»
Оттого, наверное, к людям завистливым или желающим любой ценой вызвать это чувство к своей персоне я испытываю даже не неприязнь, а сожаление с оттенком легкой брезгливости. Нечто вроде ощущения, которое внушает агрессивный слабоумный, оказавшийся с тобой за обеденным столом. И так неожиданно и неприятно каждый раз натыкаться на этот отвратительный порок человеческой души…
Прошло три недели, как я открыл закусочную в танцхаусе. Денег-то всего ничего пока, расходы большие, забот полон рот. Но кассирша Энн успела меня возненавидеть. Странно, смешно и грустно. Еще недавно мы поддерживали один другого в работе, покрывая взаимные ошибки, стреляли друг у друга жвачки и леденцы, а теперь она ищет причину прикопаться ко мне и… хорошо, что не стучит. Вроде бы.
Пока превращаю все в шутку, стараюсь относиться к ней еще теплее. После рабочего дня выставляю пару пицц для персонала – лопайте, ребята. Для Энн по старой дружбе пеку отдельный пирожок с ее любимой начинкой. Она вежливо благодарит: «Данке, Макс». А во взгляде читается ненависть.
Не понимаю. Можно расстраиваться и, быть может, сердиться оттого, что у другого что-то есть, а у тебя нет. Но сердиться именно «оттого», а не «на того», у кого это есть. Ладно бы я козырял тем, что имею. Так нет же! Я все это не украл, не отобрал – горбом своим заработал и на нем же тащу. Работаю без выходных и проходных, и выручка вполне скромная… Но и этого, оказывается, вполне достаточно, чтобы в добродушном, спокойном и объективно хорошем человеке вызвать страстное чувство неприязни к недавнему приятелю.
Смотрю на это с легкой усмешкой. Наверняка инопланетяне давно уже наблюдают за нами, людьми, но в контакт вступать не торопятся. И я прекрасно понимаю почему.
* * *
Схватился с албанцами.
Кельнер Рене предупредил, что в зале трое албанцев. Самый высокий может быть опасным. Разлив пиво, высокий процедил: «Убери быстро, а то я ботиночки свои замочу». Рене пообещал позвать уборщика. Албанец же заорал: «Быстро убрал! Может, ты со мной стресса хочешь?» Но тут подошел уборщик с тряпкой, и албанец, плюнув на пол, надменно отвернулся.
Я начал его пасти. И уже через пятнадцать минут увидел, как он под гогот дружков бьет по лбу какого-то подростка. Я велел албанцу немедленно уйти. Этот урод принялся ругаться, размахивая руками. Я повторил требование и в ответ услышал вопли, что он работает на местного авторитета и имел меня так и эдак.
Я стал загибать пальцы перед его физиономией:
– Во-первых, я не голубой. Во-вторых, ты и на это-то не способен.
Хрюкнув от возмущения, албанец попытался ударить меня в голову. Я успел уклониться, и тогда он плюнул в меня. Напрасно. Заревев по-русски: «Ах ты сука черножопая!» – я двинул ему кулаком под ребра так, что он опрокинулся навзничь, тут же всей тушей навалился на него и сомкнул пальцы на шее. Урод захрипел. Его дружки прыгнули на меня и оттащили в сторону.
Я орал, как раненный в жопу мамонт, махал кулаками и сыпал такими угрозами, что все трое, даже не попытавшись навалять мне, забились в сортир. Нажав на кнопку рации и вызвав охранников, я стал ждать, пока черти оттуда выберутся. Первым подоспел Куруш, и я вздохнул с облегчением. Вдвоем мы выперли длинного урода к выходу (его дружки не вмешивались, говорю же: главное, лидера поломать). Он выступал и перед кассой, но я велел ему убираться, пока живой.
– Скажи мне вежливо: «Уходите, пожалуйста, домой!»
– Убирайся.
– Скажи мне: «Уходите, пожалуйста, домой», и я уйду!
– Убирайся.
– Е… я тебя!
– К сожалению, ты не можешь е…
– А-а-а-а! Ну все, ты попал! Я с Идеримом работаю! Мы тебя найдем, хренов азиат!
Вот как? В голове у меня словно лопается колокол. В правой руке вдруг появляется необыкновенная легкость. Вложив всю массу тела в разворот, я концентрирую свой вес в одной сладко зазудевшей точке на локте. Кажется даже, что локоть вот-вот засветится от жажды разрядки.
Этот удар был поставлен давно, еще в уличных подростковых стычках. Я тяжеловес и не могу позволить себе долгие схватки. Сердце-то у нас у всех величиной с кулак. А мои мышцы требуют кислорода примерно на треть больше, чем у обычного мужчины. Кроме того, большая мышечная масса оказывает скорее психологический эффект, в реальном бою она даже мешает. Для тяжеловесов хорош короткий, ближний бой. А там оружие твое – колени да локти. Головой еще, конечно, хорошо, но не умею, я ею как-то думаю больше. Удар локтем незаметен, быстр и имеет сокрушительную силу. Им можно убить. Особенно если вы весите за сто. Потому и применяю я его крайне редко и осторожно.
Но уже поздно. Локоть моей правой руки четко, словно поршень в паз, входит под скулу албанцу. Голова его резко запрокидывается назад, албанец закручивается винтом, как сбитый бомбардировщик. Все кончено. Он не боец больше, он уже далеко. Надеюсь, что вернется. Я перешагиваю через его тело и, ухватив за ногу, волоку к двери. Люди молча и быстро расступаются, никто даже не кричит. Я протаскиваю слегка подрагивающее тело по полу, прямо через пресловутую пивную лужу, и оставляю его на улице, у дверей. Дружки албанца, словно в похоронной процессии, безмолвно следуют за мной и остаются возле тела. Возвращаюсь в танцхаус, постепенно приходя в себя.
Куруш молча закрывает за мной дверь.
Выждав пару секунд, поправляю галстук – к такой-то матери, понавесили нам этих удавок! – и ловлю в зале всех своих оторопевших турок на экстренное партсобрание. Как зовут? Кто такой, почему не знаю? С кем работает? Отмалчиваются, бараны…
Срываю рукав с рабочей куртки – так развернулся в ударе, что лопнул шов.
Нахожу Барбару. Да, знает. Некто Альмис. Часто бывал в веселом домике. Действительно работает с Идеримом. Сидел за поножовщину. Имеет связи. Осторожней, Макс, он этого так не оставит.
Вот еще новости мне на старости лет! Впрочем, пусть прочухается сперва, дней пять он у меня пластом полежит, проблюется, потом в себя придет, а там посмотрим. Время есть.
Буду щупать через своих албанцев. Если что, солью его Роланду, регионал-ляйтеру. Если успею.
Давно такого не было.
* * *
Я разными женщинами очаровываюсь. Отдельными представительницами прекрасного пола (банально, но лучше не скажешь) болею прямо, век бы любовался и даже не приставал. Смотрел бы, как она подносит чашку кофе к губам, как улыбается. И это счастье. Вот так видеть все это. А уж если прикоснуться… Хотя можно и без этого. Нет ничего на свете красивее женщины. В одной очаровывает волшебная пластика, в другой – припухшие губы, в третьей – стиль, в четвертой – грустная улыбка. И всё – прекрасно! Я не знаю, но у меня даже после такого общения с женщиной словно музыка в душе, и вот схватил бы землю за баобаб, а небо за месяц, да друг к другу играючи и притянул. И был бы рай земной.
Многие женщины не понимают этого. Я заметил, что в моей дискотеке девчонки в последнее время… ну-у… косяка на меня давят. Сперва глаза распахнуты, подпрыгивает аж, а потом видит, что дальше взгляда дело не идет (меня на всех не хватит, да и не хочу я вот так, с каждой встречной), и начинает косяка давить. Игнорировать демонстративно. Ерунду всякую за спиной шептать. Не здороваться. Да мне-то, в общем, все равно, вон сколько красоты кругом. А она совсем перестает в танцхаус ходить. И смех и грех.
Я романтик, конечно. В моем возрасте это едва ли комплимент. Но… не знаю. По-моему, я имею на это право: чего я только не видел в жизни. В цинизм не скатился.
Самое счастливое лицо у женщины, когда… После ночи любви выскочишь потихоньку на улицу – и на рынок, а там веселые морозоустойчивые кавказцы цветы продают. Возьмешь ведро роз сразу – и обратно с холода в тепло. А она спит. Крепко. Ну еще бы. Тихо разложишь сочно налитые багрянцем розы так, чтобы бутонами касались ее лица, – и снова под одеяло. И в щелочку подглядываешь. Не проснется, умаял если донельзя, поцелуешь. Не в губы, а в подрагивающие в утренней дреме теплые веки, запахом волос ее затянешься. Откроет она глаза… Оп! И в сказке! И смеешься ее радости, и так хорошо жить. И конечно, снова потянешься к ней, а она зачарованно скажет, обязательно скажет: «Подожди немного…»
Не бывает некрасивых женщин. Если это настоящая женщина, она всегда красива. Увидь только. А особенно повезло тому, кто сумел встретить свою любовь на всю жизнь, если так бывает, конечно. Это счастье без конца. И в старости. Разгладишь, наверное, теплой рукой морщинки у ее глаз, и не просто любовь и нежность колыхнут душу, но и неведомое пока, но наверняка приходящее со временем чувство благодарности, которое и не выразишь словами. И так же принесешь ей утром свежие, юные розы. И проснется она так же, как и тридцать лет назад. Правда, наверное, уже ей придется немного подождать.
Когда настанет время расстаться – ненадолго, любящие люди не оставляют друг друга надолго, – в последний раз наклонишься к ней, спящей крепко, и положишь цветы так, чтобы они снова касались лепестками ее лица. В последний раз поцелуешь любимые веки и прошепчешь тихо, одними губами: «Подожди…»
А там… конечно, встретимся – как же иначе, а то зачем все это? И снова землю за баобаб, небо за месяц… И снова из-под теплого одеяла на мороз, а там… э-э-э… ну и кавказцы будут, конечно! И снова алые, живые розы в охапку и к ней. И можно будет не торопить ее и действительно подождать, пока любимая проснется, потому что времени будет для любви даже не то что много, а вечность.
* * *
Так. Мои албанцы рассказывают, что о драке говорит весь город. Еще бы. Чтобы на меня напали… Оказавшись на спине при всех, этот Альмис потерял репутацию. На сборище ему сказали: «Что ты выступаешь? Тобой в «Ангаре» Макс пол вымыл!» – и он при всех поклялся, что Макс не заживется. Ну-ну.
Придется, видимо, подключать «крышу». Ох… не хочется. Но надо. У этих отморозков ничего, кроме понтов, нет, и для них «потерять имя» значит потерять мир, в котором они живут. Пять лет пройдет, а в диаспоре не забудут и при каждом удобном случае Альмису с хохотом напомнят, что в известном всему городу танцхаусе им вытерли пол. Да и с наркотой он связан…
Я позвонил в Кёльн. Сообщил имя. В случае необходимости мне нужно будет только дать знать. Оттуда приедет бригада в составе тридцати человек и поставит местную этническую диаспору на колени, как три года назад.
Оставлю как крайний вариант.
Жизнь, ребята, хороша.
* * *
Симпатичная, смешная, черноглазая девочка-полька лет восемнадцати. Уже давно она трется возле моей закусочной, невзирая на получаемые от меня тычки и шлепки полотенцем по спине, чтобы работать не мешала. В прошлый раз долго смотрела издалека, как я распаковываю пиццу, а потом снова подошла ко мне вплотную, неумело, по-детски, обняла за плечи (нахалка! правда, очень трогательно обняла) и сказала:
– Я видела, как ты с Альмисом схватился… Берегись, его в городе знают… Неужели тебе не страшно? Ну поговори же со мной!
Я усмехнулся, понюхал у нее макушку и легонько отпихнул от себя.
– Я тебе, Каролинка, все сказал уже. Приходи года через три.
– Это долго!!!
Смешно надулась, отошла. Ничего, подойдет опять. Ох… романтика… Где мои восемнадцать лет?..
И я задумался. Страшно ли мне?..
Конечно, страшно. Я живой человек из плоти и крови. Сколько ни набивай квадратики на животе, их легко вскроет лезвие, а если тебе из-за угла накатят по голове, можно и не успеть отреагировать… Знакомое дело. Албанцы бывают просто животными. Я всегда думал, что свирепее турок людей нет. А они есть. И это албанцы. Вообще беспредельщики, без царя в голове и душе. Куруш мой – исключение. Правда, его старший брат отсидел за то, что пальнул в свою жену из пистолета (промазал), а двоюродный брат торговал наркотой, но в целом Куруш из вполне приличной албанской семьи. Зачастую же балканцы в Германии – отпетые уроды. Я опрокинул их авторитета на грязный пол, и это видели все. Вай-вай! Какой позор!
Начнет выступать – опять опрокину. Еще легко отделался.
Страшно ли мне?.. Конечно, страшно. Я хочу жить и радоваться жизни. Я не зверь и не боевик по сути. Я по одной из специальностей учитель пения вообще-то. Социальный педагог, могу диплом показать. Что ж, иногда уроки жизни в обществе можно вдолбить только башкой об пол.
Не заплатить бы за это по-крупному.
Да и хрен с ним.
На самом деле страх – кайфовое чувство. Нужно только добавить к нему холодного рассудка, внутренне подготовиться, и тогда страх из унижающего, порой парализующего яда превращается в слегка дурманящий манящий риск. Облагороженный, заставляет тебя ходить гордо, держать голову высоко. И самое важное – он дарит тебе ничем не затуманенное видение мгновения. Когда ценишь каждое прикосновение ветра к лицу, каждый глоток ароматного чая и готов любить каждую прелестную девушку всю жизнь (поскольку понимаешь, что, может быть, жизнь – это не так уж долго!).
Риск обостряет твое восприятие мира. Наверное, славно живут звери! Им некогда спать наяву.
Нужно иногда балансировать на краю пропасти, чтобы увидеть, услышать и наконец прочувствовать, как прекрасна жизнь. Друзья, если у вас сонные глаза, вялое тело и на душе кисло – проснитесь, проснитесь скорее! Успейте сделать это до того, как заснете навсегда.
* * *
Мир полон оттенков. В нем, как в морской раковине, закручиваются тысячи мимолетных шорохов, сливаясь в ровный, бесконечный гул невидимого моря. К нему привыкаешь. Зачем лишний раз подносить раковину к уху? И кажется, знаешь жизнь уже вдоль и поперек, все испытал, все перечувствовал – чем она может тебя удивить?
А на самом деле существуют тысячи вещей, которые открываешь для себя так же свежо и ново, как будто идешь в первый раз в первый класс. Помните, какими яркими и холодными от утренней влаги были принесенные в школу цветы? Как выхватывали глаза в галдящей толпе, состоящей из белых бантиков и разноцветных букетов, отдельные лица будущих одноклассников? С одними сразу хотелось дружить, чтобы не потеряться в этом шумном и незнакомом мире, похожем не то на ярмарку, не то на птичий двор. От других тянуло держаться подальше, и даже их чистенькая школьная форма и наличие нежно пахнувших цветов тебя не обманывало – как-то было понятно, что все это ненадолго.
Мне за тридцать. Чего я не видел в жизни? Даже то, что не испытал, уже ложится в общий алгоритм и вполне предсказуемо. Ничего нового. Я много жил, и мне не тридцать четыре, а триста сорок. Так рассуждают многие, так иногда думаю и я.
Как хорошо, что это не соответствует истине. И если держать глаза и уши открытыми и хоть иногда закрывать рот, мир опрокинет на тебя водопад свежих впечатлений, вырастит специально для тебя неведомый фрукт, который не напомнит вкусом ни землянику, ни огурец. И снова ты стоишь пораженным и оглушенным первоклассником под утренним сентябрьским солнцем, среди хора горланящих в толкучке голосов, и лицо твое время от времени утыкается в букет влажных астр и прохладных, тяжелых георгинов.
Сегодня я, весь такой взрослый и всезнающий дядька, гулял по улицам Кобленца, когда услышал счастливый, какой-то совершенно весенний смех. Обернулся и увидел женщину, с которой мы долго были близки, – мою бывшую жену. Она шла играющей походкой, чуть помахивая сумочкой, и разговаривала по телефону. Вернее, она не говорила почти ничего, только «да», «наверное» – и смеялась. Смех ее был такой заливистый и свободный, каким я его не слышал никогда. Он был похож на теплый летний дождь, негромкий, радостный. Так смеется ребенок, которому родители наконец-то подарили щенка и тот лижет ему лицо. Так смеется человек, вдруг осознавший, что он свободен. Так смеялась и счастливая женщина, удивленная своим счастьем.
Я почувствовал, как в груди распускает большие бархатные лепестки горячий цветок.
Если любовь прошла, надо уходить. Надо уходить – пусть в никуда, без ничего, рвать связи и привычки. Потому что если больше нет взаимной любви, все нажитое ничего не стоит. Остается пустота. Вы хотите жить в пустоте, дышать пустотой, обнимать ее ночами? Я расстался с этой женщиной и для того, чтобы однажды услышать на улице ее свободный, юный смех. Смех, в котором звучали совершенно новые, прекрасные, переливчатые ноты и оттенки. Они были не для меня – от этого становилось и грустно, и светло одновременно. Я ушел, чтобы счастливый новый смех родился в ее груди.
И может быть, чтобы когда-нибудь рассмеяться так самому.
* * *
Три типа мужчин всегда привлекают женщин: художник, поэт и веселый лоботряс.
«Я покажу тебе, как ты красива», – поманит женщину художник.
«Я расскажу тебе об этом», – пообещает поэт.
Но лучше всего быть веселым лоботрясом. Чтобы прошептать ей: «Я докажу…»
* * *
Приезжал человек от Бесмира. Вот уж не ожидал – двухметровый красавец с обложки глянцевого журнала. Точь-в-точь американский Кен, только без Барби. Интеллигентный парень со спокойным, приятным голосом. Волосы, как у меня, длинные, до плеч. Зовут Даниель.
Выяснилось, что с Бесмиром у танцхауса никаких проблем, а отморозки левые, не врубившиеся, куда лезут, однако подконтрольные. Что интересно, мы с ним понравились друг другу. Я рассказал, что меня заказали. Об этом предупредили в разное время знакомые турок и албанец, которые трутся в кругах своих диаспор и в курсе происходящего. Именно потому, что сообщили об этом два человека независимо друг от друга, я счел информацию объективной. В сущности, она меня не удивила.
– Если после нашего разговора не отвяжутся, скажи, что работаешь на Бесмира. Если это албанцы – как ветром сдует.
– Я не работаю на Бесмира. Я сам за себя. Даниель только усмехнулся:
– Не важно. Но постарайся с албанцами больше не ссориться. Народ мстительный и жестокий. Это у них в крови.
Ну что ж… Появилась надежда выйти сухим из воды. С волками жить – по-волчьи выть.
* * *
Устал. Окончательно. От работы, требующей ежедневного накала нервов и виртуозного владения собой. От визга развратных баб, для которых переспать с кем угодно легче, чем стрельнуть сигарету. От трусливо-агрессивных турецких, албанских, итальянских физиономий, готовых в любую секунду сменить угодливую паскудную улыбочку на оскал истеричной ненависти. От угроз, которые слышу в свой адрес почти каждый день. От липких полуголых девок, норовящих мимоходом прижаться к тебе всем телом и поцеловать обязательно в губы.
На последнем дежурстве сорвало крышу. Немецкий югендлиш лет восемнадцати и его ровесники – дружки упились пивом и устроили примитивный дебош: орали и бросались кружками. Дирк, сделавший им замечание, получил сразу два боковых удара и дал сигнал о помощи. Я помчался в зал. Вокруг танцпола уже собралась толпа – не продерешься. Надрывалась музыка, но ее перекрывали торжествующие вопли четырех придурков. Дирк уже очухался и натягивал полицейские перчатки. Дирк-кикбоксер – тяжеловес с десятилетним опытом. «Сейчас он их будет убивать», – подумал я и развернулся в сторону хулиганья.
Один из парней, вдохновленный завалом Дирка, толкнул меня в грудь. Я с ревом сгреб всех четверых в охапку и попер, как бульдозер, к выходу. Выпучив глаза, они пытались вывернуться, наконец вцепились друг в друга и в мои плечи, чтобы не упасть, и уперлись всеми восемью ногами в пол. Я сжал руки. Что-то захрустело и жалобно взвизгнуло. Мы продолжили медленное, но неуклонное движение к дверям.
В «предбаннике» я разжал объятия. Смятые, задыхающиеся фигурки посыпались на пол, как листья из гербария. Оказалось, я передавил одному дебоширу дыхло, и он почти потерял сознание. Двое стали пытаться привести его в чувство, шлепая по щекам. Самый борзый из этой компании выхватил мобильник и начал звонить в полицию, заранее крича: «Нас избили секьюрити! Помогите!» Тут и подоспел рассвирепевший Дирк, похожий на льва, которому неуклюжий клоун нечаянно наступил на… в общем, возле хвоста наступил. Пацан еще не успел набрать номер, как буквально вылетел спиной вперед в направлении гардероба, посланный туда мощным ударом в подбородок.
– Получи, маленький ублюдок! – удовлетворенно прорычал Дирк.
– Дирк! Это было лишним… – только и успел пробормотать я.
В «предбанник» вошел и. о. Яна, бывший кельнер Ричи, парень лет двадцати пяти. Он оторопело посмотрел на нас, на забившихся в угол пацанов, на полузадушенную жертву, сидящую на полу и жадно хватающую воздух губастым ртом, и на копошащегося в гардеробе везунчика, отхватившего плюху Дирка.
– Макс, что скажет Ян?.. – пробормотал Ричи.
– По фигу! – устало выдохнул я.
Силы внезапно оставили меня – все-таки бульдозерский ход длиной в двадцать метров сожрал все запасы креатина в мышцах, – и я, покачиваясь, ушел переодеваться.
Что мы имеем в результате? Пацан, щучкой влетевший в гардероб, написал заявление в полицию на Дирка за причинение телесных повреждений средней степени. И имеет неплохие шансы слупить с него деньги. Дирк снова отбил руку о его подбородок и, так как тоже является местным немцем, подал встречное заявление о причинении повреждений уже тяжелой степени. Шансов мало, свидетелей много. Дирка я снял со смены, пока дело не уладится.
Вернулся домой – на мобиле три звонка висят, два от шефа из Кёльна и один от Яна. Настучали уже. Пошли вы на фиг! Не буду перезванивать. Двенадцать часов ночи, а мне вставать в полседьмого.
Вот как долго может оставаться нормальным претендующий на интеллигентность, пишущий стихи человек с университетским образованием, живущий такой жизнью?
Бог хохочет сейчас, наверное.
И я тоже.
* * *
Шесть лет назад мой круг общения состоял из художников, успешных писателей, известных актеров, раскрученных фотомоделей. Я тет-а-тет пил чай с африканским принцем Анкиром и пиво с председателем российского ПЕН-клуба Александром Ткаченко.
Нам было о чем говорить. И я этим горжусь.
А теперь мои приятели – турецкие бандиты и польские проститутки. И пиво я пью с главарем банды «Шакалы», а кофе – с сутенершами. Мой приятель Али отсидел три года за тяжкие телесные повреждения и имеет запрет на вход во все дискотеки Вестервальда, включая мою.
Уважение их я ценю не меньше.
Смешной прогресс, право.
А я-то вроде тот же самый.
* * *
У меня середина недельного отпуска, я в Москве. Поздний вечер в «Шоколаднице» на Таганской. Докуриваю последнюю суперлегкую сигаретку. Кофе допит, девушка ушла, и ждет меня достаточно стандартное окончание дня: на раскладной тахте с томиком Гиляровского в руках. Гиляровский опять – грудь колесом – будет бродить по трущобам и злачным местам. Все вокруг боятся, а ему хоть бы хны, то кружкой врагу по зубам, то знакомый шулер выручит… А френды его: «Ох, Владимир Алексеич… Ах, Владимир Алексеич». А он так метровым плечом пожмет, подмигнет, дескать, «та ж пустяки, право», – и дальше хвастать. Не иначе, мой стиль слизал. Короче, прикольный ЖЖ, надо зафрендить. Сейчас докурю и пойду домой. Трубку забыл, а табаку хочется. Самообман – супертонкая сигаретка, суперлегкая.
Дверь кафе открывается, и на пороге вместе с волной холодного свежего воздуха появляются три новых посетителя. Чем-то они привлекают мое внимание, хотя внешне не особо примечательны. Так, трое грузных мужчин слегка навеселе, двое из них немолоды, лет пятидесяти. Одеты в строгие дорогие костюмы, впрочем, чувствуют себя в них свободно. Пожалуй, отличает их от обычных посетителей явно военная выправка, которую никогда не скроешь. Ее нельзя перепутать с манерами спортсмена или бандита. К тому же они оглядывают зал с тем особым покровительственно-благожелательным выражением лица, какое, наверное, часто появляется у королей на пенсии или у генеральных секретарей кровожадных партий при посещении детского сада.
Один из них, самый высокий и массивный, в очках и с небольшой залысиной над крупным лбом, подходит ко мне.
– Молодой человек, вы разрешите присесть возле вашего столика? – чуть наклонившись, слегка иронично, но без тени издевки, низким приятным голосом говорит он.
Юмор, насмешка или добродушное чудачество подвыпившего серьезного человека в минуты расслабления? Ну что ж, работа ночного охранника научила меня быстро соображать и действовать в непривычных ситуациях. Немного удивленно поднимаю бровь, но принимаю игру и делаю широкий приглашающий жест:
– Конечно. Буду рад соседству.
Мужчины переглядываются. Самый молодой утвердительно кивает, и они, сняв пиджаки, садятся за ближайший столик. Высокий оказывается напротив меня, и мы периодически встречаемся взглядами. У него приятное, немного уставшее лицо. Он чем-то неуловимо напоминает мне Юрия Сенкевича, любимого телеведущего, и, видимо, поэтому я проникаюсь к нему некоторой симпатией. Когда наши взгляды снова пересекаются, он с улыбкой встает и протягивает над столом руку:
– Саша.
– Максим.
– Дело в том, что мне исполнилось пятьдесят лет. Официально праздную завтра, а сегодня легкая разминка с коллегами. Мы слегка пьяные и можем не соблюсти приличия, но все-таки, может быть, сдвинем наши столы и выпьем вместе? Если, конечно, вам не противно пить с тремя старыми козлами.
И снова веселый, но в то же время быстрый взгляд из-под очков.
Ха! Не таких видал. Приставляю к соседнему столу свой.
– Конечно, буду рад поздравить и с вами выпить. А с козлами я не пью. Ни с молодыми, ни… со зрелыми.
Стены уютной «Шоколадницы» сотрясаются от дружного громового хохота. Становится легко. Официант приносит виски в маленьких стаканчиках и кофе. Нас четверо: я, Саша «Сенкевич», его товарищ, немного неприятный тип с высокомерно-обиженным выражением лица, и третий их спутник, молчаливый и незаметный молодой человек с черными усиками. Он хитро улыбается, благожелательно скромен, неразговорчив и, в отличие от нас, упорно пропуская тосты, пьет только кофе. Но внимание мое занимает «новорожденный».
Саша рассказывает. Как прилетел только что с Камчатки от друга, у которого сто гектаров охотничьих угодий. О том, как тот собирает мед и стреляет шестидесятикилограммовых волков. О том, как охотится на горностаев, оставляя медвежью тушу на ночь в лесу в качестве приманки. О том, что там можно жить и не болеть хворями ни тела, ни души, и пахнет там прохладной хвоей и чистыми, ломящими зубы родниками, и дети там рождаются здоровые, большие и сильные. О том, что ему уже пятьдесят лет…
– Тебе сколько лет, Максим?
– Тридцать четыре.
– Эх… мальчишка…
– Слегка.
– Дети есть?
– Нет.
– Заведи. Заведи обязательно!
Рассказывает о своих детях, о сыне, который майор, программист и хороший человек, а это самое главное. Голос его мягко рокочет, заполняя собой все пространство, и слушать его приятно. Чувствуется, что он сильный, спокойный, много чего повидавший на свете.
Неожиданно вступает в беседу Сашин спутник. Все-таки он неприятен. Ему, пожалуй, за пятьдесят, у него резкие интонации и лицо разорившегося графа, пропившего свою печень.
– А что ты делаешь у нас в Москве, Максим? Сам вроде не москвич.
– Приехал на десять дней из Германии.
– Ха! Так ты немец, что ли?
Все понятно. Я еще, с его точки зрения, молодой. У меня многое впереди. У него ничего этого нет, но есть какая-то власть над людьми. Интересно, это чиновничий пост или деньги? Ни то, ни другое не вернет молодости или упущенных возможностей, но такая суррогатная подмена побуждает пободаться. Можно сразу дать по ментальным зубам, но уж больно мне симпатичен дядя Саша, не хочется рвать теплую, человеческую волну общения с ним.
– Приехал в кино сниматься.
– Хэх… Снимут?
– Откуда я знаю?
– Дурачок! А деньги ты с собой привез?
Добровольно подставляюсь:
– Да, двести евро.
Вот он – оргазм! Граф без печени разевает в немом хохоте свою коричневую пасть. Его никто не поддерживает. Тогда он, качая головой, напоказ достает свой бумажник. В нем ворохом мелькают русские пятитысячники. Искоса смотрит на меня, ловя впечатление. Я продолжаю добродушно улыбаться. Он немного удивленно разворачивает портмоне, видимо решив, что я не обратил внимания. Выпускаю тонкую струю дыма прямо в деньги. Все, кроме него, смеются.
Граф захлопнул портмоне. Надулся.
– А кем ты там, в своей Германии, работаешь?
– Шеф охраны в танцхаусе.
– Хмык! Шеф… охраны… В жизни бы не пошел на такую работу…
Всё. Надоел дрочила старый.
– А я бы тебя и не взял. Мне настоящие мужики нужны, а не… – Делаю легкую паузу, проглатывая слово – пусть сам домыслит чего похуже. – Вот Сашу взял бы с удовольствием.
Неожиданно фыркнув в чашку с кофе, рассмеялся его второй, дотоле молчаливый, спутник. Саша укоризненно смотрит на парня. Тот, подавившись смехом, делает серьезное, понимающее лицо. Саша устало снимает очки. Глядит на меня долго и пристально. У него добрые, умные, хорошие глаза. Говорит немного растерянно:
– Да… охранником… в дискотеку… Мне, с сегодняшнего утра, уже полтинник. Так-то, Максим.
Как он все-таки похож на Юрия Сенкевича! Тот же спокойный, тяжеловатый взгляд, та же неспешная пластика. Спрашиваю, не родственник ли.
– Нет, но я хорошо его знал. Нам многие говорили о том, что мы похожи. Он умер в шестьдесят шесть… Так вот, Максим… В Германии живешь…
Глаза Саши «Сенкевича» теплеют еще больше.
Он резко поворачивается к молодому усачу:
– Визитку.
Тот, слегка поперхнувшись кофе, отрицательно качает головой и выразительно смотрит.
– Дай ему визитку, я сказал.
Усатый нехотя лезет в сумку и протягивает мне белый кусочек картона. Н-да… Под гербом вытиснено: «Генеральный штаб Российской Федерации». И ниже, скромнее: «Начальник управления Александр…». Саша с легким любопытством смотрит на меня. Это уже не испытание, во взгляде его отеческая теплота. Но все равно. Надо держать хвост пистолетом до конца. Уважительно хмыкнув, кидаю визитку в карман куртки.
– Здорово! Так вы же и есть самый главный охранник Российской Федерации!








