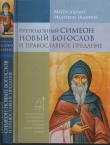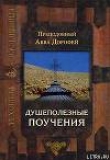Текст книги "История русской церкви (Том 2)"
Автор книги: Макарий Митрополит (Булгаков)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Другое послание Феодосиево к великому князю Изяславу гораздо важнее и рассуждает о вере варяжской, или латинской. Оно сохранилось в многочисленных списках, которые, впрочем, можно разделить на три фамилии, и везде усвояется преподобному Феодосию Печерскому 221. Потому, хотя нельзя ручаться, что оно дошло до нас во всей своей первобытной целости, так как между фамилиями есть разности частию в порядке размещения, частию в количестве частей, но нет основания сомневаться в его подлинности 222. В этом послании преподобный Феодосии исчисляет князю разные отступления латинян от православной веры и их недобрые обычаи и затем учит его, как должно держать себя по отношению к латинской вере и ее последователям. К числу отступлений от веры и недобрых обычаев относятся следующие: а) латиняне в Савелиеву ересь впали (разумеется в том смысле, что сливают Две Божеские Ипостаси – Отца и Сына – в одну, когда говорят, будто Дух Святой исходит от Обоих Их вместе как от одного начала); б) совершают Божественную службу на опресноках, а не на квасном хлебе; в) прощают грехи за дары, т.е. употребляют индульгенции; г) не помазывают крещаемых маслом и миром, как мы, но кладут им соль в уста; д) называют их не именами святых, а как захотят родители; е) постятся в субботу; ж) едят мяса до вторника первой седмицы Великого поста; з) употребляют в пищу диких коней, удавленину, медвежину, бобровину и под.; и) кладут мертвецов ногами на запад, а головою на восток; к) женятся на сестрах, священники их и епископы не вступают в законный брак, а живут в незаконных связях; л) епископы носят перстни, ходят на войну и проч., и проч. Надобно заметить, что между обвинениями на латинян, излагаемыми в послании, находятся и такие, которые могли относиться к частным лицам, а отнюдь не ко всей Римской Церкви, или даже представляются не совсем верными. Это могло произойти от двух причин: оттого, что преподобный Феодосии судил о заблуждениях латинян только по слухам, и оттого, что такие именно обвинения и многие другие подобные взводили тогда на латинян в Греции и вообще на Востоке 223. А может быть, некоторые из этих обвинений внесены в послание Феодосия уже впоследствии стороннею рукою, так как, встречаясь в списках одной фамилии, не встречаются в списках другой. Излагая наставления, как держать себя по отношению к вере латинской и ее последователям, преподобный Феодосии заповедует: а) надобно всеми мерами блюстися ее, особенно тем, которые живут посреди латинян, потому что только в православной вере можно спастись, а в вере латинской или сарацинской (магометанской) – нельзя; б) не должно хвалить чужой веры, потому что кто хвалит чужую веру, тот хулит свою, и есть двоеверец, и близок к ереси; в) если бы кому пришлось и умереть за православную веру, должен утереть, не отрицаясь от того по примеру святых; г) с последователями варяжской веры не должно иметь общения ни по делам брачным, ни в причастии Христовых Тайн, ни в пище; впрочем, когда они попросят пищи, накормить их только в их собственных сосудах, а не в своих, в случае же крайности – и в своих, которые потом вымыть и освятить молитвою. Кроме этих общих наставлений, преподобный Феодосии, обращаясь собственно к князю, говорит: "Ты, чадо, непрестанно хвали свою веру и подвизайся в ней добрыми делами. Будь милостив не только к своим христианам, но и к чужим; если увидишь кого-либо нагим, или голодным, или подвергшимся бедствию, будет ли то еретик или латынянин, – всякого помилуй и избавь от беды, как можешь, и ты не погрешишь пред Богом, который питает и православных христиан, и неправославных, и даже язычников и о всех печется... Когда ты встретишь, что иноверные состязаются с верными и хотят лестию увлечь их от правой веры, помоги своими познаниями правоверным против кривоверных, и ты избавишь овча из уст Львовых... Если кто скажет тебе: "Ту и другую веру дал Бог", ты отвечай: "Разве Бог двоеверен?" Не слышишь ли, что сказано: Един Бог, едина вера, едино крещение И не сказал ли апостол Павел: Аще и ангел благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет.. (Гал. 1. 8). Мы несколько смягчили резкий тон послания, который показался бы не совсем приличным в наше время, но был весьма приличен и естествен во дни преподобного Феодосия, когда латиняне только что отделились от православной Церкви Восточной и по своим проискам к отвращению православных крайней испорченности нравов были нестерпимы как для греков, так, вслед за ними, и для русских 224.
Молитвы преподобного Феодосия известны нам двоякого рода: устные, которые сохранил в житии его преподобный Нестор 225 и которые, как не написанные самим Феодосием, не могут иметь места в нашем обозрении, а во-вторых, письменные. К последним принадлежат молитва преподобного Феодосия за всех христиан и молитва его, написанная по просьбе варяжского князя Шимона, или Симона.
Первая молитва сохранилась в харатейной Псалтири 1296 г. под заглавием: "Молитва святаго Феодосия Печерскаго за вся христианы" 226. Если еще в XIII в. она усвоялась святому Феодосию, то сомневаться в подлинности ее было бы с нашей стороны крайнею недоверчивостию. Правда, в молитве упоминается вслед за другими святыми и преподобным Антонием Печерским Феодосии, но, кто знает, как нерассудительно иногда наши древние переписчики делали подобного рода вставки 227, тот не соблазнится и этою вставкою. Молитва состоит в следующем: "Владыко, Господи, человеколюбче! Верных, Господи, утверди, да будут еще более верны; неразумных, Владыко, вразуми; язычников. Господи, обрати ко Христу, да будут нашими братиями; находящихся в темницах, или в оковах, или в нужде избави. Господи, от всякой печали; пребывающим в затворах, и на столпах, и в пещерах, и в пустыне братиям нашим подаждь, Господи, крепость к подвигу. Помилуй, Господи, князя нашего, и град сей, и всех, живущих в нем. Помилуй милостию Твоею и мене, раба Твоего грешного, если я и многогрешен, но по правой вере я раб Твой. Спаси, Господи, и помилуй епископа нашего и весь монашеский чин с иереями, и диаконами, и всеми православными христианами. Помилуй, Господи, находящихся в бедности и озлобленным нищетою подаждь богатую милость ради молитв Пресвятой Богородицы (здесь поименованы и преподобные Антоний и Феодосий)... Упокой, Господи, души рабов Твоих, правоверных князей наших, и епископов, и всех сродников наших по плоти. И упокой, Господи, души рабов Твоих, всех правоверных христиан, умерших во градах, и в селах, и в пустынях, и на пути, и в море, – упокой их в месте светле, в лике святых, в ограде благого рая и жизни бесконечной, в неизглаголанном и немерцаемом свете лица Твоего, ибо Ты еси покой и воскресение усопших рабов Твоих, Христе Боже наш, и Тебя славим с Отцом и Святым Духом и ныне и присно". Молитва, очевидно, вполне достойная великого игумена киево-печерского.
Что касается до молитвы, составленной им по просьбе Симона Варяга, то святой Симон, епископ Владимирский, рассказывает самый случай к ее написанию. Однажды Симон Варяг, любимый Феодосием и много жертвовавший на его обитель, пришел к нему и после обычной беседы сказал: "Прошу у тебя, отче, одного дара". "О чадо, – сказал Феодосий, – чего просит твое величество от нашего смирения?" "Я прошу у тебя, – продолжал Симон, – дара великого и превышающего мои силы". Феодосий отвечал: "Тебе известно, чадо, наше убожество; часто и хлеба у нас недостает для дневной пищи, а имею ли что другое, не знаю". "Если ты захочешь, – сказал Симон, – то можешь дать мне по благодати, данной тебе от Бога!.. Я прошу у тебя, дай мне слово, что благословит меня душа твоя как в жизни, так и по смерти... Помолись о мне, о сыне моем Георгии и о всем моем роде, как молишься ты о своих черноризцах". Феодосий обещался и присовокупил: "Я молюсь не о черноризцах только, но и о всех любящих место сие святое". Тогда Симон, поклонившись преподобному до земли, неотступно просил подтвердить свое обещание писанием; Феодосий написал разрешительную молитву, которая начиналась словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа", и доныне, замечает святой Симон Владимирский (т. е. в XIII в.), влагается в руки всякому умирающему. В этой молитве – неизвестно, была ли она та самая, которая доныне употребляется в нашей Церкви, или другая – преподобный поместил и следующие слова: "Помяни меня, Господи, когда приидешь Ты в Царствии Твоем, чтобы воздать каждому по делам его. Тогда, Владыко, сподоби и рабов Твоих Симона и Георгия стать одесную Тебя во славе Твоей и слышать благий Твой глас: Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира" (Мф. 25. 34) 228.
Из сделанного нами обзора сочинений преподобного Феодосия 229 оказывается, что они, кроме внутреннего своего достоинства, имеют еще значение историческое. Поучения Феодосия к народу указывают на некоторые недостатки и пороки, господствовавшие в народе. Поучения к братии обнаруживают и слабые стороны иноческой жизни в Киево-Печерской обители, неизвестные из писаний преподобного Нестора, который желал выставить преимущественно светлую сторону родной обители в назидание потомству. Наконец, послания к великому князю Изяславу ясно обнаруживают те религиозные вопросы, какие занимали тогда самих наших князей. Вообще, видно, что сочинения преподобного Феодосия написаны не на какие-либо отвлеченные и произвольно придуманные темы, а соответственно современным потребностям, и потому, отображая в себе ум и сердце самого писателя, немало обрисовывают и его время.
Вслед за митрополитом Иларионом и преподобным Феодосием Печерским, которые были учителями веры и благочестия, явились в нашей Церкви два другие писателя с направлением преимущественно историческим: это были черноризец Иаков и преподобный Нестор.
Черноризцу Иакову, сколько доселе известно, ясно усвояются два сочинения: Похвала великому князю Владимиру и послание к великому князю Димитрию, в том и другом сочинении Иаков сам называет себя по имени 230. Но в начале Похвалы он свидетельствует, что еще прежде написал два другие сочинения: краткое житие святого Владимира с того времени, как он возжелал святого крещения, и Сказание о святых страстотерпцах Борисе и Глебе 231. Рассматривая Похвалу великому князю Владимиру, видим, что она составлена не на основании летописи Несторовой, а только по слухам или устным преданиям, что она даже несогласна с летописью в хронологии и некоторых подробностях знак, что Иаков написал эту Похвалу, когда летопись, которою он мог бы поверить слышанное им от других, еще не существовала, и жил, по крайней мере, во второй половине XI в. 232 Если так, то составленные им еще прежде Похвалы Сказания о святом Владимире и святых мучениках Борисе и Глебе должны быть весьма древни. Перебирая разные жития святого Владимира, встречаем между ними одно, которое начинается словами: "Сице убо бысть малым прежде сих лет сущу самодержцю всея Русскыя земля Володимиру..." Равным образом и между сказаниями о святых мучениках Борисе и Глебе находится одно, которое на первых строках повторяет те же многозначительные слова 233. Эти-то два Сказания о святом Владимире и святых мучениках Борисе и Глебе, как древнейшие из всех, доныне известных, и написанные спустя немного лет по смерти Владимира, всего естественнее могут быть приписаны черноризцу Иакову, тем более что в некоторых рукописях они следуют непосредственно за Похвалою и составляют с нею как бы одно целое 234, тем более скажем еще, что в Сказании о святых мучениках Борисе и Глебе автор обещается написать и о святом Владимире, в Похвале же замечает, что уже написал, "како просвети благодать Божия сердце князю русскому Володимеру и вжада святаго крещения" 235, а житие Владимира начинается именно с того времени, как Владимир отправил послов для испытания вер и возжелал святого крещения. Правда, оба эти Сказания содержат в себе весьма много сходного с летописью Нестора, но, по всем соображениям, не Сказания заимствованы из летописи, а летопись воспользовалась ими. Правда и то, что по некоторым спискам в Сказаниях встречаются места, заставляющие относить их почти к половине XII в.; но эти места можно считать позднейшими вставками и искажениями, потому что в других списках они или вовсе не встречаются, или читаются иначе 236.
Кто же был черноризец Иаков, писавший в XI в., спустя немного лет после святого Владимира? Из отечественных иноков, живших в XI столетии, летопись упоминает только об одном Иакове, которого предлагал преподобный Феодосий Печерский в последние минуты своей жизни (в 1074 г.) собравшейся к нему братии вместо себя во игумена и который, следовательно, отличался и высоким благочестием, и достаточным образованием, так как первая обязанность игумена, по Студийскому уставу, была поучать братию. Печеряне не согласились принять Иакова на том единственно основании, что он не между ними был пострижен, а пришел с Альты, т. е., вероятно, из какого-либо переславского монастыря 237. Этот-то Иаков и мог написать все три рассматриваемые нами исторические сочинения, равно как он же мог быть и тем черноризцем Иаковом, к которому написано известное церковное правило одним из тогдашних наших митрополитов – Иоанном II (1077 – 1089). Судя по важности этого черноризца Иакова и по тому, что он был современником великому князю Изяславу, который назывался Димитрием, можно согласиться, что не другому Иакову принадлежит и послание "некоего отца к духовному сыну" – великому князю Димитрию, отличающееся глубокою древностию слога 238.
Из трех исторических сочинений черноризца Иакова прежде другю написано Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе, потом житие святого Владимира и, наконец, Похвала ему, потому что в Сказании автор только дает обещание написать житие святого Владимира, а в Похвале упоминает уже о Сказании и житии как им уже написанных. Прежде или после исторических сочинений написано Иаковом послание к великому князю Димитрию – неизвестно, но надобно допустить, что оно явилось отнюдь не позже 1060 г., когда Изяславу (род. 1024) было 35 лет, потому что в послании есть намек, что великий князь был еще юношею и не достиг мужества 239.
Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе служило одним из любимейших чтений для наших предков, как свидетельствуют многочисленные его списки, доселе сохранившиеся. Но эти же списки показывают, что оно, подобно многим другим наиболее употреблявшимся памятникам нашей древней письменности, подверглось от переписчиков немалым изменениям и искажениям. Списки Сказания, сколько они нам известны, можно разделить на три фамилии: в одних содержится собственно сказание о мученической кончине святых братьев, заключающееся известием о погребении святого Глеба вместе с Борисом в Вышгороде и общею им похвалою 240; в других непосредственно за таким же сказанием следует еще рассказ о первых трех чудесах святых мучеников, повествующий вместе об открытии их мощей, об установлении в честь их праздника 24 июля при великом князе Ярославе и оканчивающийся известием о смерти Ярослава 241; в третьих этот рассказ о чудесах 242, следующий за сказанием, продолжается далее и повествует о перенесении мощей святых мучеников в 1072 г. и о последующих затем чудесах или даже о втором перенесении святых мощей, бывшем в 1115 г. при великом князе Владимире Мономахе 243. Между списками самого Сказания, если рассматривать его в отдельности от рассказа о чудесах, кроме многих неважных разностей, встречается разность замечательная – в одних есть вставка, видимо заимствованная из летописи, о том, как Ярослав пред походом против Святополка избил новгородцев и помирился с ними и как потом Святополк с Болеславом Польским одержал победу над Ярославом, хотя ни то, ни другое не согласно со связью речи 244; в других списках этой вставки нет, и повествование идет самым естественным порядком 245. Из всех трех фамилий Сказания о святых мучениках Борисе и Глебе нам кажется вторая наиболее близкою к подлиннику: а) в списках этой фамилии нет помянутой вставки из временника Нестора, хотя, впрочем, она не встречается и в некоторых списках первой и даже третьей фамилии; б) невероятным представляется, чтобы первый жизнеописатель святых мучеников, живший во второй половине XI в., заключил свое сказание об них известием только о погребении их и общею им похвалою, не упомянув об открытии мощей их, о причтении их к лику святых, об установлении в честь им праздника, бывшем около 1020 г.; в) рассказ о первых трех чудесах святых мучеников, где повествуется об открытии мощей их и установлении им праздника, существовал в письмени еще прежде Нестора, и Нестор, как справедливо догадываются, им пользовался в своем сочинении о тех же мучениках 246; г) напротив, рассказ о последующих чудесах с 1072 г., содержащийся в списках третьей фамилии, не только не существовал в письмени до Нестора, но у самого Нестора и заимствован, ибо Нестор о первом чуде, именно об исцелении немого и хромого, совершившемся после 1072 г., говорит как современник и, вероятно, очевидец; о втором – об исцелении некоей жены из Дорогобужа слышал непосредственно от этой самой жены; о третьем – об исцелении слепого слышал от другого своего современника 247; следовательно, в рассказ не Несторов известия об этих чудесах, которые первый записал Нестор, вероятно, внесены из его сочинения.
Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе состоит из пяти частей: а) из краткого приступа, где после общего изречения пророка: Род правых благословится, и семя их во благословении будет (Пс. 3. 3), сочинитель замечает: "Так случилось и за немного лет прежде нас во дни Владимира, просветившего землю Русскую святым Крещением" – и говорит о двенадцати сынах равноапостольного князя, о разделении между ними уделов и о том, что при этом Святополка посадил отец в Пинске, Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме; б) из повести об убиении Святополком святого Бориса, почти совершенно сходной с летописью; в) из повести об убиении Святополком Глеба, также сходной с летописью; г) из повести об отыскании тела Глебова и погребении его вместе с Борисом в Вышгороде по приказанию великого князя Ярослава уже после того, как он, двукратно победив Святополка на берегах Днепра и на Альте, занял престол киевский; д) наконец, из похвалы святым страстотерпцам, составляющей заключение Сказания. В рассказе о первых чудесах мучеников можно различать три части: а) общее вступление, довольно продолжительное, где говорится, что мы не в состоянии ни постигнуть, ни поведать всех чудес, какие совершают мученики силою Божиею, и тех благодеяний, какие они являют нам своим предстательством пред Богом; б) самую повесть о чудесах Бориса и Глеба и обстоятельствах, предшествовавших и сопутствовавших открытию мощей их и установлению в честь им праздника при митрополите Иоанне и великом князе Ярославе; в) краткое заключение, упоминающее о кончине великого князя Ярослава. Вообще, и сказание о святых мучениках, и рассказ о чудесах их составлены довольно искусною рукою, изложены довольно ясно, последовательно и занимательно, проникнуты любовию к святым мученикам и по местам одушевлением, особенно там, где автор или представляет мучеников говорящими, или изливает пред ними свои чувства.
Вот, например, как сетовал святой Борис, получив весть о смерти отца своего и о замыслах Святополка: "Увы мне, свет очей моих, сияние зари лица моего, бразда юности моей, наставление неразумия моего! Увы мне, отче мой, господине мой! И к кому прибегну, на кого воззрю, или где насыщуся такого благого учения, как прежде от разума твоего? Увы мне, увы мне! Как зашел ты, свете мой, когда я не был там, чтобы, по крайней мере, мог я погребсти честное тело твое и предать его гробу своими руками? Но я не сподобился нести мужественного тела твоего, не сподобился целовать добролепных седин твоих. О блаженниче мой, помяни мя в покое твоем! Сердце мое горит, и душа смущается, и не знаю, к кому обратиться и пред кем излить горькую печаль мою. К брату ли Святополку, которого я имел вместо отца? Но думаю, что он печется о мирском и суетном и помышляет о убийстве моем... Что ж скажу или что сотворю? Пойду к брату моему и скажу ему: "Ты будь мне отцом, ты мне брат старейший, что повелишь мне, господине мой?" Или вот слова святого Глеба пред тем, как убийцы устремились на него, и когда он прощался с жизнию: "Спасися, милый отче мой и господине Василие! Спасися, мати и госпожа моя! Спасися, брате Борисе, старейшине юности моея! Спасися брате, споспешителю Ярославе! Спасися и ты, брате мой и враже Святополче! Спаситесь и вы, братия моя и дружина, спаситесь все! Уже я не увижу вас в житии сем, потому что меня разлучают с вами насильно... Василие, Василие, отче мой! Приклони ухо твое и услышь глас мой; призри и виждь, что приключилось чаду твоему, как без вины закалают меня. Увы мне, увы мне! Слыши, небо, и внуши, земле! И ты, брате мой Борисе, услышь глас мой! Отца моего Василия позвал я – и он не послушал меня; ужели и ты не захочешь меня послушать? Взгляни на скорбь сердца моего и язву души моея; посмотри на потоки слез моих и как никто не внемлет мне, помяни же хоть ты меня и помолись о мне общему Владыке, имея дерзновение и предстоя у престола Его..." Или вот отрывки из похвалы святым мученикам, заключающей Сказание: "Как похвалить вас, не знаю, и что сказать, недоумеваю. Назову ли вас ангелами, потому что вы быстро являетесь вблизи скорбящих? Но вы пожили на земле во плоти, как люди. Наименую ли вас царями и князьями? Но вы были просты и смиренны более всякого и смирением стяжали небесные жилища. Поистине вы цари царям и князи князьям нашим! Ибо вашим пособием и защищенном они державно побеждают врагов своих и вашею помощию хвалятся. Вы – им и нам оружие, вы – земли Российской забрало, и утверждение, и меч обоюду острый, которым побеждаем языческую дерзость и попираем дьявола. Поистине могу сказать: вы небесные человеки и земные ангелы, столпы и утверждение земли нашей... О блаженные гробы, приявшие честные тела ваши, как сокровище многоценное! О блаженная церковь, в которой поставлены святые раки ваши, угодники Христовы! Блажен поистине и высок более всех городов русских Вышгород, имеющий у себя такое сокровище, которое дороже всего мира! Справедливо он назван Вышгородом как высший всех городов, имея в себе врачевство безмездное, которое даровано Богом не одному нашему языку, но и всей земле, потому что от всех стран приходят туда и туне приемлют там исцеление... О блаженные страстотерпцы Христовы! Не забывайте отечества своего, в котором пожили вы по плоти, посещайте его и в молитвах всегда молитеся о нас – вам дана благодать молиться за нас... Глад и озлобление отгоните от нас, от всякого бранного меча и междоусобия брани избавьте нас и заступите нас от всякого грехопадения, уповающих на вас...".
Житие святого Владимира и Похвала ему черноризца Иакова, встречающиеся по рукописям большею частию вместе 248, хотя сохранились в меньшем количестве списков, нежели Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе, но также не во всей первобытной целости, а со вставками, сокращениями и изменениями. Жития мы знаем два вида, из которых один отличается от другого началом, заключением и вставкою, где Киев называется вторым Иерусалимом, а Владимир вторым Моисеем и неточно говорится о 33 летах жизни Владимира после крещения 249. Похвалы известно три вида: обширный 250, средний, в котором недостает значительного отрывка о крещении святой Ольги и ее кончине, об открытии мощей ее 251, и краткий, в котором недостает целой первой половины и в остальной сделаны пропуски 252. Трудно решить, какой из этих видов жития и Похвалы ближе к подлиннику, пока не сделаются известными более списков того и другой. Оба сочинения невелики, особенно первое.
Житие святого Владимира начинается словами: "Так было за немного лет прежде нас во дни самодержца Русской земли Владимира, внука Ольгина, правнука Рюрикова; ходили послы его к болгарам, и к немцам, и в Царьград..." и проч. Затем в порядке и почти совершенно сходно с летописью повествуется о совещаниях Владимира касательно перемены веры, о походе его на Корсунь, о крещении киевлян, о сооружении им Десятинной церкви, упоминается о его добрых делах и о кончине. Далее делается замечание, что Владимир был вторым Константином для земли Русской, что, хотя он в язычестве предавался разным грехам, но по крещении очистил их покаянием и милостынями, что он сотворил величайшее добро для земли Русской, крестив ее, и что потому мы должны молиться Богу о прославлении его. Все это заключается молитвою самого писателя: "О святые цари Константине и Владимире! Помогайте на сопротивных сродникам вашим, избавляйте от всякой беды людей греческих и русских и о мне грешном молитесь Богу как имеющие дерзновение пред Ним, да спасусь вашими молитвами. Молюсь и преклоняю вас на милость писанием сей малой грамоты, которую, похваляя вас, написал я недостойным умом и худым, и невежественным моим смыслом. Вы же, святые, молясь о нас, о людях своих, приимите в сомолитвенники к Богу чад ваших Бориса и Глеба, да все вместе возможете умолить Господа с помощию силы Честного Креста, и с молитвами Пресвятой Богородицы, Госпожи нашей, и со всеми святыми..." Эта молитва, очевидно, принадлежит не переписчику, а сочинителю, который выражается, что он написал грамоту своим недостойным умом и худым смыслом, и указывает на свое писание как бы на некую умилостивительную жертву. А призывая здесь в сомолитвенники Владимиру за себя святых Бориса и Глеба, не руководствовался ли автор тою мыслию, что он и в честь их составил подобное же писание?
Похвала святому Владимиру и вместе святой Ольге черноризца Иакова не имеет того единства в составе своем и той последовательности, каким отличаются два другие сочинения, усвояемые тому же писателю. Здесь события излагаются без хронологического порядка, часто повторяются, и там, где, по-видимому, надлежало бы ожидать окончания речи, она начинается снова. Это зависело или от самого свойства Похвалы, в которой автор не имел нужды держаться исторического порядка, какому следовал в житии святого Владимира, а только предавался свободному влиянию мыслей и чувств, или, быть может, от того, что Похвала подверглась большему искажению от переписчиков, нежели другие сочинения Иакова. Состав Похвалы в ее обширном виде следующий: за приступом, в котором автор говорит, что он, по примеру других писавших жития и мучения святых, написал о святом Владимире, крестившем землю Русскую, и о детях его – святых мучениках Борисе и Глебе, следует похвала святому Владимиру собственно за подвиг его Крещения и просвещения земли Русской; потом похвала святой Ольге за такой же подвиг; далее новая похвала Владимиру, или изображение его разных добрых дел, побед и смерти; наконец, некоторые краткие заметки о частных случаях его жизни и кончины. Может быть, к Похвале, если судить по заглавию ее в рукописях ("Память и похвала князю русскому Володимеру, как крестися Володимер и дети своя крести и всю землю Русскую от конца и до конца, и како крестися баба Володимерова Ольга прежде Володимера"), принадлежали первоначально только две первые части, следующие за приступом, а две последние прибавлены после кем-либо из переписчиков, тем более что они, особенно последняя, не имеют характера похвалы и в некоторых рукописях встречаются в виде отдельного жития святого Владимира 253. Но утверждать это с решительностию не можем. Чтобы несколько ознакомиться с сочинением, представим отрывки собственно из двух первых частей. В Похвале святому Владимиру Иаков, между прочим, говорит: "О блаженный и треблаженный княже Владимире, благоверне, и христолюбиво, и страннолюбче! Мзда твоя весьма многа на небесах... Сам Господь сказал: И же сотворит и научит, сей велий наречется в Царствии Небесном (Мф. 5. 19). А ты, о блаженный княже, был апостол из князей, приведши к Богу всю землю Русскую святым Крещением и научив людей своих кланяться Богу, славить и петь Отца и Сына и Святого Духа. И все люди земли Русской тобою познали Бога, Божественный княже Володимире! Возрадовались тогда ангельские чины, а ныне радуются вернии, и воспевают, и восхваляют. Как отроки еврейские, встретив с ветвями Христа, вопияли: "Осанна Христу Богу, победителю смерти" – так и новоизбранные люди Русской земли вновь восхвалили Владыку Христа со Отцом и Святым Духом, приблизившись к Богу святым Крещением, отвергшись дьявола и служения ему... и поют во все дни живота и на всякий час песнь чудную, хвалу архангельскую: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение..." Обращаясь затем к святой Ольге, сочинитель восклицает: "О, как похвалю блаженную княгиню Ольгу, братие, – не знаю. Телом будучи жена, имея мудрость мужескую, просвещенная Духом Святым, уразумев Бога истинного. Творца неба и земли, пошла она в землю Греческую, в Царьград, где цари – христиане и христианство утвердилось, и, пришедши, просила себе крещения, а прияв святое крещение, возвратилась в землю Русскую, в дом свой, к людям своим с радостию великою, освященная Духом Святым, неся с собою знамение Честного Креста. И потом требища бесовские сокрушила и начала жить о Христе Иисусе, возлюбив Бога всем сердцем и всею душою, пошла вослед Господа Бога, освятившись всеми добрыми делами, украсившись милостынею, нагих одевая, жаждущих напояя, странников упокоевая, нищих, вдовиц и сирот – всех милуя, всем подавая потребное с тихостию и любовию сердца и моля Бога день и ночь о спасении своем. И так поживши и достойно прославив Бога в Троице, Отца и Сына и Святого Духа, почила в благой вере, скончала житие свое с миром о Христе Иисусе Господе нашем..."
Послание черноризца Иакова к великому князю Димитрию (Изяславу) все содержания нравственного. Сначала Иаков как духовный отец извещает князя, что получил его послание весьма смиренное, похваляет его раскаяние, говоря, что все ангелы радуются на небеси о покаянии одного человека, сам Господь хочет обращения, а не смерти грешника, что Он и на землю сходил не для праведников, а для грешников, что жертва Богу дух сокрушен, и разрешает своего духовного сына от всех его грехов, заповедуя ему молиться Богу от сердца. Не довольствуясь преподанием одного разрешения от грехов, Иаков преподает князю наставления, чтобы исправить его на будущее время: "Что же, ужели мы сделаемся слабее, когда прежнее миновало (прощено)? Нет, но будь всегда бодрым стражем телу твоему. Блюдись запойства, потому что оно удаляет от нас Святого Духа, гордости, потому что гордым Бог противится, беззаконного смешения, потому что всяк грех, егоже аще сотворит человек, кроме тела есть, а блудяй во свое тело согрешает..." (1 Кор. 6. 18) Против последнего порока писатель вооружается с особенною силою, говорит о том вреде, какой могут причинять человеку жены-любодеицы, указывает на примеры падения от них мужей достойных – на Сампсона, Давида, Соломона и других и убеждает юного князя бороться с плотскою похотию, побеждать ее страхом Божиим, довольствоваться своею законною женою и жить в чистоте, как бы в святой Церкви. После этого следуют другие наставления: Иаков заповедует князю быть благоразумным, чтобы от одного греха не происходило многих, не мстить врагам, быть терпеливым и великодушным по примеру Господа, столько потерпевшего за нас, любить ближних, потому что не какими-либо чудесами, а только взаимною любовию друг к другу, как сказал Господь, мы можем доказать, что мы Его ученики. "Впрочем, – продолжает Иаков, – если ты хочешь и чудеса творить по примеру апостолов, и это возможно. Они врачевали хромых, исцеляли сухоруких, а ты храмлющих в вере научи и ноги текущих на игрища обрати к церкви, руки, иссохшие от скупости, сделай простертыми на подаяние нищим. Можешь, если хочешь, быть подражателем и святых. Ныне нет уже таких гонений, но время для стяжания таких же венцов не прошло, потому что не прекратилась брань дьявола. Не преследуют нас люди, но преследуют бесы; нет мучителей, но есть дьявол". Преподав еще несколько уроков, упомянув о скоротечности жизни и неизвестности последнего часа, о Страшном суде, об огне геенском, черноризец, наконец, заключает: "Все это, не лаская тебе, написал я и не по желанию показать, что я знаю или что я сам творю доброе, но Бог свидетель, написал от любви и от печали о душе твоей, чтобы ты преуспевал в добре. А ума моего слабость сам знаешь; разум мой несовершен и исполнен всякого неведения, этого скрыть нельзя. Святой Павел сказал коринфянам: Аще изумехомся, то Богови, аще ли умудрихомся, то вам (2 Кор. 5. 13). Не уничижаю силы Божией всемощной, не отметаю дара, туне мне данного. От скверных дел и непотребного сердца, от нечистой души, грубого ума и нестройной мысли, от бесстудного языка и нищих уст – вот слово богатое и умноженное силою и разумом Святой Троицы: ни на небеси горе, ни на земли долу нет ничего важнее, как знать Господа, повиноваться деснице Его, творить волю Его, соблюдать заповеди Его. Одно имя великое не введет в Царство Небесное, и слово, не сопутствуемое делами, не в пользу слышащим, а сопутствуемое делами становится достойным веры" 254.