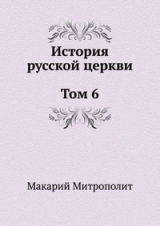
Текст книги "История русской Церкви. Том 6"
Автор книги: Макарий Митрополит (Булгаков)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В некоторых из них он позволил себе резко нападать на современные недостатки и пороки в народе, в вельможах, в духовенстве. Еще более неосторожности было в том, что он усвоил себе мысль старца Вассиана Косого о неприличии монастырям и святителям владеть недвижимыми имуществами и для распространения ее написал несколько статей; этим он шел не только против Собора, недавно решившего вопрос совсем иначе, не только против иноков, святителей, митрополита, но и против великого князя, который продолжал наделять монастыри новыми владениями и новыми жалованными грамотами. Митрополит Даниил сначала был, кажется, в добрых отношениях к Максиму, приводил в своих Словах места из толковой Псалтири, переведенной Максимом; а последний окончил в 1524 г. перевод Бесед святого Иоанна Златоустого на Евангелия Матфея и Иоанна "благословением, радением и тщанием Даниила митрополита". Но когда Даниил предложил Максиму перевесть "Историю" блаженного Феодорита и повторял это предложение три раза, Максим не послушался под тем предлогом, что в "Истории" помещены и письма некоторых еретиков, которые могут быть опасны для "простоты". Даниил глубоко оскорбился этим троекратным непослушанием. Самая же важная неосторожность Максима состояла в том, что он позволял себе действия, которые могли восстановить против него непосредственно великого князя: например, принимал у себя бояр, находившихся под опалою государя и беседовал с ними наедине; имел сношения с турецким послом, находившимся тогда в Москве и враждебным России. За такие-то действия прежде всего и пришлось Максиму поплатиться.
В первый раз он привлечен был к суду в феврале 1525 г., следовательно, за девять с лишком месяцев до развода великого князя Василия Иоанновича, и привлечен по делу о двух опальных боярах – Иване Беклемишеве-Берсене и Федоре Жареном. Весь акт этого следственного дела до нас не сохранился, потому мы и не можем определить вполне, насколько тут виновен был Максим. А сохранился только отрывок о двух заседаниях суда. В одном заседании келейник Максимов Афанасий Грек показал, что к Максиму хаживали шесть человек, но из них "добре советен" был Максиму именно Иван Берсень и что когда приходили прочие, то они "спиралися межь себя о книжном" и Максим келейников своих не высылал, а когда приходил Берсень, Максим высылал всех келейников и долго сиживал с ним один на один. Сам Максим показал, что Берсень действительно приходил к нему, а также какие речи вел с ним Берсень и какие Федор Жареный про государя, его мать Софию и митрополита; между ними были, точно, оскорбительные, особенно для государя. Берсень отказался от этих своих речей, Жареный не отказался. В другом заседании, происходившем 22 февраля, Максима не было: его незадолго перед тем, по выражению Берсеня, "уж изымали", а были только Берсень и Жареный. Первый сознался теперь, что Максим показывал на него правду; Жареный сказал, что великий князь "присылал к нему игумена троицкаго, чтобы ему на Максима всю истину сказал". Значит, Максим навлек на себя сильное подозрение. Других подробностей дела не знаем; но оно считалось, верно, очень важным и кончилось тем, что великий князь приказал Берсеню отрубить голову, а Жареному вырезать язык.
Через месяц начался целый ряд Соборов, происходивших то во дворце государя, то в палатах митрополита в продолжение апреля и мая, на Максима и его единомышленников, из которых известен Савва, также святогорец, родом грек, новоспасский архимандрит. К сожалению, до нас дошла запись только об одном из этих Соборов, а что происходило на прочих, мы знаем лишь вкоротке из акта позднейшего Собора, бывшего уже в 1531 г. на того же Максима, когда митрополит счел нужным напомнить Максиму, за что он был судим и осужден в 1525 г. Из этих напоминаний и из названной записи видим, что Максима судили в 1525 г. за вины против государя и России, за вины против русского духовенства и Русской Церкви, за вины против православной веры.
"Вы, – говорил митрополит Даниил в своих напоминаниях Максиму, пришли от Святой горы из Турецкой державы к нашему благочестивейшему государю для милостыни, и государь жаловал вас милостынями, посылал многие дары в ваши монастыри, почел вас великою честию; и вам следовало бы молить Бога за благочестивого государя и за всю его державу. А вы с Саввою вместо добра умышляли зло великому князю и посылали грамоты к турецким пашам и к самому турецкому царю, подымая его на нашего благочестивого государя и его державу. Да вы же знали советы и похвальбы турецкого посла Скиндера (родом грека, приходившего тогда в Москву несколько раз), что он хотел поднять турецкого царя на нашего государя и его державу; ты знал то, Максим, но не сказал ни государю, ни его боярам. Да ты же говорил многим людям: "Быть на Русской земле турецкому султану, ибо он не любит сродников царей цареградских". Ты же, Максим, называл великого князя гонителем и мучителем нечестивым, как прежде бывали нечестивые гонители и мучители. Ты же говорил: "Князь великий Василий выдал землю крымскому царю, а сам, оробев, бежал от турецкого…" и пр. Неизвестно, что отвечал Максим на такие важные обвинения, как оправдывался. Но, видно, оправдания его признали недостаточными и даже через шесть лет его снова обвиняли в том же. Еще замечательнее то, что Максим тут обвинялся не один, а вместе с святогорцем Саввою, который потом и пострадал, был сослан в Зосимин монастырь. Значит, ложно предположение, будто хотели обвинить только Максима.
"Ты, Максим, – продолжал митрополит, обращаясь уже к одному Максиму, укоряешь и хулишь наши церкви и монастыри за то, что они имеют стяжания, села, доходы; а в ваших монастырях на Святой горе и в других местах вашей земли у церквей и монастырей села есть, да и в писаниях отеческих это дозволено. Ты же, Максим, укоряешь и хулишь святых чудотворцев Петра, Алексия и Иону, митрополитов всея России, и преподобных чудотворцев Сергия, Варлаама, Кирилла, Пафнутия и Макария и говоришь: "Они держали города, волости, села, людей, собирали пошлины и оброки, имели богатства, а потому им нельзя быть чудотворцами". Не знаем, что и на это отвечал Максим. Но когда ему напомнили: "Ты говорил многим людям, что здесь в Москве митрополит поставляется своими епископами, без благословения Цареградского патриарха, а все то за гордость не принимают патриаршего благословения и ставятся собою самочинно и бесчинно", – Максим сознался, что действительно спрашивал, на каком основании ставятся Русские митрополиты не по прежнему обычаю у патриарха, и что хотя много допытывался благословенной грамоты, какую будто бы дал на то русским Цареградский патриарх, но доселе не видал ее и думает, что Русские митрополиты ставятся так по гордости. Наконец, когда Максиму напомнили: "На тебя подали запись протопоп Афанасий, поп Василий да протодиакон Иван Чюшка, что ты здешние книги хулишь и сказываешь, что на Руси нет ни Евангелия, ни Апостола, ни Псалтири, ни правил, ни уставов, ни отеческих, ни пророческих книг", – Максим стал препираться с протопопом и утверждал, что того не говаривал, а говорил только, что здесь на Руси книги не прямы, а иные перепорчены переводчиками, потому должны быть переведены вновь. Как ни судить о всех этих обвинениях на Максима, но они, очевидно, были не вымышленные, а основанные на действительности и не могли не казаться, особенно некоторые, неоскорбительными для русского духовенства и Церкви.
Самая важная вина Максима против православной веры состояла в следующем: он говорил и учил многих и писал о Христе, что сидение Его одесную Отца есть мимошедшее, минувшее, подобно тому как пребывание Адама в раю и сидение его прямо рая – мимошедшее. Потому где было в наших книгах написано: "Христос взыде на небеса и седе одесную Отца" или: "Седяй одесную Отца", Максим то зачеркал или выскреб, а вместо того написал: "Седев одесную Отца" или: "Седевшаго одесную Отца", а в ином месте: "Сидел одесную Отца". Здесь действительно скрывается мысль ложная, даже еретическая: мы исповедуем Христа как истинного Сына Божия, Единосущным, совечным и сопрестольным Богу Отцу, и, следовательно, сидение Христа одесную Отца есть никогда не престающее, а не прошедшее, не минувшее. К изумлению, Максим и на Соборе отвечал: "В том нет никакой разности: как пребывание Адама в раю и сидение прямо рая есть мимошедшее, так же и Христово сидение одесную Отца есть мимошедшее". И этот самый ответ повторил через шесть лет на Соборе 1531 г. Могли ли же отцы Собора не обвинить Максима в таком важном и вместе упорном заблуждении? Уже впоследствии, в 1534 г., в своем Исповедании веры Максим оправдывал себя в этой погрешности тем, что при исправлении книг он не знал достаточно русского языка, а передавал свои мысли по-латыни толмачам Димитрию и Власу, и потому, если есть что-либо хульного в речениях седел ecu, седев, то следует вменить такое "нелепое презрение" не ему, а толмачам: он не понимал тогда различия в таких речениях. Что касается до других догматических заблуждений, в которых обвиняли Максима на Соборе 1525 г., то он старался отклонять их от себя. Например, когда его спросили: "Зачем вы написали в своих правилах: "Аще кто наречет Пречистую Богородицу Деву Марию, да будет проклят"? – Максим отвечал: "Я того не писал и не велел писать; это описка, а описки бывают и в наших книгах, и в ваших; вы за то нас не обвиняйте". Когда ему сказали: "Где в наших книгах написано: "Бесстрастно Божество", ты то загладил и написал: "Нестрашно Божество", а в другом месте: "Бесстрашно Божество", Максим отвечал: "То опись, а описался писец; вы сами то исправляйте". Был и такой вопрос Максиму: "Для чего ты многократно говорил многим людям: "Христос взошел на небеса, а Тело Свое оставил на земле, и оно ходит по пустым местам между гор, и от солнца погорело и почернело, как головня?" Максим отвечал: "Это на меня ложь, я того не говорил". Но как тотчас же с очей на очи с Максимом Михаил Медоварцев, старец Вассиан Рушанин, келейник Максимов – инок Афанасий Грек да Федор Сербин подтвердили, что все то Максим говорил, он сознался, что виноват, что он точно когда-то рассказывал, как все то говорят люди лихие, неверные, но сам он так не лжемудрствует.
Повторяем, отнюдь не в вымышленных каких-то заблуждениях и погрешностях обвиняли Максима, а, сколько известно, в действительных. И если некоторые из них он отклонял от себя, зато в других, и очень немаловажных, сознался пред лицом Собора. Следовательно, неверно мнение, будто Максима тогда судили и осудили совершенно невинно, по одним клеветам, по одной "зависти" митрополита Даниила, как написал Курбский. Пусть будет справедливо, что главные судии, сам государь и митрополит, питали к Максиму враждебные чувства и, может быть, старались обвинить его; но не сам ли Максим возбудил к себе эти неприязненные чувства своими прежними неосторожными поступками? "Многие Соборы", бывшие на Максима в 1525 г., кончились тем, что он послан был в Иосифов волоколамский монастырь и заключен в темницу "обращения ради, и покаяния, и исправления" и чтобы он там никого не учил, ничего не писал и не сочинял, ни к кому не посылал и ни от кого не получал посланий. Находясь в темнице, Максим терпел "различные озлобления и томления и от голода, и от холода, и от дыма, отчего иногда делался как бы мертвым". К сожалению, Максим не хотел покориться решению Собора: покаяния и исправления не показывал и продолжал писать послания. К нему приставлены были два старца: старец Тихон Лелков для надзирания за ним и старец Иона, священник, в качестве духовника. И Максим говорил им: "Я чист от чрева матери моей доныне от всякого греха, не имею на себе никакой вины, и меня напрасно держат без вины". К этому присовокуплял: "Я учился философству, и на меня находит гордость; я знаю все везде, где что ни деется". Так же оправдывал он себя, и превозносил, и называл невинным везде (вероятно, чрез свои послания). Между тем в переводах и исправлениях его открывались новые погрешности. И вот, взирая на такой "необратный нрав" и на вновь открывшиеся "богохульные вины" Максима, его потребовали из Иосифова монастыря в Москву и поставили пред митрополитом Даниилом и Собором. Это случилось в 1531 г. Новые вины, за которые теперь судили Максима, кроме нераскаянности его в прежних, были немногочисленны, но весьма важны, как сознавался сам Максим, хотя и старался отклонить их от себя.
Первая вина – вина против догмата о Пресвятой Деве Богородице. Лет за десять пред тем (следовательно, около 1521 г.) Максим перевел житие Пресвятой Богородицы, составленное Метафрастом. В этом переводе находились следующие строки: "Обретеся убо Иосиф якова искаше слова от того же колена и отечества Девицы, и обручает, по совещанью иереов, себе отроковицу, совокупления же до обручения бе", а в другом месте: "И носимаго в Ней Плода утробы преславне нарицает, аки (т. е. как бы) семени мужеска никакоже причастившеся"; в третьем: "Тайное отпущение устрояше Иосиф, аки праведен сый, глаголет…". Когда Максима спросили, он ли переводил означенное житие, Максим отвечал, что он со старцем Селиваном да с Михаилом Медоварцевым и что житие тогда же списано Медоварцевым для себя, а Исаком Собакою – для старца-князя Вассиана, от которого этот список передан великому князю и у последнего хранится в казне. Когда же Максиму прочитали на Соборе приведенные нами строки из жития, он начал говорить: "Это ересь жидовская, я так не переводил, и не писал, и не приказывал писать, то на меня ложь; если же я такую хулу мудрствовал или писал, да буду проклят". Между тем против Максима свидетельствовал самый список жития Пресвятой Богородицы, из которого приведены были на Соборе хульные слова, – это был именно тот список, который, по словам самого Максима, сделан был с его подлинника для старца-князя Вассиана и доселе хранился у великого князя. Против Максима свидетельствовал Михаил Медоварцев, который говорил на Соборе: "Я с Максимом того жития не переводил; оно переведено Максимом и старцем Селиваном, и списал я то житие не у Максима, а у Юшки Елизарова. И как стали носиться речи о тех строках в житии и князь-старец Вассиан спросил меня, есть ли оно у меня и объявил, что о тех строках уже говорят, я поспешил тотчас же исправить их в моих тетрадях и вместо "совокупления" написал "совещания", вместо "аки семени мужеска" написал "яко семени мужеска", вместо "аки праведен сый" написал "яко праведен сый". Далее на вопрос митрополита, зачем он, Михаил, доселе не сказывал духовным властям о тех строках, Медоварцев отвечал: "Я много раз спрашивал о всех тех строках старца-князя Вассиана и Максима Грека, и они мне говорили: "Не твое дело, ты только пиши; а то так и надобно, то есть истина". Я хотел сказать тебе, митрополиту, и владыкам, но Вассиан и Максим не велели ничего сказывать, говоря: "Они того не ведают, а знают только одно: им надобны пиры и села да скакать и смеяться с ворами". И не я один, но и старец Селиван вместе со мною много раз говорил им о тех строках, и они нам возбраняли и говорили: "То так и надобно". Против Максима свидетельствовал еще чернец Вассиан Рушанин, клирошанин, который жил в Чудовом монастыре и несколько времени побыл в келье князя-старца Вассиана (значит, там жившего), правя у него книги, Этот чернец показывал, что спрашивал князя Вассиана о тех строках, и Вассиан послал за Максимом, и оба они, посоветовавшись между собою, отвечали: "Так то и надобно"; в другой раз спрашивал о том одного Максима и получил от него такой же ответ. Показания свои как Медоварцев, так и Рушанин повторили пред лицом Собора на очной ставке с Максимом в присутствии старца-князя Вассиана, но Максим и Вассиан запирались и отвечали: "Мы от вас того не слышали и вам того не говорили". Можно думать, что в тех хульных строках о Пресвятой Богородице, которые Максим справедливо назвал жидовскою ересию, он сам не был виновен, по крайней мере сознательно, но более виновен был князь-старец Вассиан, который, как увидим, действительно разделял и другие еретические мысли жидовствующих и был постоянным их покровителем. Максим в то время, как переводил житие Пресвятой Богородицы, еще мало знал русский язык и мог в точности не разуметь соблазнительного смысла означенных строк, но Вассиан, без сомнения, разумел этот смысл, как разумели старец Селиван, Медоварцев и Рушанин. А потому, когда последние обратились к нему, Вассиану, со своими сомнениями, он мог бы вразумить и Максима. Между тем князь-старец не только не вразумил Максима, но, напротив, посоветовавшись с ним, стал утверждать вместе с Максимом: "То так и надо, то истина". Максим положился на Вассиана как природного русского, а Вассиан расчел, может быть, воспользоваться авторитетом Максима, чтобы чрез его перевод содействовать распространению хульных мыслей о Богородице. По крайней мере, несомненно, что чрез десять лет после этого перевода Максим, уже достаточно узнавший наш язык, прямо назвал на Соборе те строки еретическими, а мудрствующего так признал достойным проклятия.
Вторая вина – вина против догмата о Христе как Сыне Божием. Митрополит спросил Максима: "Зачем ты в книге Деяний апостольских загладил следующие слова о вере в Господа Иисуса Христа, Сына Божия: Рече Филипп каженику: аще веруеши от всего сердца твоего, мощно та есть (креститися); отвещав же каженик рече: верую Сына Божия быти Иисуса Христа (Деян. 8. 37)?" Максим отвечал: "То загладил Михаил Медоварцев; а я так не писал, и не приказывал писать, и не мудрствовал; если же я так писал, или велел писать, или мудрствовал, да буду проклят". Тогда Медоварцев, спрошенный митрополитом, показал: "Мне велел загладить Максим; а князь-старец Вассиан велел мне слушать его, и я слушал его и писал, а иное заглаживал. Много раз сказывал я о том Вассиану, но он мне говорил: "Мало ли что бредили и писали!" А когда я заметил, что русские книги переведены с греческих, которые написаны от Святого Духа святыми апостолами, Вассиан воскликнул: "От дьявола писаны, а не от Святого Духа (хула жидовствующих против Писаний апостольских)! Ты слушай меня да Максима Грека, и как тебе велит писать или заглаживать, так и делай. Здешние книги все лживые, и здешние правила – кривила, а не правила". Услышав это, митрополит снова спросил Медоварцева: "Зачем же ты не сказывал о таких хульных речах нам еще на прежнем Соборе, бывшем на Максима?" Медоварцев отвечал: "Боялся объявлять о таких вещах, боялся старца Вассиана, чтобы он не уморил меня; в том я виноват, что заглаживал из страха пред Вассианом". Во всяком случае, трудно поверить, чтобы Медоварцев, который был только писцом при Максиме, осмелился самовольно загладить означенные слова в священной книге, исправляемой Максимом, если бы Максим и Вассиан того не хотели, – они могли бы немедленно заставить его, чтобы он исправил сделанную им ошибку.
Третья, и последняя, вина – вина против догмата о Святом Духе и всей Пресвятой Троице. Митрополит спросил Максима: "Зачем ты загладил большой отпуст в троицкую вечерню, представляющий такое премудрое изложение о Пресвятой Троице и Святом Духе?" Максим отвечал: "То ведает Михаил Медоварцев", а Медоварцев сказал: "Мне велел загладить Максим, и я, загладив только две строки, усомнился и объявил Максиму, что не могу заглаживать: дрожь меня проняла великая и на меня напал ужас. Тогда Максим взял книгу да сам загладил все до конца". "Так ли то было?" – спросил Максима митрополит, и Максим отвечал: "Мне велел загладить митрополит Варлаам, да владыка Суздальский Симеон, да владыка Крутицкий Досифей, да князь-старец Вассиан (который, значит, имел власть повелевать Максиму), а свидетелем при этом был Михаил Медоварцев". Но Медоварцев сказал: "Я ничего того не слышал от Варлаама митрополита, и от Симеона, и от Досифея; один князь-старец Вассиан приказал мне слушать Максима и заглаживать, как повелит, и я действовал по их веленью. А прослушать Вассиана я боялся, потому что он был великий временный человек и ближний у великого князя; я и государя так не боялся, как боялся его, Вассиана". Вслед за тем и Досифей, владыка Крутицкий, присутствовавший на Соборе, объявил, что он в совете о том с митрополитом Варлаамом не бывал и загладить отпуст троицкой вечерни никому не приказывал – ни Максиму, ни Вассиану. Таким образом, Максиму не удалось отклонить от себя и этого последнего обвинения.
По рассмотрении новых вин Максима его спрашивали и о прежних винах, в которых он не хотел раскаяться, и Максим повторял свои прежние ответы и, между прочим, опять утверждал, что сидение Иисуса Христа одесную Отца есть мимошедшее, как сидение Адама прямо рая. Под конец, однако ж, Максим сам сознал себя виновным, три раза повергался ниц пред священным Собором и просил себе прощения, но сознал себя виновным не более как только "в некиих малых описях", найденных в его переводе, и говорил, что он сделал эти описи вовсе не по ереси и не по лукавству какому-либо, а случайно, или по забвению, или по скорби, его смущавшей, или иногда по излишнему винопитию. Между тем как соборные акты, нами рассмотренные, показывают, что Максим виновен был более, нежели в одних малых и случайных описях, и что некоторые его вины были отнюдь не маловажны, а в то время могли казаться даже весьма важными и прямо еретическими. Потому неудивительно, если отцы Собора не простили Максима, а осудили "аки хульника и Священных Писаний тлителя", отлучили его от Святых Христовых Тайн и снова в оковах послали на заточение, только не в Иосифов волоколамский монастырь, а в Отроч тверской. Что отцы Собора с митрополитом Даниилом во главе действовали здесь собственно по убеждению в важности тех вин, за которые судили Максима, доказательством служит осуждение вместе с Максимом и Михаила Медоварцева, который тогда же сослан был в Коломну, хотя виновность последнего далеко не могла равняться с Максимовою. А если бы Даниил руководился тут одною личною неприязнию к Максиму, которой действительно отвергать нельзя, и имел в виду только притеснить и погубить его, в таком случае Медоварцев за свои смелые и подробные показания против Максима заслужил бы, конечно, милость от митрополита, но не казнь.
Дошла, наконец, очередь и до князя-старца Вассиана Косого. Едва окончился Собор, судивший и осудивший Максима, как открылся новый Собор (11 мая 1531 г.) для суда над Вассианом. Не напрасно еще прежде укоряли его в гордости и дерзости, о чем он сам не раз замечает в своих сочинениях теперь его гордость и дерзость обнаружились в высшей степени. Понятна эта гордость в человеке, который был сын первого вельможи в государстве, занимал сам должность воеводы, приходился в родстве великому князю и хотя подвергся было опале и насильно пострижен в монашество, но вскоре снова приблизился ко двору и, живя в монастыре, пользовался роскошным столом от государя, сделался его ближайшим советником и временщиком, грозным для всех. Но непростительна эта гордость в иноке и старце-пустыннике, каким Вассиан любил сам выставлять себя, непростительна тем более, что она выражалась не в каких-либо мирских делах, а в делах веры и Церкви. С возмутительною дерзостию относился он к предметам, самым священным для всякого православного христианина, ко всем духовным властям, ко всем православным, не разделявшим его мыслей, называя их всех еретиками, даже отступниками, и не хотел, например, признать святости преподобного Макария Колязинского потому только, что он был будто бы "сельской мужик". Долго терпели Вассиана церковные власти, может быть, потому, что боялись его как сильного временщика, или и потому вместе, что не знали некоторых важнейших его дерзостей. Но когда дерзости эти раскрылись вполне, когда Вассиан лишился прежней силы, его потребовали к отчету на Собор.
Известно, какое значение в православной Церкви имеет Книга правил святых апостолов, святых Соборов, Вселенских и Поместных, и святых отцов, называемая обыкновенно Кормчею. И эту-то книгу Вассиан вздумал переправить по-своему: иное выбросил из нее, другое переставил в ней и перемешал, третье поместил в ней и прибавил от своего домышления, согласно с своими любимыми мыслями. "Как смел ты дерзнуть на такое дело?" – спросил Вассиана митрополит Даниил. И Вассиан отвечал: "Меня понудил на то митрополит Варлаам со священным Собором, а на том Соборе были владыки – Вассиан Ростовский, Симеон Суздальский и Досифей Крутицкий". Но находившийся тут же Досифей сказал: "Я на том Соборе не бывал и не слышал о нем, и митрополит Варлаам того старцу Вассиану не приказывал; как Вассиан священные правила, апостольские и отеческие, разрушил, а новые свои правила написал, тому 14 лет (следовательно, в 1517 г.), а Вассиан Ростовский и Симеон Суздальский преставились еще за два года прежде, тому лет шестнадцать (действительно, оба скончались в 1515 г. – первый 28 августа, а последний 13 ноября). Вассиан взводит на меня ложь". Даниил, с своей стороны, заметил Вассиану: "Правда, случалось иногда, что по нужде поручаемы были некоторые церковные дела и людям, не облеченным в священный сан, но только людям премудрым и благочестивым, а не стропотным и развращенным, как ты, который стропотное и развращенное и говоришь, и проповедуешь, и пишешь". Даже если согласиться, что Варлаам точно поручал Вассиану пересмотреть и исправить Книгу правил, это еще отнюдь не значило, будто Вассиан уполномочен был исказить ее и внести в нее свои хульные мысли. "В чем мое стропотство и развращение?" спросил он Даниила.
"Ты, – молвил митрополит, – развратил на свой разум священную великую Книгу правил и написал в ней от себя так: "Есть в священных правилах сопротивное Евангелию, и Апостолу, и жительству святых в других местах написал и многим людям говорил: "Правила писаны от дьявола, а не от Святого Духа". А Христа называешь тварию и в нетленную ересь (т. е. будто Плоть Христова была нетленна от самого рождения, а не подобна во всем плоти человеческой кроме греха) веруешь и пребываешь в ней. А чудотворцев называешь смутотворцами, потому что они имели у монастырей села и людей". Обвинения, как всякий видит, весьма важные, даже чрезвычайно важные. Что же отвечал на них Вассиан? Он как бы не обратил на них и внимания, не счел нужным и отвечать на них, а только сказал: "Я писал о селах: во Евангелии писано (где?), не велено сел монастырям держать". Когда же по приказанию митрополита прочитаны были Вассиану разные места из церковных правил, из писаний и житий святых отцов, свидетельствовавшие, что монастырям иметь земли и села не возбранено, что и в прежние времена монахи, хотя владели селами, однако умели благоугождать Богу и спасались, Вассиан вынужден был отвечать: "Те села держали, но пристрастия к ним не имели". На это митрополит справедливо молвил: "Как древние святые отцы и чудотворцы, имевшие у своих монастырей села, не имели к ним пристрастия, так точно поступали и в нынешние лета святые отцы и чудотворцы, имевшие у монастырей села; почему же ты думаешь, что нынешние чудотворцы были пристрастны к селам?" И Вассиан отвечал: "Я не ведаю, чудотворцы ли то были", – ответ, вовсе не свойственный покорному сыну православной Церкви.
"Ты, – продолжал митрополит, – в своих правилах написал: "Инокам жить по Евангелию, сел не держать и не владеть ими; если же иноки не хранят своего обещания, то Священное Писание именует их отступниками и предает проклятию". Ино ты оболгал Божественное Писание и священные правила: они не возбраняют монастырям держать села и инокам от них питаться; не именуют отступниками и не предают проклятию людей, если они согрешают. Ты всех называешь грешниками, а одного себя безгрешным и законоположителем. Ты похулил в своих правилах всех, православно верующих во Христа, и всех назвал еретиками, отступниками и законопреступниками". На все это Вассиан отвечал только: "Я писал для себя, на воспоминание своей души, да и тех не похваливаю, которые села держат". Есть ли тут какое-либо оправдание?
Два свидетеля обличали князя-старца Вассиана на Соборе за известные уже нам хульные строки в житии Пресвятой Богородицы, переведенном Максимом Греком. Некто Вассиан Рогатая Вошь показывал, что князь Вассиан послал список этого жития в свою пустынь на Белоозеро и потом, когда начались розыски о тех строках, отправил туда же грамоту к строителю Христофору, чтобы последний совершенно загладил хульные строки. Князь-старец сперва заперся было в этом, но после очной ставки сказал: "Не помню, посылал ли я или не посылал". Другой свидетель, чернец Вассиан Рушенин, бывши в Новгороде, рассказал о хульных строках архиепископу Макарию, равно и о том, как князь-старец Вассиан и Максим отвечали на спрос его, Рушенина, о тех строках: "Так то и надобно". Макарий прислал об этом митрополиту грамоту, а Даниил заявил ее на Соборе. Кроме того. Рушенин и лично повторил свое показание пред Собором на очной ставке с князем Вассианом. Но Вассиан не сознался.
Еще один старец, из постриженников Иосифова монастыря, по имени Досифей подал митрополиту записку, в которой изложил, как князь Вассиан выражал пред ним жидовские мысли о самом Христе Спасителе и другие. Вассиан, пока не увидел этого старца, сказал Даниилу: "Иосифова монастыря старцы у меня и в келье не бывали, я их к себе не пущаю, и дела мне до них нет". Но когда увидел Досифея, примолвил: "Досифей – старец великий и добрый, он у меня в келье много раз бывал". И этот-то добрый старец на очной ставке с Вассианом показал следующее, согласно со своею запискою: "Позвал меня Вассиан на Симонове в свою келью, и дал мне недельное Евангелие толковое о самарянине, и указал строку: "Тварь поклоняется твари", да молвил: "Той строки я, еще живучи в пустыни, изыскивал", думая привесть и меня к своему злоумию; но я посмотрел в книгу да и отдал ее. Пришедши в церковь, я опять стал смотреть на ту строку, а он подошел ко мне и спросил: "Что смотришь?" Я отвечал: "Вчерашнюю строку". И он молвил: "Покинь, Христос-де – Сам тварь, твари поклоняется тварь". Я ему тогда не возразил. А он опять подошел ко мне и крикнул: "Дьявольским духом писали отцы на Соборах, а не Святым!" Брат Голова советовал мне: "Молчи, иначе уморит тебя". Но я сказал: "Не боюсь", и, идя от обедни, молвил Вассиану; "Как ты давеча говорил, что не Святым Духом святые отцы писали?" – и начал с ним браниться… Потом, однажды после мефимона стал Вассиан со мною говорить: "Бог-де к Себе молвил: Сотворим человека по образу Нашему". А я отвечал: "Так говорят еретики; коли б к Себе одному, Он бы сказал: "Сотворю человека по образу Моему"; но Он сказал к Сыну и Духу: Сотворим человека по образу Нашему". Вассиан замолчал, видя, что во мне ему нет части, и покинул меня". Вассиан, выслушав на Соборе показания Досифея, во всем заперся. Нельзя не припомнить, что так именно действовали всегда еретики жидовствующие, которым Вассиан покровительствовал: они обыкновенно старались казаться православными, открывали свое лжеучение не каждому, а только тому, кого надеялись увлечь, и, когда их начинали обличать в ереси, они запирались во всем, иногда даже с клятвою.








