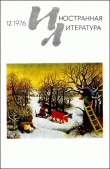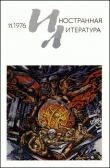Текст книги "Больница как она есть"
Автор книги: Мадлен Риффо
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Там я и зацепилась; жила как в казарме: комната с тридцатью раскладушками. Выдержала только два дня, но ни сантима не получила обратно из внесенного мною аванса. 280 франков содрали с меня за две недели вперед! Питалась я в школе, а в пансионе съела всего-навсего два завтрака. За две ночевки в «казарме» выкинуть такие деньжищи! Ты-то знаешь, что стипендия для экстернов 350 франков в месяц. Ну, как из них оплатить жилье? А еще на проезд надо тратиться. Вот и выходит...
Одна подружка по школе подыскала мне комнату в Антони. Это не ближний свет. Я квартирую у стариков, им не хватает пенсии, вот они и сдают. Они ко мне хорошо относятся. А я за ними даром ухаживаю.
Иоланда, ученица второго курса, проходит у нас, в этот период летних отпусков, обязательную двухмесячную практику, с полной дневной нагрузкой. Это значит, что она без всякой оплаты исполняет (в зависимости от обстоятельств) обязанности младшей сестры, а то и сестринские – то есть эксплуатируется, не будучи даже нанятой на работу. Чтобы «выкрутиться», Иоланда, как и ее товарки, дежурит две ночи в неделю в частной клинике. Воскресенье она отводит для сна.
Жаклина свободно могла бы позировать для рекламы джинсов или купальных костюмов. Высокая, победоносно юная и оживленная, она всем внушает любовь своим мужеством и остроумием, направленным как в свой собственный адрес, так и на посрамление «чудищ». Она никогда не жалуется. Принудительная стажировка в рабочей среде многому ее научила. Она отлично понимает, почему, не имея денег, невозможно окончить высшее учебное заведение. И она и ее подруги мечтают изменить общественный строй, сотрудничать когда-нибудь с медиками всего мира. Она работает за десятерых, но умеет и постоять за себя, и для отдыха урвать время.
У Иоланды плохой цвет лица, приплюснутые чепцом волосы, но и она привлекательна своей хрупкостью, мягкостью, выразительными глазами. Только нет у нее возлюбленного, поджидающего у выхода из больницы.
■
Белье, которое мы по утрам сменяем, повествует о драмах минувшей ночи. Я, как всегда, вхожу в непроветриваемый чулан, где скапливаются за сутки испачканные больными подстилки, рубашки, простыни, тряпки. Все это я запихиваю в мешки. Сегодня белье пропитано кровью, склеилось от экскрементов. Видно, ночь была не из легких.
Когда наша бригада сменяла ночную, Долорес едва держалась на ногах.
– Твой черед, – сказала она, – сама увидишь. Мадемуазель Восемнадцатая кричала всю ночь. Дважды разрывалась артерия. Кровотечение из обеих ног. Коллапс. Реанимация, переливание крови... Ее вернули в палату. Вряд ли ей из этого выбраться...
Я отлично знаю Восемнадцатую. Она кухарка. Еще вчера сидела, как кукла, в кресле, страдальчески вытянув свои розовые, распухшие слоновые ноги, и держала в руках вязание, которое так и не сдвинулось с места. Она говорила мне: «Если они мне отрежут ноги, я покончу с собой». Стараясь перевести разговор, я сказала: «Совсем не умею готовить, а вы такая искусница. Не припомните ли для меня какие-нибудь рецепты полегче?» Восемнадцатая всю жизнь «ходила по людям», служила в «буржуазных домах». Польщенная моей просьбой, она улыбнулась. Сейчас, вдыхая кислород, она может лишь кричать, умоляя дать ей воды. Но ей ничего нельзя дать. Ожидают профессора. Он должен принять решение, экстренное, скорее всего – немедленная ампутация.
– Мадемуазель, – говорю я Елене, – позвольте промыть больной рот, ей, может, хоть чуть станет легче.
Я обратилась к Елене на «вы». Я ведь здесь поломойка, а Елена, я это чувствую, готова вот-вот разразиться слезами.
– Оставьте, Марта, – сухо бросает она на ходу. – Это моя обязанность. У вас и своих дел хватает.
Лишний раз радуюсь, что я рядовая санитарка, а не временно заявившаяся журналистка. Я проглатываю свою порцию унижений и тягот, которые здесь постоянный удел Жюстины и Симеона. Почему я вдруг получила отповедь от Елены? Ей же прекрасно известны мои отношения именно с этой больной. Она даже похвалила меня, однажды сказав: «Надо, чтоб каждый из нас имел личный контакт хоть с одним из больных».
Но когда в отделении все идет кувырком, обычно отыгрываются на нижнем по чину. А ведь сколько раз мне, как и другим санитарам, приходилось из-за того, что в больнице всегда не хватает опытных медсестер, сверх своей основной работы и кровь брать, и переливание делать... Я отскребаю кровь, въевшуюся между плитками под кроватью кухарки...
Появляется Симеон в городской одежде, он объявляет:
– Ну вот, меня выставили. Только что. Вызвали в отдел кадров и объявили: «Покажи-ка контракт. Э, старина, ты зачислен как штатный работник. Это дает тебе право на месячную оплату вперед. Отыщи мсье Жюльена. Он, наверное, разбирается в этих делах лучше, чем я».
В этой больнице, как я заметила, очень немногие состоят в профсоюзе. Но я уже сталкивалась с Жюльеном, «мсье Жюльеном», которого все уважают. «Глотку-то он дерет, но работает безупречно. Дирекции не к чему придраться», – вот как о нем говорят.
Униженная, оскорбленная, с пробуравленными воплями кухарки ушами, обычно покорная Марта, чью роль я играю вот уже скоро месяц, сегодня вышла из себя. И так как Симеон не может решиться, я сама с комком в горле звоню Жюльену по внутреннему телефону. И даже злобно накидываюсь на старшую сестру, встретив ее в коридоре.
В мире белых халатов эксплуатируемый находится в более сложном положении, чем на заводе. Медперсонал увяз крепко. Правильно говорит Жюльен: «Разлюбезное государство рассчитывает на нашу совесть, на чувство профессионального долга. Знают, мерзавцы, что мы уж как-нибудь выкрутимся. Пускай ты в смене один, все равно будешь действовать. Не швырнешь халат, не бросишь больных на произвол судьбы, не подведешь товарищей по работе. Вот зачем надо объединяться, да если б нас поддержало все население...»
«Марта белены объелась», – сказала бы наша Жюстина.
Меня охватило такое негодование, какое временами заставляет трудящихся в белых халатах выходить на уличные демонстрации.
Я кричала старшей сестре:
– Симеон нам нужен для переноски больных, да и не только для этого. А дирекция его увольняет. Мы и так не справляемся. Ну, а что, если завтра сляжет Елена, как на прошлой неделе – Колетт?
Старшая сестра несколько раз настойчиво звонит в отдел кадров. Она отнюдь не рассержена на меня, коль скоро мои протесты идут на пользу бригаде. Нам обещают помочь. Не сегодня. Завтра. Но пока мы все-таки в выигрыше. А потом Симеон, ушедший с Жюльеном, возвращается и вовсе сияющий:
– Мне заплатят за месяц вперед, если уволят. Но Жюльен считает, что я останусь. Все улажено... Давно я во Франции и только впервые понял, что такое профсоюз.
Поняла сегодня и я, Марта, почему медсестры каждый год безвозвратно бегут из бесплатных больниц в частный сектор. Лишь бы удрать. Не то заболеешь.
Скорее наружу. Открыть калитку больницы – все равно что попасть в иной мир, пересечь звуковой барьер – это ошеломляет. Ночь теплая. Люди вышли поболтать у своих подъездов. Я отбарабанила подряд две восьмичасовые смены. Меня мобилизовали – такое иногда случается, особенно в критический период летних отпусков. Я могла бы, вероятно, и отказаться. Но мне захотелось испытать и это.
Ехать в метро уже нет сил. В одиннадцать вечера, да еще в августе, поезда ходят редко. А завтра спозаранку – опять на работу. Такси нет. Вдруг вижу одно возле бистро с вывеской «В любой час дня и ночи» – сюда мы заходим в перерыв проглотить омлет, выпить чашечку шоколада. Хозяин-корезианец благоволит ко мне. Для моей салфетки заведено индивидуальное кольцо, как для всех завсегдатаев. Подавальщица, уже не задавая вопроса, уверенно приносит мою излюбленную еду. Ее девчушка играет со мной, когда ей приходит такая охота.
– Вы ищете шофера, мадам Марта? – спрашивает хозяин. – Он закусывает.
Вхожу и заказываю пиво, я шага больше не сделаю.
Немолодой шофер такси, явно не в духе, облокотился о стойку и намеренно тянет время. Он ворчит: «Уж и перекусить не дают...» Другие посетители посмеиваются. Среди них нет служащих больницы – ведь я уже всех знаю в лицо, даже тех, с кем и словом не перемолвилась. Сейчас тут лишь подвыпившие незнакомцы.
Буду ждать хоть час, если понадобится. Совершенно измотана. Думаю о Елене, Жюстине, которые никогда не возьмут ночное такси, как бы ни были они обессилены. Влезаю в машину с некоторым чувством угрызения совести, впервые я предаю бригаду.
Чтобы хоть кому-то излить душу, я рассказываю в спину шоферу, как прошел для меня этот день; про кухарку, которой ампутируют ноги и которая скорей всего выживет, но что с нею станется? Кто ею займется? Денег-то нет...
Человек оборачивается, обескураженный и взволнованный:
– А я-то вас принял за дамочку, вышла, думаю, из кино... Я и сам ведь еле держусь.
Уж и не зная, как ко мне подольститься, он начинает в свою очередь жаловаться на трудности своего ремесла; рассказывает, как его облапошивает акционерное общество, в чью кассу он ежедневно должен вносить 12 000 старых франков. Как тут выкрутиться, если не вкалывать по десять, а то и по двенадцать часов в сутки – разрешено это или нет.
– Надувают меня как хотят, – заключает он.
Так мы в полном согласии наперебой изливаем друг другу душу. Мы люди одной породы. Еще примет ли он от меня чаевые? Пожать друг другу руку? Глупо, но мы не делаем этого.
– Спокойной, ночи, мадам, отдыхайте хорошенько.
– И вам спокойной ночи. Мужайтесь!
Эта встреча напоминает мне, что Париж год от года становится в августе все менее пустынным. Когда, выполняя поручения больных, я иду в ближайший дешевый универмаг, то наталкиваюсь на временных продавщиц, которые не разбираются в ценах и преспокойно плюют на это. Вчера одна из них мне сказала: «Апельсины? Кто их знает, сколько стоит кило. Забирайте и уходите, я за вами не погонюсь...»
В метро та же история: полным-полно молодежи, да и взрослых тоже, вынужденных не только отказаться от отдыха, но еще и наняться куда-нибудь на время отпуска, чтобы свести концы с концами. Как наша Жаклина.
Паутина
Кто кого спасает теперь от отчаяния – моряк или Иоланда? Усевшись бок о бок, он – прислоненный к пышно взбитым подушкам, она – на вплотную придвинутом стуле, оба уставились, ничего не видя, в какую-то точку на стене, и время для них остановилось.
Наступила ночь: двенадцатый час, смена кончилась. В коридоре между общим холлом и палатой сапожника горит одна лишь синяя лампочка, и мне видны отсюда эти два путешественника в никуда, они сидят рядом, словно пассажиры в вагоне; левой рукой парень крепко сжимает кулачок Иоланды. Они не произносят ни слова. Когда девушка дежурит от 15 до 23 часов, неизменно повторяется эта сцена. Иоланда задерживается на какое-то время при сообщническом попустительстве ночной дежурной да и всей палаты сапожника, где больные дружно притворяются спящими.
В начале их сближения не он, а Иоланда отыскивала в темноте его руку сжимала ее. Отпустить руку – значило вновь сбросить этого моряка в бездну неверия и тоски, удесятеряющих его муки. Во время этой первой фазы Иоланда пробуравила кокон его отрешенности. Она не хотела ничего иного, кроме как протянуть ниточку к этому безнадежно далекому существу, от которого, казалось, уже не добиться согласия выпить глоток воды, подчиниться вливанию, ответить на дружеское рукопожатие.
Но чудо свершилось. Взгляд стал искать взгляда, рука потянулась к руке. Тогда Иоланда, сжав эту руку, уже более не отпускала ее. Она вкладывала в пожатие свой жар, отдавала другому всю свою животворную силу.
Я наблюдаю за ними издали, производя обычную для этого часа работу: опоражниваю судна, переливаю из уток мочу в заготовленные у изножий кроватей сосуды. Вот тебе и на! Тип под номером Тридцать семь снова забыл (а возможно, не понял), что мочу его требуют для анализа, и сходил в ватерклозет. Обычные наши заботы. Хрип одного, храп другого, не забыть про сладкий сок, который я еще не приготовила для больной, подверженной диабетической коме...
Иоланда и ее морячок сидят в позе донора и раненого, которому переливают кровь. Она должна чувствовать, как пульсирует его рука. Теперь он жив. А завтра никогда не наступит.
Если войдет старшая сестра, она ничего или почти ничего не найдет в этой сцене предосудительного, что бы можно было поставить на вид ученице. Разве лишь упрекнет за то, что она задержалась возле одного из больных. Сапожник и я, не сговариваясь, охраняем эту тайну.
Моряк уже не стенает в своем мученическом отчуждении. Он больше не призывает смерть. Когда боль делается невыносимой, он только сжимает зубы. Может быть, потому, что хирург, пожертвовав малым для спасения главного, отсек ногу выше колена, а вместе с ней и источник боли? Отчасти, но дело все же не в этом. Моряк обрел стойкость, и теперь уже не Иоланда держит его за руку, как потерявшегося ребенка, которого надо отвести домой. Сейчас он – мужчина – берет за руку Иоланду. Вот в чем победа.
Среди скрипа и скрежета, производимого тележками и каталками, бряканья ударяемых одна о другую уток, среди больничной вони, стонов и шепотов эти двое возгорелись единым пламенем. Построили собственный, невидимый для посторонних дом.
Вчера моряк сказал Иоланде: «Когда вы здесь, я чувствую рядом море». Он уже улыбается. Они почти однолетки. Двое ребят перед необъятностью океана. Жюстина ворчит:
– Не в рубашке родилась эта парочка.
Я не отвечаю. Надо довольствоваться тем, что есть.
Жюстина продолжает:
– Постель морячка всего ближе к нашей служебной комнате. Когда он попросит судно, пойду я или ты. Ее он теперь стесняется. А уколы ей и самой стало трудно ему делать.
Вчера, когда надо было делать вливание, Иоланда позвала меня на помощь, она была бледнее своего пациента, игла дрожала в ее руке:
– Не могу, мне слишком больно.
Я тут же вспомнила того, кто далеко-далеко отсюда, в ночи, освещаемой разрывами бомб, говорил: «Не забывай про топь. Если ты упадешь, мне будет так больно».
– Полноте, я ведь не неженка, – шутит моряк, протягивая свою синюю руку. – Никому, кроме вас, не дано право меня колоть. Я хочу, чтобы только вы это делали.
Девчушка засунула руки в карманы халата. В дверях показалась Елена. Тогда Иоланда опять попыталась попасть в затвердевшую вену на сгибе его локтя. Елена ее сменила.
– Надо вставить катетер, Иоланда. Наш больной – богатырь. Каждую ночь вырывает иглу.
Над спиной склонившейся Елены (у нее способность игнорировать все, чего она не желает знать) Иоланда и Жан (его зовут Жаном, ее морячка) обмениваются взглядами. Он улыбается, стараясь подбодрить Иоланду, а она не то плачет, не то смеется.
Теперь Жаклина стремится подоспеть туда вовремя. Или она, или какая-нибудь ученица, или я, Марта, когда никого более опытного нет. И все это без ненужного сговора, без видимого сообщничества. Мы все любим Иоланду. А кто не любит любовь?
Когда они сидят вот так, как этим вечером, похожие на деревенских влюбленных, они редко поворачивают лица друг к другу, и не от стеснительности, скорей из боязни некоего головокружения, до сих пор еще ими никогда не испытанного, которое обескуражит их, к которому они плохо пока подготовлены и которого благоразумнее избегать. Головокружение, с трудом удерживаемое, но здесь совершенно немыслимое – никуда не ведущее.
Эти бедные дети изобрели для себя извечную ласку и отгораживаются от смерти, именуемой здесь «остеосаркома», хрупкой преградой сомкнувшихся рук.
Иоланда наделена даром испытывать истинную любовь, которую она принимает с достоинством, скромностью и ликованием. Она вся светится, как ублаготворенная, счастливая женщина. Юная возлюбленная, отдающаяся и взятая в мечтах.
Когда мы вместе выходим из больницы (снаружи – воскресенье, снаружи – лето), неоновый свет не затмевает сияния Иоланды. Светлячок зажигает свой фонарик лишь в знак любви.
Предупреждение: если читатель надеется найти здесь пикантную историйку об интрижке медсестры с больным, пусть он отложит эту книгу и почитает на ночь более забавное произведение.
Вся наша бригада: Жюстина, Симеон, Елена, Жаклина, да, кто знает, возможно, и старшая сестра, – не сговариваясь, стала на стражу вокруг этого волшебства.
■
Не знаю, что со мной творится. Окончив рабочий день, забываю купить газеты. Сплю. Иногда, без всякой нужды – ведь никого не жду – натираю паркет в своей двухкомнатной квартирке. Я переселюсь в нее окончательно, когда туда проведут наконец телефон. Кажется – в октябре. До сих пор я не переезжала сюда именно из-за отсутствия телефона, без которого немыслимо заниматься моей настоящей профессией – злободневной журналистикой.
Но, нанявшись в больницу, я, наоборот, поспешила перевезти в необжитые еще стены диван, стол и необходимую кухонную утварь. Я хотела себя ощутить – не дома, а у Марты. В этом квартале Марэ я знакома пока лишь с электриком – турком, любителем птиц. Август в Париже – это отлив. И дочь моя, и друзья уехали в отпуск. Мы в одиночестве – Марта, больница и я.
Я уже не веду ежевечерне дневник, как делала это еще неделю назад: я абсолютно вымотана. Даже телевизор не смотрю в свободные от работы часы. Раненая рука дает о себе знать, в особенности по ночам.
Я одинокий путник, забредший в неведомый лес. Мне только и остается идти вперед, ибо потеряна тропа, по которой можно вернуться.
У меня два свободных дня, но я не поеду к морю, не пойду в кино. Я сплю. Потом, словно завороженная миром белых халатов, иду к Полю – в его больницу. Я в городской одежде, он – в белом. Заметив меня из толпы своих сослуживцев, он помахал мне рукой. Дескать, сейчас, подожди. Его секретарша знает меня. Здесь Марта имеет право усесться в кабинете главного врача. Марта? Или «голубая малютка» из Порт-Руайяля, ученица днем, партизанка ночью, малютка, которую в 1944 году убили в гестапо?
Мадлен Риффо – не является ли она всего лишь постскриптумом к письму, написанному Райнер? Или длинным вводным предложением между Райнер и Мартой?
Поль сообщает, что завтра он уезжает в отпуск с женой и внуком. Я плохо вникаю в его слова. Он умолкает и, взглянув на меня, садится напротив за письменный стол. Он вновь Поль – мой старший, а я Райнер. Он говорит:
– Я знаю, почему ты больше не пишешь. Ты сейчас уже не наблюдаешь. Ты живешь.
Он берет меня за плечо и дружески встряхивает, – так же, я это видела, он поступает часто и со своими больными (в отличие от «моего» патрона, Поль в общении с больными не терпит посредников – он им сам объясняет их состояние, ободряет). Поль – моя зрелость, а я – его юность. Много-много друзей, погибших в войну, совсем исчезнут из памяти людей, невзирая на почерневшие мемориальные доски по углам улиц, когда нас, выживших, тоже не станет на свете.
Поль говорит со мной на самом секретном моем языке, полушутя-полусерьезно:
– Бедная блуждающая душа, остерегись, ты – накануне перевоплощения. Марта завладевает Мадлен. Давно пора отойти. Ты достаточно насмотрелась для репортажа. Оставь халат в раздевалке. Влезай обратно в свою кожу. Самое трудное ты уже совершила.
Поль прав, но он не все понимает. Оставить службу, где моя бригада, мои больные меня ожидают, – это, пожалуй, даже труднее, чем было покинуть Вьетнам. Отправившись в страну Жюстины, я не взяла обратного билета. Обычная моя рассеянность, ты ведь знаешь.
Совместные наши усилия, общие трудности незаметно, но прочно связали меня с моими товарищами. И с больными тоже – паутина, из которой я не знаю, как выбраться.
Поль предложил мне выбрать книгу из лежащих у него на столе. А я принесла ему «Письма Жое Буске к Полю Элюару», которые он хотел прочитать. Одна из моих примет, в которую я лишь одна и верю. Когда друзья расстаются (не помню уж, в какой из воюющих стран я подхватила этот обычай, за который крепко держусь) – хорошо обменяться чем-нибудь, но не подарками, нет, а вещами, которые надо потом вернуть.
Ты не имеешь права умереть вдали от меня, Поль, ты обязан вернуться, чтобы отдать мне книгу.
Поль – самое верное из моих отражений. Я не хочу, чтоб столкновение машин на забитых отпускниками дорогах разбило единственное зеркало, в котором я отражаюсь вся целиком.
■
...Подземелье, сквозняки, лабиринт уходящих вглубь коридоров, тараканы, катакомбы, сырость, мелькающие белые тени, железные двери, подвалы, конечные остановки лифтов. Отнести остатки пищи на кухню. На обратном пути зайти в камеру хранения крови, взять пузырек для назначенного мадемуазель С. переливания.
В коридоре перед рентгеновским кабинетом дверь распахнута настежь, иначе больные задохнулись бы от жары. Я замечаю очередь из людей, пришедших для амбулаторного обследования. Перевалило за полдень. Вызванные на ранние утренние часы, зачастую натощак, они стоят теперь в очереди, после того как прождали этого вызова месяц, а то и два. Чтобы лечиться, надо запастись терпением, выдержать битву, которая утомляет нередко так же, если не больше, как и сама болезнь.
Ожидают больные в узеньком коридоре, нагретом солнцем, прямо бьющим в стеклянную крышу: здесь совсем нечем дышать, не хватает стульев. Несчастные жертвы (как их еще назовешь?) в большинстве ожидают стоя. Персонал, занятый обследованием, перегружен сверх меры. В прошлом году они бастовали и занимались лишь экстренными случаями. Прочих пациентов отсылали в частные клиники. Дирекции больницы это все обошлось дороже, чем если б она увеличила штаты и удовлетворила требования бастующих.
В большинстве больниц положение такое же.
Добавлю, что для консультации у специалистов приходится хлопотать (если нет протекции) и ждать очереди не меньше двух месяцев.
Если же речь идет о случаях неотложных, то, пока больной ждет диагноза, а затем соответствующего лечения, болезнь на досуге делает свое грязное дело.
Потная толстуха забирает мои судки через раздаточное оконце. Она говорит:
– Не часто вас здесь видишь. Вы новенькая?
– Временная санитарка.
– Держи, девушка, миску, поешь-ка этого супа. Тебе нечего опасаться испортить фигуру. А супчик питательный.
Таков, видно, здесь обычай. Дружественный. Здесь никто нас не видит, никто не возьмет на заметку. Не ради ли миски супа Симеон и Жаклина, как только урвут время, охотно предлагают свои услуги для каторжного похода на кухню? Толстуха похожа на нашу смуглянку Жюстину, она наливает полную миску, и я ее опоражниваю.
■
...Елена разговаривает по внутреннему телефону. Окликает меня:
– Марта, вас срочно вызывают в отдел кадров.
– Я еще не вымыла ватерклозеты. Такое уж у них ко мне срочное дело?
– Вам объяснят. Идите, обойдемся с уборкой.
...Я уже не так спокойна за свое инкогнито. Что, если проболталась сотрудница социального обеспечения? Я перебираю в уме привязавшихся к Марте больных: кухарку и ту, которую я окрестила «Мыслью». Нет, я не хочу быть отчисленной до срока, несмотря на обещание, данное Полю. Не хочу напяливать шкуру журналистки. Эта профессия осточертела вдруг мне...
В отделе кадров служащий меня спрашивает:
– Вас зовут Риффо Марта – не так ли? Срок вашего контракта по найму скоро истекает. С вами хочет поговорить заместитель начальника по кадрам.
– Мадам, вы работаете у нас почти полтора месяца. Должен поставить вас в известность, что со всех сторон вы имеете наилучшие аттестации. (Черт побери, Марта ни разу не отказывалась ни от какой работы, ни от одной «возмещаемой» сверхурочной задержки.) У нас нехватка персонала. Почему бы не заключить более длительный контракт – на три месяца, потом еще на три – вплоть до включения вас в штат?
– Невозможно, мсье, до тех пор, пока зарплата санитара останется менее 1500 франков, требуемых профсоюзами. Я не свожу концы с концами. К тому же вы знаете, что мы зачастую делаем вовсе не положенную нам работу, не получая за это ни су.
– Верьте, если бы мы были в состоянии. Лично я...
– Как бы там ни было, здоровье мое не выдерживает таких темпов. Я совершенно вымотана.
Мы играем с ним в кошки-мышки, кто кого поймает.
– Я предлагаю вам выход. Вы ведь не замужем, верно? – он проявляет сочувствие, тон его становится почти отеческим. – Мы вскоре предложим вам комнату в крыле, отведенном для персонала. Отпадает утомительный, дорогостоящий транспорт. Комната стоит сто франков в месяц. Питание в нашей столовой. Прикиньте.
– Подумаю.
Едва я вернулась в свою бригаду, Жюстина и Симеон обеспокоенно кинулись спрашивать:
– Чего им понадобилось? Ругались?
– Нисколько. Хотели меня закрепить навечно, комнату даже пообещали – такую, как у нашей смуглянки Жюстины.
– Ишь какие добренькие! – восклицает Жаклина. – Когда ты ее заполучишь, ихнюю конуру?.. Да к тому же... если и заполучишь – закабалишься в больнице навек. И тебя будут требовать каждый момент, чтоб заткнуть очередную дырку. Надеюсь, ты отказалась?
Конечно, я в любом случае отказалась бы. Седовласая Жюстина, которая здесь работает бог знает с каких пор, имеет на это жилье куда больше прав, чем я. А теперь, когда ее покинула дочь... Тем не менее когда мы с ней вместе разбираем ночное белье, она, единственная из всех, мне советует:
– Слушай, а может, для тебя это выход – комната здесь? Как-никак...
Она не завидует, нет, даже рада, что я на хорошем счету. И потом, она так боится сама одиночества, что полна сочувствия к моему (воображенному ею).
Брижитту тоже вызвали в отдел кадров. Вся сияя, она нам показывает 1200 франков, заработанных ею за месяц. Первый заработок. Это уже кое-что...
– Не оставляй деньги в сумочке, – поучает ее Жюстина. – Положи их в карман халата и заколи булавкой, да сверху прикрой еще фартуком. Вот так... Ты ведь знаешь, у нас тут иной раз и воруют. Однажды у Симеона стибрили всю зарплату за две недели. Слишком много народу здесь шастает.
В перерыв Брижитта исчезает, никого не предупредив, и возвращается, нагруженная гостинцами: сок для больных, которых не посещают, рогалики к нашему кофе. Ей хочется отпраздновать то, что она рассматривает как победу над самой собой.
Ввозя тележку с бинтами в служебное помещение, она при всех заявляет, что ее родители будут гордиться, – ведь это впервые она заработала деньги на карманные расходы. «Карманные расходы»... Симеон смущенно улыбается. Жаклина едва сдерживается, чтобы не сказать лишнего. Брижитта объявляет, что завтра – в свой последний день – она принесет шампанское.
– Береги деньги, девочка, – ласково советует ей Жюстина, – ты ведь еще не знаешь им цену.
Жюстина, которая всю свою жизнь билась как рыба об лед, Жюстина, чья дочь никогда не поедет туристкой в Турцию (Брижитта вылетает туда послезавтра), материнским чутьем угадала то неловкое, с трудом сдерживаемое волнение Брижитты, когда та, бросившись со слезами на глазах к ней на шею, сказала:
– Я тебя никогда не забуду. Я часто, часто буду к тебе приходить.
Девочка научилась здесь куда большему, чем могли дать ей книги или беседы в их благополучной семье. Позднее она мне расскажет: «Я сама не знала, чего хочу, дура дурой пришла в больницу. А там меня приучили хоть к какой-то дисциплине и делать любую, самую муторную работу, превозмогать отвращение, страх, не отставать от своей бригады. Я спозналась с настоящей нуждой. То, что я тут увидела, – незабываемо. Не забуду я и того, что смогла выстоять. Ведь не так уж я плохо работала – правда?.. Теперь решено – я буду учиться на медицинском, и родители тоже согласны».
Возможно, Брижитта и впрямь нашла свой путь благодаря двум Жюстинам, окрикам одной и снисходительности другой. Она окунулась в грязь, но не в ту, что грязнит, а в грязь истинной жизни, подобную той, что образуется на рисовом поле, где сеют в воду, под солнцем, способным и буйвола свалить с ног. Она возмужала, и надо помочь ей сохранить веру в будущее.
Жюльен ее понял. Он был среди нас на прощальном празднике и обращался к ней совсем по-приятельски.
– Ты неплохая девчонка, – сказал он, – из тебя выйдет толк. С больными целуешься, в перерыв, вместо завтрака, бегаешь к ним поболтать, суешь им подарки... Но твоего вклада все равно недостанет на решение и миллионной доли проблем; самоотверженность даже всего персонала больницы бессильна что-либо тут изменить, хоть бейся о стену лбом. Чтобы облегчить судьбу всех жертв общества, надо изменить само это общество.
Разгорелась дискуссия, которую мы – активист Жюльен, Жаклина, Брижитта и Марта – продолжили после работы в кафе за аперитивом.
– Престарелая дева, которую вы прозвали «кухаркой», – типичный случай, – пояснил нам Жюльен. – После ампутации она могла бы еще долго жить... Но ведь надо освободить койку, и ее вот-вот выпишут в одну из пригородных больниц для так называемых «хроников». А там, среди скопища инвалидов, при острой нехватке сестер, санитарок, способных за ней ухаживать, восстановить ее силы, следить за ее режимом... но что важнее всего – за состоянием ее духа, она быстро выйдет в тираж.
И Жюльен рассказал нам историю папаши Лапена, одного из своих подопечных больных. Папаша Лапен был так истощен, что страшно было смотреть на него. Право есть мясо не аннулировано конституцией. Мясники охотно его продают, но когда ты, выйдя на пенсию, получаешь в день 10 франков (с 1974 года – 17 франков 12 сантимов)... Короче, старик после смерти жены пытался покончить с собой. Неудачно.
Операция прошла успешно, и после двух месяцев пребывания в больнице папаша Лапен стал поправляться. Здесь он ел досыта. Начал уже гулять по саду на костылях.
– Мы его полюбили, – говорит Жюльен, – и у него появился вкус к жизни: он шутил, рассказывал анекдоты. И вот настал день, когда он попал в другую больницу – совсем в иной мир. Мы-то считали, что это к счастью: в его состоянии немыслимо было отправить его домой.
Хочу, чтобы ты уяснила себе, Брижитта. Общая палата – не сахар. Но хуже всего то, что вылеченные старики плачут, не желая с ней расставаться. Тут они, по крайней мере, не одиноки, сыты, в тепле. Однако ничего не поделаешь, их выписывают... Но так же, как мы, они знают, что скоро свалятся вновь и подохнут... Болезнь нищеты...
Через три месяца после отправки папаши Лапена у меня подвернулся случай зайти в ту больницу для хроников, куда он попал. Чтоб полностью выздороветь, ему еще требовалось хорошее лечение. Не мог же он его получить в тесной квартиренке детей и внуков, которые день и ночь на работе... А его жилье – это надо видеть... Я нашел моего папашу Лапена в коридоре, на раскладушке – в палате не было места. Он ходил под себя, томился в нечистотах и весь был в пролежнях. Папаша Лапен совершенно потерял аппетит и уже не шутил. Он отходил от жизни. И меня не сразу узнал.
Я сбегал за красным вином, за камамбером – раньше мы с ним частенько вместе закусывали, – я знал, что это его любимая еда. Он присел на постели и начал рассказывать истории из своей юности. За десять минут он словно переродился. Мне было очень грустно покидать папашу Лапена. Да, да, очень грустно.