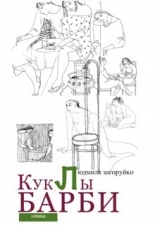
Текст книги "Куклы Барби (сборник)"
Автор книги: Людмила Загоруйко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Мой» Мидянка
Я открыла книгу и наткнулась на его Ішли міські угорки в чорнім драпі, пливла стара напудреність лиця… Сердце вдруг затрепетало, оборвалось, покатилось, упало и раскололось на мелкие друзки-осколки. Знакомое. Созвучное. Мой город первого ноября. Широкий поток поминальной процессии. И лица, лица… Ты один из них, в торжественности людского коловорота.
Меня зацепил не факт поэтической констатации происходящего, откуда-то из вечно соннного небытия всплыли и отозвались на чужое слово мои немые чувства. Я нашла свою точность ощущения в строке, нашла себя, вечно захламленную, как старый буфет лишним, наконец, сосредоточилась и разлилась собой неведомой. Я захлебнулась счастьем узнавания и слилась с его стихом. Учила наизусть, бормотала на ходу, чтобы разбавить длинный безрадостный путь на подневольную работу ради куска хлеба и неясных перспектив. Он скрашивал мне жизнь, путь. Пливла вода – текуча й гомінка, крізь кропиву, шипшинове насіння… Вода плывёт. Плывёт текучая. Как просто, прозрачно, неожиданно и как изысканно роскошно!
– Кто это? – спросила я у друзей.
– Поэт из Широкого Луга.
Это было двадцать пять лет тому назад. Я наткнулась на его монументальность, застенчивость, а иногда просто детскую наивность, набила, неопытная, радостно торчащую плотную фиолетовую гульку-шишку, с досады потёрла лоб и побежала вприпрыжку жить дальше. Господи, все бы такие шишки. Потом их (другого характера и рода) становилось всё больше и больше. С годами я перевела дух и перешла с галопа на умеренный шаг. Всё это время он был у меня в уме, как два пишем, два замечаем, отложенный периферийно в сознании. Книги его томились на полке, всегда под рукой, чтоб иногда заглянуть. Я не знаток и фанат поэзии, с ним было всё иначе. Он был моим сокровенным достоянием и открытием.
– Какой он, как выглядит? – спрашивала я подругу, знавшую поэта.
– Успокойся, это не Блок.
– Ну, и?
– Выпадает из всего.
– Даже из поэтов?
– Ты бы на него посмотрела, – заверила она, и мы ещё долго хихикали по-женски не зло, в целом, благодушно-симпатично, подсмеиваясь над его неуклюжей манерой держаться на публике, неотшлифованными жестами необласканного дамами «дикаря» из глубинки.
Людей, выпадающих из общепонятного человеческого контекста, не бухгалтеров, не экономистов, не строителей я люблю, потому что сама того же поля ягодка, но тут пахло исключением.
Я ходила на его выступления, смотрела во все глаза, пыталась заглянуть внутрь костюма. Меня знакомили с ним в фойе, коридорах, в концертных залах и на природе, но это ровным счётом ничего не значило. Он смотрел сквозь, своим точечным, застывшим, невыразительным взглядом, ничего не говорил или обходился двумя-тремя невыразительными словами и исчезал на годы.
– Там тяжёлые бытовые условия, брось, чего ты к нему поедешь, – отговаривали знакомые.
– Поэт в жизни и творчестве – разные люди, – намекали другие. Иными словами, творческий человек и сволочь – могут мирно уживаться в одной особи. Признаться, я боялась разочарований, но мне не привыкать. К тому же на негодяя он явно не тянул, не то лицо. Я хотела знать, какой он, этот застенчивый, внешне не примечательный, состоящий из одних треугольников человек.
О презентации поэта я узнала задолго и твёрдо решила не упустить момент, наконец, взять реванш. Пора. Я не спускала глаз с него, нарядного, чуть окаменевшего, смотрела и видела не лицо, а брови. Они нависли над глубоко посаженными глазами, шевелились, сходились и расходились тучами, опускались и поднимались вместе и по частям, краешками, к уголкам глаз. Брови были сенсорами, щупальцами, которыми он осторожно выходил на контакт с нами, впускал через них и выпускал эмоции, чужой текст, вопрос, видел реакцию.
Редко под ними загорались глаза, светились и сразу гасли, как задутые второпях свечи, и возвращались вглубь себя. Я стойко выстояла в кругу почитателей. Выпила за здоровье теперь уже классика украинской поэзии не одну рюмку, плавно перетекла с компанией из одного культурного заведения в другое. Вообще-то меня никто не приглашал, и может, кого-то моё присутствие и раздражало, а мэтру было всё едино, но, видно, за годы я примелькалась, знакомых общих у нас было предостаточно, в итоге добилась своего и получила личное приглашение посетить Широкий Луг. Если уж быть точной, не лукавить и не блудить словом, то напросилась. Мы обозначили период, выделили в скобки предполагаемое время ненужного визита почти незнакомой женщины и разошлись кто куда.
Через несколько дней меня пригласили в поездку с журналистами на Тячевщину. «Близко?» – с надеждой спросила я. «Близко, только через горку, час, полтора пешком». – Уже в Угольке, где связь с единственным на всю округу мобильным оператором нащупывалась в долгом поиске точечно, по-сапёрски осторожно, «горка» оказалась не такой уж маленькой, а идти через чащу самой было бы самоубийством, я поняла, что попалась, но не сдалась. Меня не понимали. Я настаивала: каждому своё, кто-то едет в Тибет, кто-то – к Мидянке. В конце концов, я надоела всем, и меня высадили с местной журналисткой из села с настораживающим названием Колодное, но тут случилось, что её муж не против помочь моему откровенному до неприличия горю и мы поедем на их машине в этот чёртовый заброшенный на край земли Широкий Луг. Оказалось, что и сейчас, когда мы почти у цели, это не близкий свет. Наконец, он встретил нас на дороге, светя в кромешную ночь фонариком, и мы вошли в темноту боковой улицы.
В доме мы оба почувствовали неловкость. Ограниченное пространство тревожило, ночь за окном звенела, и надо было как-то знакомиться и обживаться на территории, грозившей в любую минуту оскалиться враждебностью. Не пошёл контакт и всё тут, обычное дело у творческих натур. Мы сидели напротив по обе стороны стола, и я тараторила и несла какую-то чушь без запинки и паузы. К чему всё это? Среди ночи вторглась в чужой контекст с пустыми руками. Две буханки хлеба, которые везла ему из Ужгорода, беспощадно «ушли» под шашлыки в Угольке, и теперь надо продержаться, как Тимур (ему хорошо, он с командой) до утра, чтоб не вспугнуть душу поэта, чтоб не замкнулся, принял и впустил. Выскользнет, уйдёт в алкоголь, уснёт, отвернётся, мало ли что выкинет это капризное дитя Марамарошской природы. Он редко говорил, брови-сенсоры тревожно ходили по лицу, как будто на нём бушевала буря. Поэт вдруг нагнулся, осторожно поднял с пола незаметную начатую маленькую бытылку-обманку с этикеткой «Шаянская» на замутнённом синем фоне, наполнил рюмки-мензурки ядрёной сливовицей, и мы трижды выпили непонятно за что.
За распахнутой настежь дверью плыла тихая звёздная ночь, влажный воздух благоухал травами, передо мной, как на подиуме, маятником раскачивался человек, вытягивая вдоль тела и складывая у колен крестом худые длинные руки с сучьями локтей, заламывал внутрь щуплые плечи и читал: Мадам сумна. Маленький «Мулен-Руж». Брудні столи… І виноградні вуса. А пиво чеське все-таки не пунш, Та я за вас сьогодні вже нап’юся. Мадам, ось після травня місяць червень є… Оса маніпулює по серветці. А з вами смачно свіже пиво п’єм. Обом нам тяжко, любочко, на серці…
Голос его был твёрдым, чуть глуховатым, бархатным, сочным, сильным, мужественным, глубоким, манящим, чёрт возьми, у неэротического, по определению знатоков, поэта был невозможно сексуальный голос. Хотя, кто его знает… Незатейливая закарпатская слива-быстрица, трансформированная умелой газдивской рукой в самогон, конечно, сделала своё: преобразила моно звучание текста в стерео и предала драйву очарование лёгкого транса. И какой дурак сказал, не будем указывать пальцем, что у Мидянки в поэзии нет эротики? Она разлита даже не в слове, а в букве, паузе. Да что вы в ней понимаете, юнцы? Эротика, когда не сверху, не снизу, не напоказ, не матом, не генитально-литературно, не словом, а когда в воздухе, предчувствием. Як одинокий, значить, ще не інок, Бо поруч верби, терен і птахи. Гуде бджола, тримається тичинок, Без хизування щастям, без пихи.
Он читал и читал, сенсоры брови сами по себе остановились по умолчанию, уселись на место смирно, как укрощённые каменные сфинксы перед широкой рекой. За распахнутыми настежь дверьми растекался густой фиолет ночи, маленький домик омывали волны чего-то очень знакомого и далёкого, почти родного, и он плыл, покачиваясь над горами, тропками, ручейками, лесами, завтрашними туманами, чужими и нашими собственными жизнями. Где-то рядом тихо журчала вода, пахли флоксы, под глиняным, выбеленным известью потолком светилась лунным прозрачным светом достопримечательность дома – лампочка-экономка, и застенчивый хозяин упорно продолжал называть непрошенную гостью на «вы». Мы были невозможно чужими, два анахронизма в этой бесконечной тишине и глубине и друг другу абсолютно не нужны, но мгновение единения в поэзии мы поймали, как сказочную жар-птицу, и нам было одинаково страшно перед распахнутым львиным зевом жизни. Он читал и читал, руки, кисти, ноги его двигались магично асинхронно и складывались в разные углы, как цветные фигурки в детском калейдоскопе. Время вдруг остановилось. Противно, назойливо часто тикали где-то часы, и ничему не хотелось завершения. Пусть так и будет. Он и я. Лицо в лицо. Моя жизнь, как пухлая медицинская история болезни в регистратуре поликлиники, вдруг затерялась, остался только вкладыш – случайный чистый лист бумаги. Ничего. Ни вчера, ни потом, только сейчас, сию разросшуюся и набухшую секунду. Что там было во мне и накопилось жёлчью? Не помню, не знаю. Всё это не со мной. Душа моя здорова и ликует. Читай, поэт, я перетираю каждое твоё слово кончиками пальцев, как семена цветка, и новый острый обновлённый запах луга поглощает меня. Я продираюсь через своё нелепое состоявшееся прошлое к себе, и оно, твоё слово, делает меня зрячей. Неужели только в такие минуты мы становимся лучше? В обычной жизни мы – танки. Прём, раним и убиваем друг друга этим же самый словом, расстаёмся с родными, близкими, становимся недосягаемо далеки. И уже нельзя простить и вернуться, помочь и предотвратить. Мы проходим мимо любимых и не узнаём их, выходим замуж без вдохновения и придумываем истории в оправдание. Никто ни в чём не виноват. Только мы сами. Ты читаешь, слово твоё полноводно, как река, и плывёт временем.
Меня вдруг понял облезлый и совсем худой Мидянкин бледно-рыжий, почти песочный кот Грицько. Они оба с хозяином одной породы: чуть неприкаянные, слишком своенравные и живут сами по себе. Кот оказался третьим, но не лишним. Он щурил хитрый, длинный, египетский глаз и намекал, что пора сворачивать сюжет, беречь интригу.
Я проснулась на чужой обжитой кровати, рядом мирно гудел компьютер, а в окно заглядывали любопытные стебли кукурузы. Хозяин вернулся после обеда, чуть волнуясь, выложил на стол кусок свинины и рядом – твёрдую бутылку коньяка. Мясо, порезанное наперекор местным традициям, большими кусками, и обжаренное с чесноком и луком, мы поглощали без гарнира, застолье текло без беседы, зато коньяк пился с толком, не спеша, из глубоких, лотосами, фужеров. Внутри меня, наконец, свернулось напряжение, разлились умиротворение и покой. Китай – Карпаты. Хозяин занялся вознёй с роскошной орхидеей, подаренной экзальтированной почитательницей. Орхидея стояла на балеринной ноге-стебле, влажная от капель воды. Капли были крупные, как бриллианты на ухоженной богатой красотке.
Боже, горы. Я совсем о них забыла. Может, прогуляемся? И мы пошли. Горы лежали по обе стороны сельской дороги – два изогнутых спинами, потягивающихся, с далеко выставленными вперёд лапами, лохматых пса. Я шла по тропинке за худенькой, лёгкой, как эфир, подростковой фигуркой поэта, след в след, тень в тень. Я бороздила фирменными адидасами ручейки, он перепрыгивал их, не напрягаясь, как будто перелетал с камешка на камень. Я цеплялась за траву и кустарник на подъёмках, он легко ставил ступни лесенкой и называл эту походку «ходою горян». Гриб кланялся ему и презирал меня.
Что за радость смотреть под ноги, когда вокруг такая красота, запротестовало что-то очень знакомое внутри меня. Это что-то я хорошо знала: проснулся мой неистребимый бунтарский, своенравной козы, дух. Я распластала своё грузное тело на полянке среди трав, клевера и чабреца. Никуда больше не пойду. В конце концов – зачем оправдываться, самая главная причина – не хочу. Зря волновалась. Ему не нужны спутники и спутницы. Он нырнул в обрыв подо мной и исчез. Сквозь дрёму, негу и запахи разнотравья я думала о себе.
Когда-то очень давно я была абсолютно цельным существом. Меня холили, лелеяли и выпустили в жизнь, не успев предупредить, что будет трудно. Я суетно цеплялась за деньги, имущество, мужчин. Искала, но в долгом этом пути в лабиринте обронила талисман, и уже не найти, не поднять, не вернуться.
Марамарошский даос все эти годы наблюдал течение реки и писал. Блаженный. У меня – квартира с авторским дизайном и мозаично-пробковым декором на стенах, джакузи, картинами, нишами и подсветками в них, потом ещё что-то из недвижимости. У него материального – только он сам. У меня сосед – творческая личность с гектаром квадратных метров и лютой ненавистью ко мне, проблемы, гаротта кредитов. У него – книги, журналы, орхидея, спираль лампочки-экономки и временное летнее неудобство – липучка с кладбищем для мух. Может, я не права, только на первый взгляд просто. У каждого свой скелет в шкафу. Я пришла в этот дом поздно: старая, поблекшая, уставшая, в колонне почитательниц, в затерянную в горах Мекку. По большому счёту, для него я, может, не случайно выбрал, цитируя, «стара клімактерична курва», но, чёрт возьми, терпит, трогательно деликатен.
Что я ищу здесь, на этой разлитой солнечной благодатью земле, через годы нелюбви, упорного неженского труда, злобы, отчаянья, потерь, смертей, скитаний? Почему я не спускаю с него глаз, ловлю каждый жест (думаю – символ), а ещё тень досады, недоумения, протеста на его лице. Смотрю, как он кормит кур, топит печь, гладит сорочку к утренней церковной службе, и в этой простоте быта и его неспешности одинокого отшельника столько моей непринятой правды, что слёзы душат и не отпускают меня. Слёзы? Какие слёзы? Когда я плакала в последний раз? Не помню. Я всегда была мужчиной, гитлером в юбке, и жила в экстриме вечной войны, когда женщиной – не помню. Любили ли они меня, мои мужчины? Любила ли я их? Честное слово, не знаю, вернее не помню, в растерянности, однозначности нет.
– Когда ты едешь? – спросил он.
– Можно ещё денёк? – В ответ – красноречивая долгая пауза.
– Тогда я еду завтра.
Обозначилось. Он враз повеселел и разговелся. Он пригласил меня приехать в эту чащу ещё. Он предоставил мне свою комнату, рабочий стол, помог отобрать нужные журналы, книги, статьи, а сам умиротворённо возлежал в предчувствии скорого освобождения на троне-кровати, курил, думал. Он ходил вокруг меня в торжественном домашнем дресс-коде: новых носках, отутюженных шортах и свежей тонкой сорочке, вот-вот пустится в пляс. Свобода!
Всю ночь шёл дождь, блестели молнии. В горах запутались клочья тумана, с виноградной лозы на веранде стекали слёзы-капли.
– Поэт, проводи меня, на улице дождь.
Мы шли по петляющей улочке. Зачем я потребовала зонт с хозяином в придачу? Сковырнула мирно отдыхающего мужчину с кровати в такую рань. Я же не люблю зонтов. Они ограничивают мир, сужают пространство. Под зонтом я не вижу неба. Без неба я не могу жить. Да и не хочет он нести надо мной этот зонт с согнутой в конвульсии спицей. Вещь стала бесполезно лишней. Пусть я почувствую радость воды, как томно-капризная орхидея на его окне, пусть поливает меня ливень, смоет с лица усталость и печаль, надвигающуюся старость, сомнения. Маэстро – впереди, я – сзади. Он, как всегда, денди. Чёрные протокольные брюки без пылинки, поверх сорочки кожаная куртка. Полное соответствие торжественности момента. На ногах… Боже праведный, что у него на ногах? Вьетнамки. Чтоб вливалось и выливалось одновременно, объясняет он без улыбки. Я смеюсь, мне нравится.
Под «кваки» вьетнамок проходим мостик через реку. Вот и остановка. Синхронно, с другой стороны улицы подходит дед. Теперь нас трое. Минуту мы все вместе молчим. Заговор. Прощаемся без слов. Он медленно уходит по дороге назад, к себе, наверное, досыпать. Я смотрю ему вслед во все свои близорукие глаза, запоминаю. Он идёт не спеша, медленно удаляется, фигурка-статуэтка. Я знаю почему. Он полон и нельзя расплескать. И хоть на квеври, грузинский сосуд с вином поэт не похож, не тот силуэт, не полнотелый, он несёт в себе впечатления, которые, может, когда-то, не обо мне, косвенно, лягут стихом: Мадам, підемо звідси, нам пора, липневий спір грози якраз доречний… Повернемось до нашого двора. Повернемось… І там посуперечмо.
Я смотрю ему вслед и знаю – сейчас уходит от меня хрупкая материя, которая через минуту станет одним из самых ярких воспоминаний в моей жизни. Прощай, поэт.
Старички
Куклы Барби
– Как у Марины дела?
– Ты что? Она же умерла.
– Кто, Марина? Не может быть, я её недавно видела.
– Когда?
– Весной.
– Этой весной и умерла. А ты не знала?
– Нет.
– Представляешь, выдала дочь замуж за границу и умерла, бедняжка…
– Ай-яй-ай! Какое несчастье, а могла бы ещё жить да жить.
Обычный разговор двух женщин, долгий, как латиноамериканский сериал. Наше ухо ловит на лету и отпускает за ненадобностью бесконечное число уличных диалогов. О чём только ни говорят люди вокруг! Послушаешь – голова пухнет…
Не знаю, как вы, а я люблю на ходу ловить обрывки фраз. Как-то в маршрутке моё внимание привлекла группа старушек, по всем признакам ехавших с какого-то мероприятия. Бабушки выглядели безукоризненно: тщательно одеты и причёсаны. Над лицами пожилые дамы тоже потрудились: румяна пламенели на чахлых щеках последним осенним багрянцем, кокетливый росчерк помады и чуть туши на ресничках, словом, пожилые куклы Барби. На фоне серых, безучастных лиц пассажиров они выглядели впечатляюще: помпезный коллективный выход в свет. Между тем, бабушки вели неторопливую беседу. Диалог был неразвёрнутый, односложный. Мячик незатейливых фраз плавно переходил от одной бабушки к другой, пасс, пасс, ещё пасс. Постфактум обсуждалось какое-то поразившее и выбившее их из оцепенения дряхлой вялотекущей жизни событие.
– Да, всё на высшем уровне, хорошо организовано. А Степан Никифорович был? – тянула фразу, как скользкий чулок, одна.
– Конечно, конечно. Он рядом со мной сидел, – утвердительно закивала с соседнего сидения другая кукла Барби.
– И Люсенька тоже была, племянница, – эхом отозвалась следующая.
– А губки как славно у неё сложились. Глазки тоже закрыты хорошо. Вы заметили? – как бы впадая в сомнамбулический транс, включилась последняя.
– Носик, какой славный, как припудренный, – транс оказался заразный, в него, как в омут, окунулась первая. Разговор как бы снова пошёл по кругу.
«О чём они бредят?» – подумала я. И тут меня осенило. Глазки закрыты… Сомнений нет: почти бесплотные ангелы-бабушки возвращались с похорон и поминок. По всему, чувствовали они себя прекрасно: счастливы, а главное, живы. От приятельницы, с которой совсем недавно они гуськом и рядком ходили на прогулки, осталось лёгкое воспоминание, чувство сытости и ещё что-то, укладывающееся в их сознании в несколько штрихов: носик, губки, причёска. Всё. Больше бабушки ничего не помнили. Они долго жили и уже достигли состояния, когда ты ещё не там, продолжаешь двигаться по инерции, но и не совсем тут. Уставший мозг по-детски радужно и нечётко воспринимает окружающее. Они зависли где-то между тем и этим миром, задержались, и на фоне живых, страждущих, мечущихся и мучающихся, выглядели блаженно счастливыми. Встреча с симпатичными бабульками меня поразила. Как? Неужели это возможно? Я так тяжело отстаиваю своё право на место под солнцем, мечусь, страдаю, рву сердце, в итоге: лёгкая отрыжка на поминках, несколько вздохов и забвение? Возмутительно. Этого не должно быть и быть не должно. Моё ещё здоровое, полное сил естество отказывается верить. Но ведь будет. И никуда от этого не денешься. И стоит ли так судорожно добиваться того, что в итоге оказывается ненужным, цепляться за пустое, ломиться в двери, которые для тебя никогда не откроются… Может, просто тихо жить и наслаждаться. Я не знаю.
День солнечного равноденствия
Наступил день летнего солнцестояния, когда много солнца, дня много, а ночи почти нет. Для стариков – это дни активного бодрствования, потому как ночами их обычно терзает бессонница, но это зимой, где царствует нескончаемая, как вечность, тьма.
Они укладываются спать рано, сразу после программы новостей, просмотрев всё до самой последней закавыки: любимый сериал о жестокой любви, если повезёт, то и два, три подряд, на десерт прогноз погоды, курсы валют (некое гурманское излишество в меню), спортивные программы. С экрана улыбнутся бодрые политики и ничтоже сумняшеся пообещают успеть устроить им напоследок прижизненный парадиз, где будут деньги, льготы, уважение и почёт старости в добротной золочёной рамке государственной геронтологической программы. Диковинное слово их не настораживает и не цепляет. Мимо, мимо, пустой ненужный звук. Сказку на ночь от хорошо одетого дяди-клоуна они покорно проглатывают, как пилюли снотворного, сердечное, мочегонное, может, что-то ещё от простатита и давления: всё разом, в ладошку, одним махом, закинул голову, раз – и всё. Авось, помогут на сон грядущий. Теперь – в люлю. Они ещё топчутся в коридоре, зачем-то прикладывают бдительное око к дверному глазку, в котором видна бледно-пустынная лестничная площадка, прислушиваются к внешним шумам: где-то глухо хлопнули и закрылись двери, пропуская через полоску света чужую жизнь, залаяла дрянь соседская собака, кто-то выругался на лестнице и в сердцах смачно сплюнул на пол. Они ещё привычно поворчат себе под нос, проверят свет, газ (мало ли что, не приведи господи, может случиться), потом навестят туалет, иначе как же спать, до утра не дотянут, затем – в спальню, не спеша, резиновые безумно розовые китайские шлёпанцы звонко с оттяжкой квакают на всю квартиру, разряжая мёртвую тишину почти непристойными звуками. Они взбивают подушки, долго кряхтят, длинно-громко зевают, мостятся, засыпают, без снов, как будто проваливаются в небытие, но вдруг просыпаются, как от внезапного толчка, и уже бесполезно ворочаются всю ночь. Теперь лежать до утра, смотреть в потолок и думать, думать. Почему ночью всё так невыносимо сложно. Жизнь, дети, внуки, утрата близких (встретятся ли там с ними), канувшие в лету горячо любимые друзья, их равнодушие и мелкая корысть, кровоточат незаживающими ранами обиды, недоразумения… Давно должно не трогать, но, чёрт возьми, трогает. Молодёжь не ценит, не бережёт и тяготится, чувство заброшенности сжимает сердце. Ты давно выпал из жизни, пахнешь старостью, не нужен. Уродливый разросшийся на аккуратной грядке лист полыни в мелкую изъеденную насекомыми дырочку, лишняя тень для сладкого огурца или увесистого томата. И уже подушка не «думочка», а камень, голова пухнет, разбухает, разрастается до невероятных размеров, вот-вот лопнет, невыносимо тяжела эта старая голова. Скорей бы избавление утра, звуки дня, шум машин, голоса, но оно ещё так далеко и ночь невозможно пережить.
Летом на выручку приходит раннее солнце. С ним веселей, его встречают птицы, оно теплит в них, стариках, робкие силы. Они рады лету. Сколько ещё раз доведётся видеть расцвет природы? Пять, десять, а может, это последний завершающий год, финал, заключительный аккорд в миноре. Бессонница заставляет прислушиваться к организму, в котором всё уже совсем не так, и они знают: он устал и потихоньку готовится. Настанет день, и их сердца остановятся. Хотелось бы весной, когда пахнет черёмухой и в воздухе разлита сладкая томная блажь, блажь любви, неги и умиротворения. Боже, когда это было и было ли вообще? И с ними ли происходило всё, что теперь называется прошлым, может, это сон, иллюзия, брожение больного, уязвлённого жизнью ума? По ночам они пытаются понять и прислушиваются к тикающему механизму смерти, наблюдают изнутри себя приметы перехода из одного состояния в другое. Разгадать бы таинство собственного медленного угасания и конца.
Да ну тебя, писатель. Какого чёрта ты нас хоронишь? Это кто там в дверях? Та, что с косой? Уйди, страшилище. Вишь, разоделась. Тебе тут не венецианский маскарад, а кухня в пять квадратных метров. Поди прочь. Послушай, не бушуй. Имей совесть, ты же не пьяный сантехник. Ступай, другим разом. Иди, иди, с богом. Счас, разбежалась. Тут пенсию завтра принесут, а ты с косой. И не стыдно.
Приходит утро, новый день впитывает губкой разлитое молоко ночных мыслей, они рассеиваются, как туман, и старики продолжают жить.
Сегодня вернисаж. Надо поздравить юбиляра. Ничего себе. Старый хрен – и туда же. Это ж надо, что наваял. Вывернутые наизнанку дамочки (интимные места больше смахивают на сложно скрученные винтики, шестерёнки, шурупчики и абразивные круги) весело демонстрируют публике что-то очень сложномеханическое. Вроде то, плотское, но только на первый невнимательный взгляд, если присмотреться, на самом деле – наглядные пособия для курсов слесарей автомобилистов в доступной и понятной молодёжи форме. Бомонд исходит от жары и пенится восторгами. Как тонко, как метко, как роскошно и раскованно. Лысый толстый старичок бесконечно вытирает плешь, рот, косит завистливый глаз на стены. В самом деле, виртуозы. Как они могут: и так, и так, и эдак. Распутницы на картинках гарцуют на чём попало (кто на венике, кто на бревне, кто на члене-кувалде). Выглядят они деловито бесшабашно, мол, нам всё равно на чём, хоть на трамвае, лишь бы подпрыгивать. Кто-то разглагольствует о тонкостях письма и глубинах замысла автора, кто-то превозносит до небес высокую эротику в творчестве, кто-то сосредоточенно, впритык, как говорится, с глазу на глаз, изучает технику. Лицо, как броня, усилием воли стёрто напряжение и острое любопытство. Вглядывается в каждую деталь, чёрточку, не упустить бы.
Лысый господин сглатывает слюну. Моя Маша, да никогда, да ни за что. Строго плашмя. Никаких излишеств. Эх, Маша, Маша… Если бы ты знала. Он старался, строил хоромы в три этажа: ванная двадцать метров, бассейн с подсветкой. Он трудился, намекал архитектурно, авось, проснётся, заговорит, откроется в ней то самое, что без слов и подтекста, что само по себе, как прибой, лавина, сель, град, зной, пески, жажда, корёжит тебя и рвёт, несёт и уводит в глубины себя, неведомого. Лысый в глубоко личном трансе скорбит по нелепо прожитой интимной жизни. Картинки на выставке – оплакиваемое надгробье. А ведь могло быть совсем иначе, если бы не тёща. Всё в их жизни, как в анекдоте о несокрушимой силе традиции.
Жена, не его собственная, из анекдота, обрезает концы шовдаря перед тем, как класть в кастрюлю. Муж спрашивает: почему, как-то нелогично. Необъяснимо…Надо – и всё. Он настаивает, она отбивается, наконец, уступает и звонит маме. Та тоже не знает, но вопрос зацепил и всем уже хочется истины. Мама звонит своей маме. Ответа нет. Спрашивают у следующей в цепочке, девяностолетней прародительницы. Та долго думает. Не помнит. Снова думает. Наконец, из остатков памяти, как мясо из борща, выуживается нужное. Эврика, кричит! Вспомнила! У меня кастрюли большой не было, шовдарь не влазил, приходилось обрезать края.
Вот так и лежат они плашмя, как брёвна за сараем, из поколения в поколение: дочка, мама, бабушка, прабабушка. Концы обрезать надо – и всё тут, а зачем – никто не знает. Если не бревно – то проститутка, а они чесні жони. Тут закон и табу. Глаза – в потолок, мысли – на кухне. Тоска и никакой радости тела. Всю жизнь. Хоть бы напоследок насмотреться, натешиться. Как говорится, визуальный ряд. Жаль, самому таланта и фантазии не хватает, а так бы ваял, не фиг делать.
Полтора часа тусни в парнике застеклённого зала, смех, поздравления, фото на память, еда, пиво, водка, вино. Снова еда, пиво, водка, пение «многая літа» не один протокольный раз, по вдохновению, потом недоразумению, и, наконец, от избытка чувств и сколько душа пожелает. Искушённый зрительский глаз понемногу понимает, что весь этот прущий со стен галоп случки им надоел, устали. Сам юбиляр не вынес гипертрофированной мощи своей фаллической сути и вдруг исчез, видимо, пошёл праздновать кулуарно. Гости потянулись к выходу. Те, что помоложе, поспешно покидали зал, те, что постарше – медлили и не уходили.
Постепенно они перетекли, наполнили веранду, как аквариум, выползли из стеклянного террариума галереи на свет божий. Сначала появились рука об руку две дамы очень зрелого бальзаковского возраста. Они уселись за столик, достали из сумочек по китайскому вееру в райских птицах и усердно замахали ими перед лицами. Тут просится: с лиц снегом падала пудра, но нет, пудры никакой не было, если и была, то её давно смыли потные реки. Дамы чем-то напоминали рыб из семейства карасей или толстолобиков, возможно, щук, но если щук, то как быть с зубами. Интересно, какие они у старых щук? Может, жёлтые и не страшные. Пеньки, съеденные хищницами. Так, царапнут косвенно и не больно. Признаюсь, совсем ничего не разбираюсь в рыбе. Полный профан. Только в готовом изделии. Люблю горбушу холодного копчения, чтоб твёрденькая, не разлезшаяся, селёдку, свежежареный продукт и весёлую уху из всякой всячины, но больше думаю о рыбе, когда вижу людей. Бывают же сходства: выцветшая прозрачная голубизна глаз без смысла и выражения, не глубокая, плоская, даже мелкая, как подсинённая вода в блюдце, зев шевелящегося малоподвижного рта, закид ноги на ногу – томный взмах ленивого хвоста.
Дамы мутили воду разговора и ели мороженое. Та, что с голой спиной, прославилась долгими судами за наследство. Дело выиграла, всё распродала, рассчиталась с адвокатами, наняла такси и укатила с внуком в путешествие по Украине. Отсутствовала бабушка месяц, промотала целое состояние и успокоилась: сбылась мечта. Теперь можно доживать век, как в нашей стране принято, без средств: варить бледную кашку, нянчить кота и жить воспоминаниями.
Дама с декольте по паспорту числилась музой. Роковую печать в главном документе личности больше воспринимала как запись в трудовой книжке. Работа досталась ей каторжная. Эта сволочь не давала расслабиться: то загул, то месяцами отсутствие, то баба. Она бдила день и ночь, контролировала, наставляла, скандалила, устраивала на людях бурные выездные семейные сцены на всеобщем обозрении – бесполезно, но какой всё-таки кот. Глаза масляные, гладят, ласкают. Правда, теперь больше не её, других женщин, но зато она в лучах его славы и даже попадает под ореол.








