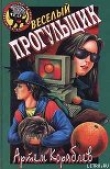Текст книги "Прогульщик"
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Бутылка с клеем
Гоша ложится спать и сразу вскакивает. В бок впивается что-то твердое. Заглянул под простыню – там бутылка с клеем. А ребята посмеиваются.
– Кто? – хмуро смотрит на них Гоша. Но можно не спрашивать. Климов, конечно. Другие тоже не голуби, но Климов – это Климов. Он и не отпирается, хохочет.
Надо бить. Сразу и крепко. Почему медлит Гоша? Нет, он не боится Климова, хотя Вова здоровее Гоши и дерется злее. Просто связываться неохота. Вот и все. И сразу находятся оправдания. Климов вот-вот уйдет из интерната – чего же с ним связываться? Кончится же когда-нибудь эта волынка с усыновлением. Десять раз в день Климов повторяет: «Меня усыновляют, еще немного осталось. И я от вас уйду. А вы тут кукуйте».
И кому говорил-то! Лиде Федоровой. У нее сразу полные глаза слез. Ее-то родная мать забыла, месяцами не приходит. Близко живет, но даже по воскресеньям не приходит никогда. Да разве одна Лида? Все мечтают, чтобы их усыновили. А усыновили одного Климова.
Гоша пульнул в Климова бутылкой с клеем, но промахнулся. И Климов захихикал еще ехиднее:
– Стрелок без ума! Тоже меткий нашелся!
– Ох и гад ты, Климов, – почти мирно вдруг сказал Гоша, – скорее бы тебя усыновили. Выкатился бы ты отсюда.
Климов почему-то не отозвался. Чего это он? Гоша удивился. Чтобы Климов промолчал – так не бывает.
А Вова Климов уже не хохотал. Он повернулся вдруг к стенке и сделал вид, что спит крепким сном.
– Вова, ты спишь, что ли? – спросил Женька Палшков. – Давай страшные истории рассказывать, Вова.
– Сплю. Выруби звук.
В спальне постепенно стало тихо. И скоро все заснули. Потому что давно известно: если не бросать друг в друга подушками, не рассказывать страшные истории, не смеяться и не прыгать по кроватям, засыпаешь довольно быстро.
Тихо посапывает спальня, только Вова Климов лежит и смотрит в темноту. Он один знает, почему не хочется ему сегодня беситься и носиться. Он знает, а больше никого это не касается.
…После ужина Климова вызвал к себе директор. Наконец-то. Вова помчался вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Усыновление – что же еще? Раньше его вызывали в кабинет директора из-за разбитых тарелок, один раз – из-за голубя, которого Вова ловко поймал и привязал за ногу к забору. Теперь у него, у Вовы, в этом кабинете совсем другие дела. Наконец пришли все нужные документы. Интересно, сегодня его отдадут отцу? Или придется ждать до завтра?
– Садись, Климов, – сказал директор. Вова насторожился. Разговор должен быть коротким, и садиться вовсе не обязательно. Уши у Вовы запылали, узкие недобрые глаза уставились на Андрея Григорьевича. А директор вел себя странно. Он мялся, мычал и никак не мог начать разговор. Такое Вова видел впервые, хотя прожил в интернате уже три года.
– Вот какое дело, Вова Климов. Понимаешь, усыновление твое откладывается. Ну, не получилось. Ты не особенно расстраивайся, в общем, не пойдешь ты домой. Пока. А живи пока здесь. Ну чего ты, чего ты?
Климов жестко ответил:
– Я ничего.
И тут плечи у Вовы затряслись, лицо сморщилось, слезы покатились, горькие, как морская вода.
Директор молчал, отвернулся. Потом сказал:
– Ты взрослый парень, я с тобой по-взрослому буду говорить. – Директор вертел в руке какую-то тетрадку, сердце колотилось, и лекарство, которое он проглотил перед Вовиным приходом, совсем не помогало. Директор продолжил: – Считается, что любой дом лучше, чем интернат. Ну считается, и, наверное, правильно. Так и есть. Дом есть дом. Но, понимаешь, все-таки не любой. Не любой, Вова. И я не могу допустить, чтобы ты опять оказался среди безобразия, среди опустившихся людей. Подонков. Я за тебя отвечаю. Сегодня состоялся суд, были свидетели. Люди знают жизнь твоего отца. И я тебя не отдал. Твой отец, Вова, не начал новую жизнь. Обещал, но не смог. Вот все, парень. Такие дела.
И директор Андрей Григорьевич замолчал, опустил свое толстое лицо. Так они и сидели, Вова Климов и директор. Молчали. Потому что говорить было нечего.
Вова утер рукавом лицо.
– Я пойду?
– Иди, Вова. И держись. Ступай, Климов.
…Об этом разговоре не знал никто. И ни один человек не заметил, что в этот вечер Вова Климов был не похож на себя. Грустный или, например, заплаканный. Да ничего подобного. Он, как всегда, толкался, дразнился, ко всем приставал. Только в самой глубине его узких глаз была печаль. Но кто станет присматриваться к глазам Климова? От его кулаков увернуться – и спасибо.
Незадолго до сна Климов пробрался в спальню и деловито сунул Гоше в постель бутылку с клеем. Так ему захотелось, Климову. Когда Гоша обнаружил эту бутылку, опять никто не удивился. Климов, как обычно, шутит. Нечушкин, как обычно, сердится на Климова. Делов-то.
Когда Галина Александровна заглянула в спальню, чтобы сказать им «спокойной ночи», все было тихо.
Она удивилась и заспешила домой.
Сегодня будет ответ

Почему так бывает: когда чего-то очень сильно ждешь, оно никак не случается? И ты постепенно устаешь надеяться. Ты перестаешь ждать. Отвлекся, забыл – и тут оно как раз случится.
Гоша Нечушкин сильно раскачался на качелях, еще сильнее, еще – и качели подлетали высоко. С высоты он видел весь двор. Черные деревья, футбольное поле. Там сегодня играли большие, и младшие не лезли. Гоша качался, и ветер дул сначала в лоб, потом в затылок. И было весело, и хотелось петь и орать во все горло. Но ни петь, ни орать Гоша не стал.
– А Гоша-то смелый, – вдруг сказала рядом Ира Косточкова. – Вон как летает.
– Смелый-угорелый, – откликнулся сразу Климов. – Да, Ира? Смелый-угорелый! Ха-ха-ха!
Но Ира Косточкова пожала плечами:
– Ах как остроумно!
И пошла тихонечко по дорожке между тополями. Трепыхалась на ветру легкая косыночка, которую Ира повязывает поверх куртки.
«Чего это она?» – удивился Гоша. Но как раз тут Вера Стеклова позвала:
– Гоша Нечушкин! Иди скорее! Бабушка приехала!
Все остальное тут же вылетело из Гошиной головы.
Он рывком остановил качели и помчался через двор. Приехала бабушка! Вот оно и случилось! Сейчас наконец он все узнает. Прошло очень много времени, и мама, конечно, получила письмо. И наверняка прислала ответ. Его мама! Она приедет! Он увидит ее! Может быть, она уже в дороге? Едет в поезде. Или летит на самолете. Или на вертолете. А вдруг она уже в Москве? И теперь едет в троллейбусе? Или в метро? И спешит, спешит к своему сыну. Конечно, спешит – каждая мать спешит к своему сыну.
Бабушка сидела в вестибюле, рядом на скамейке лежал прозрачный пакетик с сушками, еще какие-то гостинцы.
Увидев внука, закивала.
– Подрос вроде, Гошенька.
– Вырастешь, пока тебя дождешься. – Он запыхался, смотрел на нее в упор, ждал.
– Вот сушки привезла твои любимые, чайные. А это леденцы, пососешь, развлечение все же.
– Ты мне про сушки не рассказывай. Ты про главное говори. Про письмо.
– Про письмо? – Блеклые глазки заморгали непонятливо. – Про какое письмо, Гошенька?
– Бабушка! Ты что? Ты отправила письмо-то? – Он хотел сказать «маме», но слово застряло в горле, не выговаривалось. И он сказал: – Которое я тебе дал? Письмо? Отправила?
– Ах, это? А как же? Отправила. Адрес написала, он у меня в белой книжке был записан, адрес и цифры индекса. Я в тот же самый вечер опустила в ящик у аптеки. А как же? Письмо – дело такое. Ты меня, Гоша, знаешь: сказала – отправлю, значит, отправила.
Она посмотрела ему прямо в глаза и повторила:
– Отправила, ящик-то около аптеки, туда дойти мне две минуты. Хотя ноги стали не те, болят ноги. Плохо хожу. Но до аптеки – момент дойти, рядом.
– А ответ? Ответ пришел, бабушка? На письмо ответ.
– Ответ?
Бабушка шевелила губами, часто моргала. Чего она переспрашивает каждое слово? Разве непонятно? Человек написал письмо – человек ждет ответа.
– Ах, ответ. Нет, Гошенька. Чего нет, того нет. Не пришел еще ответ, Гошенька.
Не пришел. Сердце сжалось, стало маленьким. И стало как-то все безразлично, скучно. Не пришел ответ. Мама не написала ему. Как же так? Почему она не пишет? Почему она не едет? Нет, не мчится она в эти минуты на самолете. И в поезде не едет, даже в самом медленном. И простого письма ему не написала.
Бабушка заговорила быстро и энергично:
– Больно ты быстрый, Гоша. Сразу тебе ответ. Надо терпение. Не в голоде живешь, не в холоде. И одет-обут. И на чистой постели спишь. Вон щеки-то отъел. Письмо! Жди, имей совесть.
Он ничего не ответил. Какая-то правота была в ее словах. Одет-обут-накормлен. Так и есть. И даже рубашки у всех разные, чтобы не было казенного вида. И водолазки новые. А у девчонок нарядные платья и бантики в волосах. И кормят нормально. Но как объяснишь, что ничем на свете нельзя заменить дом и маму? Разве можно это объяснить? Гоша и не пытается. Вздохнул, стал грызть сушку. Спасибо еще, что бабушка не стала ругать маму, обзывать ее кукушкой, перелетной птицей. Кукушка бросает своих детей навсегда. А Гошина мама не кукушка. Она напишет ему, она приедет. Он же чувствует: это непременно будет. А пока надо терпеть, ждать. Больно он быстрый.
– Бабушка, как только письмо придет – сразу принеси. Договорились, бабушка?
– А что же? Мне прийти ничего не составляет. Я крепкая. Ноги вот только. – Она сунула ему в руку несколько смятых рублей. – Купи себе конфет. Смотри, деньги не потеряй.
Бабушка пошла шаркающей походкой, у двери обернулась:
– И апельсины, и пианины! Вон как живешь. Грех жаловаться.
– Я хоть раз жаловался? Хоть одно слово сказал?
Так некстати подступают слезы. Но Гоша умеет их проглатывать.
Деньги он сунул поглубже в тумбочку и забыл про них. Не нужны ему конфеты, ему письмо нужно.
Деньги
Сегодня на фабрике платят деньги.
Гоша отошел от окошечка кассы с пятью рублями. Еще и сорок копеек получил. А у Климова было пять шестьдесят. На двадцать копеечек всего больше. Но Климов расхвастался:
– У кого больше всех? У меня больше всех! Я лучше работал! А вы все во! – Он приставил ладони к вискам и помахал ладонями, изображая болтающиеся по ветру уши. – Лопухи!
Галина Александровна остановила:
– Вова, успокойся. Работал, как все, а шумишь больше всех.
– Нет! Не как все! Денежки зря не платят! Правда, Зоя Викторовна?
Бригадир Зоя Викторовна смотрела, как они подходят к кассе, как получают свои заработанные впервые в жизни деньги. Все вели себя по-разному. Ира Косточкова взяла деньги, гордо махнула хвостом – норовистая лошадка. Денис пересчитал рубли, не торопясь, – основательный парень. Лида Федорова тщательно сложила пятерку. Гоша Нечушкин взял деньги и слегка улыбнулся. Доволен, но сдержанно глядит. У таких чувства не напоказ. Хороший какой парень. И такого мать бросила. Разве это матери? Хуже зверей. А вот маленький Женя Палшков, он получил всего четыре рубля. Меньше всех, но нисколько не расстроился. Вот Алеша Китаев получил деньги. Поглядел на них как-то удивленно. Надо же – целая пятерка. Никогда Алеша не держал в руках такой огромной суммы. Повертел, потом убрал. Зое Викторовне хотелось сказать: «Сунь в карман поглубже, потеряешь еще».
А Настя прыгает с деньгами:
– Я брошечку в «Галантерее» куплю! Как раз пять рублей. Здесь сердечко, здесь висюлечка, а здесь камушки блестят. Галина Александровна, отпустите меня завтра в «Галантерею»? Там же дорогу переходить не надо. А, Галина Александровна?
– Ха, брошку! А я куплю фотоаппарат. – Денис Крысятников неодобрительно глядит на несерьезную Настю. Брошечка какая-то.
– Фотоаппарат знаешь сколько стоит? – Слава Хватов и сам не знает сколько. Но, конечно, не пять рублей. – Очень много.
– Ничего, накоплю, – отвечает Денис.
– А я куплю взрослые колготки, – объявила Ира Косточкова, – как раз пять рублей.
Вот они уходят и Зоя Викторовна провожает их до проходной.
– Мы в пятницу опять придем, до свидания!
…А вечером сразу у четверых пропали деньги. Первым обнаружил пропажу Гоша Нечушкин.
Во время ужина он вспомнил, что оставил свои пять сорок в кармане куртки, а куртку повесил в раздевалке при входе. Куртка и должна там висеть, а деньги хотелось Гоше оттуда убрать. Чтобы были тут, поближе. Ему было бы приятно время от времени трогать эту пятерку, смотреть на нее, перекатывать в ладони две монетки по двадцать копеек. Заработанные.
Он сразу побежал в раздевалку, это рядом со столовой. Сунул руку в карман – он был пустой. Денег не было. Ни бумажки, ни монеток. Не тот карман? Гоша вспотел. В другом кармане лежал гладкий камешек. Больше ничего. Как так? Потерял? Переложил? Он стал шарить по всем своим карманам – два в джинсах, два на рубашке. Все, нигде денег не было.
Гоша вернулся в столовую, и Галина Александровна только взглянула, сразу спросила:
– Что случилось? Что с тобой, Гоша?
– Деньги были в куртке. Их нет. – Губы пересохли у Гоши, он говорил очень тихо. Но все услышали. Сразу бросились из столовой несколько человек.
Выяснилось: все, кто оставил заработанные деньги в раздевалке, обнаружили пустые карманы. Деньги украли. Кто?
– Кто?
Этот вопрос не задавали вслух. Понятно было, что ответа на него нет. Климов посмеивался:
– Я свои деньги в ботинок положил. Вот они, целы.
– Почему в ботинок? – Лида Федорова отвела со лба прядь. – Ну почему, Климов, в ботинок?
Она хотела сказать: я не хочу думать, что вокруг меня воры. Я сама никогда не ворую, и ни на кого не думала. А деньги я кладу в нормальный карман. Я ни на кого не думаю, и на меня никто не думает. А в ботинок – это противно. Вот так сказала бы Лида золотистая, если бы сумела выразить свою мысль словами.
– Противно быть таким, который кладет деньги в ботинок, – согласился с Лидой Алеша Китаев.
– Ну и сидите без денег. – Вова Климов не стал вдаваться в тонкости. Ему ясно одно: спрятал получше, вот и не украли. А не спрятал – сам виноват.
У Вовы настроение хорошее, он не остался в дураках. Он даже не озабочен тем, что многие подозревают именно его, Вову Климова. Подозревают? Это их дело.
Галина Александровна в полном отчаянии. Климов? Не может быть. Не Климов? А кто же?
Галина Александровна ловила себя на том, что подозревала Вову Климова. Не хотела, а все равно думала. Где был Климов, когда все сидели в столовой и ели рисовую кашу? Он, кажется, сидел на месте. Или выходил? Нет, вроде не выходил. А если даже выходил – разве это доказательство?
Галина Александровна одергивает себя: нельзя так думать о Вове Климове. Кража – это гадость. Подозрение – тоже гадость.
Что делать? Она ехала в тот вечер домой измученная. В метро было мало народа: все нормальные люди давно дома. А ей еще ехать через весь город. А сил нет никаких. Все люди устают на работе – от дел, от нервных нагрузок. Но больше всего мы устаем от неудач и огорчений. Уже глубокой ночью, засыпая, она сказала себе:
– Все-таки не Климов.
Просто похожая девочка
Девчонка опять торчала у забора. Кто же она? Почему приходит сюда? Кого высматривает?
Гоша сегодня издалека заметил ее. Очень она похожа на Светку-Сетку. Быстрые узенькие глаза-рыбки, тонкие брови, длинный тонкогубый рот. И ехидное выражение лица.
– Сетка, – неуверенно позвал Гоша. И побежал к забору. Он даже оставил мяч посреди поля, и Денис Крысятников из-за этого пропустил гол – очень уж внезапно исчез Гоша Нечушкин. А он летел к забору. Уж больно похожа девчонка на Светку. И сердце подпрыгнуло: «Она!» А поверить Гоша не мог – чего Светке тут делать? Наверное, в сумерках ошибся Гоша Нечушкин. Все-таки позвал еще раз: – Светка! Ты, что ли?
– Еще чего, – отозвалась девчонка и кинулась прочь. Мелькнула, как всегда, светлая курточка. Да смех долетел издалека.
И нет ее. Летят грузовики. Притормозил на остановке автобус. Нет, конечно, не она. Просто похожая девчонка. Мало ли таких же, как Светка.
– Нечушкин! Иди доиграем, пока видно! – звал Денис.
И другие кричали:
– Эй, Гоша! Давай к нам!
А он махнул рукой, не пошел. Хорошо, когда тебя зовут. Но почему-то надоело гонять мяч, носиться и вопить. Хотелось побыть одному, подумать. О чем? А так, обо всем сразу.
Но думал он не обо всем сразу, а о ней, о Светке.
Она была бешеная, к ней нельзя было привыкнуть. Наверное, поэтому ее нельзя забыть. А Гоша хотел забыть ее. Не получалось. Нет, он вовсе не думал о ней часто. Иногда и неделя пройдет, а он ни разу не вспомнит о Светке-Сетке. Дел много поважнее. Но вдруг ни с того ни с сего Светка явится перед его глазами, скорчит рожу или покажет язык. Страшила. А эта девочка у забора красивая, гораздо красивее Светки. Нормальная девчонка. Наверное, близко живет. Может быть, у них скучно во дворе, ей не с кем играть, вот она и торчит у интернатского забора, смотрит, как они возятся, бегают, кувыркаются. Со стороны жизнь интернатских очень даже веселая – они толпа, они шумят. Что еще людям надо?..
– Нечушкин! Ты где? А вот он, на лавочке сидит! – Это звала его Настя.
И подбежал Климов:
– Сидит! Иди давай, – и схватил Гошу за рукав. – Нам теперь все известно! Пошли, пошли. Нечего.
Гоша не понимал. Отбросил Вовину руку.
– Сам иду, чего ты вцепился?
В игровой сидели все ребята, они смотрели на Гошу. И странный вид был у них. И Вера Стеклова, и Денис, и Женя Палшков – все в упор разглядывали Гошу.
– Давай, Нечушкин, сознавайся, – сказал Слава Хватов. – Эх ты, Нечушкин! Каким оказался.
Гоша опять ничего не понимал. Только тоска навалилась – происходило что-то тяжелое, необъяснимое.
– Где Галина Александровна? – спросил он почти неслышно.
– Директор вызвал. Да при чем здесь она?
– Ты сам по себе это сделал, сам и признавайся.
– Теперь уж не обманешь никого!
– Надо же – в тумбочку запрятал и помалкивает!
Гоша озирался, вокруг были недобрые чужие лица.
– Какая тумбочка? Не пойму что-то. Про что вы говорите?
– А вот! – Денис Крысятников выложил на столик пачку смятых рублей. – Вот же! В твоей тумбочке нашли! Что теперь скажешь?
– Скажет – бабка принесла, – захихикал Климов.
– Она и принесла. – Голос у Гоши хилый какой-то, неубедительный. И все засмеялись зло.
Вот оно что! Горячая волна ударила в лицо. И сразу стало холодно. И очень одиноко. И так тяжело, что выдержать было невозможно.
Он стоял и молчал. И понимал: нельзя молчать. Они все думают, что он украл те деньги. Как теперь объяснить? Чем доказать? Деньги оказались в его тумбочке!
И Гоша молчал. Глаза глядели вниз. Он тупо разглядывал пластиковый пол в зеленую и желтую клетку. Выдавил из себя:
– Я не брал. Мне их бабушка дала.
– Ха! Бабушка!
– Все еще отпирается!
– Откуда у твоей бабушки деньги-то?
Тут вошла Галина Александровна.
– Гоша? Ребята, что происходит?
Он хотел объяснить. Она все должна понять. Но деньги оказались в его тумбочке. И говорить было нечего.
– Вот он деньги украл, – ответил Климов. Он сидел на подоконнике и сверху смотрел на всех. – И отпирается. Сознавайся, чего уж теперь. Он и печенье в «Универсаме» своровал еще до интерната, я знаю.
Галина Александровна молча смотрела на Гошу. А он не мог выговорить больше ни слова. Он кинулся к двери, бегом по коридору, вниз. Так и вылетел на улицу.
Все. Ушел из интерната навсегда.
Письмо


Гоша выбежал и сам не знал, как поступит дальше. Повернет назад? И сделает вид, что вовсе не собирался убегать навсегда? Войдет как ни в чем не бывало в игровую, скажет спокойно: «Не брал я никаких ваших денег. Эти деньги мои, я их не успел истратить. Они там сто лет лежат в тумбочке». Он скажет, и они поверят. А кто взял – Гоша все равно узнает. В глубине души ему хотелось вернуться. Но для этого надо было, чтобы позвали и потом поверили. А так вернуться он не мог. Слишком сильной была обида. А доказывать им он не станет.
Ноги тем временем сами несли его к метро. Влез в лужу, промочил ботинок. Голова соображала плохо – перемешались в кучу все печали, большие и мелкие. Мама не едет и писем не пишет. И кровать по-прежнему у самой двери. А в обед сегодня ему достались одни кости. Другим – куриная ножка или белое мясо вообще без костей. А ему – ребра какие-то. Разве это справедливо? Думал раньше, дурачок, что Галина Александровна его любит. Ха, любит. Она всех любит, у нее работа такая – заменять несчастным деткам маму. Тоже мама нашлась – сразу поверила, что он, Гоша Нечушкин, деньги стащил. Мама бы не поверила, настоящая мама-то.
Вот она – главная беда. Они все на него подумали. И никто не засомневался. Главная боль точила его. Остальные забылись сразу – плохой кусок за обедом, плохое место в спальне. Одна беда осталась: никто не любит. И он заплакал.
В метро женщина в большой шапке, из-под которой выглядывало маленькое лицо, наклонилась к нему:
– Почему ты плачешь? Тебе помочь?
Он стал плести про больную старенькую бабушку. А мама как раз на юге. А папа-шофер в городе Риге. А ему срочно надо к двоюродной тете в Перовский район. А пятачок потерял.
Женщина опустила за него пятак.
– Успокойся, все обойдется.
Она спешила, как все. Ушла вперед по эскалатору. И никто больше не замечал заплаканного мальчика. У всех свои мысли, свои раскрытые журналы, свои «Вечерки». И это очень хорошо. Никто не пристает с расспросами.
Летит поезд. А вдруг там, дома, как раз сегодня пришло письмо? Пришло и лежит! Гоша сразу поверил: так оно и есть! Письмо ждет его дома. Оно лежит на окне. Или на столе. Или в ящике комода. Письмо от мамы. Она приедет, и он будет с ней. А они пусть тогда сами разбираются там у себя в интернате. Плевать на всех.
Он вошел в свой двор. Хотел сразу кинуться домой, но остановился. Надо подождать. А то бабушка схватит и отвезет назад. У нее ума хватит, у бабушки. Он потерпит, он придет домой поздно, и так будет умнее. Вошел в теремок.
Бревенчатые стены и крыша укрывали его от дождя, но не от холода. Он застегнул курточку, натянул капюшон, руки сунул в рукава. Куртка оказалась не его, он только теперь заметил. Второпях схватил с вешалки Иркину, красную. А его, зеленая, осталась там висеть.
Из домика видна блестящая большая лужа. И дождь по ней – тюп-тюп-тюп. Чьи-то шаги зашлепали по воде.
– Эй, ты чего тут оказался? Я тебя из окна узнала. – Светка-Сетка. – Отпустили, что ли? Чего молчишь?
– Не твое собачье дело.
Светка засмеялась. Неужели повернется и уйдет? Нет, осталась. Куртка накинута на плечи, она без шапки, капли в волосах сверкают в свете фонаря. И глаза-рыбки, блестящие, быстрые.
– Эх ты, интернатский. Хочешь баранку?
– Давай.
Ему хотелось сказать: «Застрелись ты со своей баранкой». Но очень уж он проголодался. В интернате сейчас ужин. Они там расселись в столовой. И никого не волнует пустой стул Гоши Нечушкина. Все его ненавидят. А он их тоже ненавидит.
– Где я тебе возьму баранку? Ты мне и так рубль должен, забыл, что ли? А почему домой не идешь? Сбежал из интерната?
– Отпустили. На сколько хочешь.
– Ой, врешь.
– Уйди ты, выдра надоедливая. Настырность твоя… А рубль тебе за меня Стасик отдал. Забыла?
– Напомнил, я и вспомнила. Ладно, пойду.
Хоть бы еще минутку постояла она тут. Ну самую маленькую минуточку. И он сказал:
– Кто тебя держит? Иди, шагай, проваливай.
– И пойду. – Но почему-то не уходила. Все назло делает.
– До чего ты, Светка-Сетка, противная. Ты мне сказала миллион ехидных слов. Ну что ты за человек?
– Я? А я не человек, – пропела она кошачьим голосом, – я девочка. Пусть я не такая красивая, зато обаятельная.
– Кто тебе сказал – плюнь ему в глаза. Наврал, пошутил. «Обаятельная»! С ума сойти. Ты Стасика не видела? Мне он нужен, Стасик.
– А почему ты не можешь сам к нему зайти? Взял бы и зашел. «Здравствуй, Стасик, это я».
– Так ведь бабушка в окно глядит. – Гоша спохватился, что сказал лишнее. А она усмехается. Как объяснить, почему ему нельзя выйти из этого промозглого теремка. Забормотал, как Славка Хватов:
– Пришел, а тут как раз и дома, наверное, не застану. После, сказано.
Славка Хватов делает это гораздо лучше. Не хочется ему отвечать на вопрос – он не молчит, молчание вместо ответа сердит людей, раздражает. А тут не придерешься: человек ответил. А если ты не понял, то сам и виноват. Один раз Галина Александровна спросила: «Слава Хватов, это не ты ли пролил кисель? Там у всех ноги к полу прилипают, в столовой. Не ты?» А Славка тут же ответил: «Вчера как раз были, там дискотека и большие все танцуют». Потом долго смотрел на воспитательницу, вопросительно молчал. Чего же вам еще? Я все сказал.
Галина Александровна как захохочет. Хорошо, что она с юмором. Посмеялась, дала Хватову тряпку, он вымыл пол в столовой – кисель довольно легко отмывается, это не жир.
– Ты не бормочи, хитрый нашелся, – скривилась Светка. – Забрали в колонию твоего друга Стасика. А ты даже не знаешь. Отправили уж давно. Уголовный тип.
– Ты что? Опять? Нет, правда? Стасика?
– Стасика. А ты артист интернатский. Вопросы еще задает. Походил бы со своим Стасиком и сам бы мог свободно там оказаться.
И она ушла.
Дождь кончался, и во дворе сразу появились какие-то девчонки. Но куда им было до Светки-Сетки! Идет, как танцует. Ногу ставит на носочек, а пяткой земли не касается. Летящая Светка-Сетка. За что Гоша ее так ненавидит? Страшила законченная. Руки длинные, ноги тощие.
Как же это со Стасиком-то?
Гоша еще долго сидел бы там. Но вдруг опять появилась уверенность: дома он найдет письмо от мамы. На столе найдет. Или в комоде. Только прочитать письмо, и сразу все станет хорошо. Вся его жизнь станет хорошей, ясной, новой. И он никогда не вернется в интернат. Человек должен жить дома.
Поднялся по лестнице, позвонил в свою дверь. Бабушка сразу открыла:
– Во! Жду, жду. Пешком, что ли, тащился? Воспитательница давно уж мне звонила.
Нисколько не удивилась бабушка, не обрадовалась встрече с единственным внуком.
– Звонит – «ушел». Надо же додуматься – уйти.
В кухне на окне письма не было. Заглянул в комнату. На столе были раскиданы старые темные карты. Бабушка со своей Терентьевной опять гадали: для себя, для сердца, для дома. Они и раньше, когда Гоша жил дома, без конца гадали. Вернется к Маргарите Терентьевне любимый человек или не вернется. И всегда им карты показывали, что вернется совсем скоро. Бабушка раскладывала карты и говорила:
– Ему дорога лежит к тебе, Терентьевна.
А Терентьевна отвечала:
– Не впущу. Дверь даже не отопру.
Бабушка все знала, но обязательно спрашивала:
– Почему же так?
– Перегорело, – жестко отвечала Маргарита Терентьевна.
Бабушка загремела сковородкой:
– Ешь оладьи, Гоша.
Он ел и ждал: вот сейчас она скажет про письмо. Но она не говорила. Неужели она не получила его до сих пор? Ведь прошло так много времени – целая вечность.
– Ешь, ешь. Переночуешь. Завтра поедем назад.
Она была почти трезвая и очень непреклонная. Он глотал горячие оладьи. Пришла Маргарита Терентьевна.
– Гоша пришел? Вот как? – И поставила на стол бидончик.
Бабушка дружит со своей Терентьевной, а Гоша им только мешает.
– Я здесь, между прочим, прописан, – хмуро говорит он и уходит в комнату.
– Ложись, ложись. – Бабушка жалеет его, и поэтому говорит сердито. – Завтра рано вставать. Прописан он – деловой нашелся.
Он быстро постелил и улегся на свой коротенький диван. Так сладко было на нем лежать – знакомая пружина слегка впивалась в спину, подушка была не интернатская, домашняя.
В кухне Терентьевна говорила:
– Не переживай. Ему в интернате лучше. Знаешь, почему? Потому что ты ведешь нетрезвый образ жизни.
– Вот и расстраиваюсь, – вздыхала бабушка и наливала себе в стакан. Булькало, булькало.
– Брось. У него жизнь впереди, а тебе сколько осталось? Еще и не выпить. Твое здоровье. Мы с тобой общаемся. Это необходимо в пожилом возрасте – контакты. Иначе полное одряхление.
Терентьевна нарочно говорила громко, ей хотелось, чтобы Гоша слышал. И он слышал каждое слово. И понимал, что все это вранье и чепуха. Пить – гадость и подлость во всяком возрасте. И пусть Терентьевна не городит чушь в свое оправдание. Раньше Гоша всегда воевал с ними, доказывал, что пить стыдно, тем более женщинам. Тем более старым.
Зазвонил телефон. Бабушка сказала:
– Спит. Надо было смотреть лучше. Вы за это отвечаете. Завтра привезу.
Гоша встал, бесшумно подошел к старому комоду, тихо-тихо выдвинул ящик. Груда бумажек: справки, квитанции, бабушкин паспорт. Пачка фотографий, перетянутых аптечной резинкой. Мама. Она держит на руках ребенка в распашоночке. Это Гоша. Глупый, таращится, открыл беззубый рот. А мама смеется – красивая. Вот какой у меня сынок, вот как я прижимаю его к груди. И никому никогда не отдам. Мой, мой ребенок.
Долго Гоша разглядывает фотографию.
– Гаси свет наконец-то! – Бабушка подала голос из кухни.
– Сейчас!
Положил фотографию на место. И тут рука дернулась, будто наткнулась на горячее. Письмо! Оно лежало в углу ящика. Знакомый конверт – птица чибис с тонким, как шило, клювом. То самое письмо! Как же так? Он отдал его бабушке очень давно. Она обещала написать на конверте адрес и отправить. «Опущу в ящик около аптеки» – так она сказала. А теперь что же? Он тупо, не понимая, разглядывал конверт. Никакого адреса там не было. Письмо не было опущено в почтовый ящик. Оно валялось в комоде. С тех самых пор.
Гоша стоял весь пустой внутри. Надежда ушла, что осталось?
Бабушка вошла в комнату.
– Кому я сказала спать? Нет, кому я сказала? Он молча протянул ей письмо. Она смотрела, стараясь сообразить. Потом стала кричать:
– Не отослала! Да! А куда прикажешь отсылать? Она мне адрес не шлет года три! С места на место летает, кукушка окаянная! Она о тебе и не помнит давно! А ты мне из-за нее последние нервы дерешь! Кончай волынку с письмом этим. Живешь, сыт, и живи спокойно.
Выключила свет и хлопнула дверью. Очень громко она орала, значит, сильно жалела Гошу.
Ох, бабушка, бабушка. А как врала тогда, честно глядела, а все сочинила. «Адрес в белой книжке». Никакого адреса. У нее и книжки-то сроду не было, тем более белой.
Бабушка не слышала, как, уткнувшись в подушку, горько, безутешно плакал ее единственный внук.
А потом он незаметно уснул. Но даже во сне помнил, что ему надо очень рано встать.
Он и проснулся очень рано – в шесть. Было совсем темно, бабушка похрапывала. Гоша быстро оделся, неслышно отпер дверь, выскользнул из квартиры.